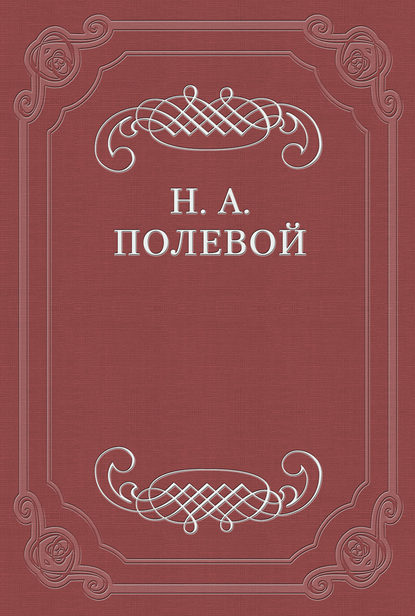По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клятва при гробе Господнем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Три дня, каждый вечер, продолжались подобные гулянки. Радовались все подданные князя; приезжали поздравлять его даже все монахи из Каменского и Куштинского монастырей. На четвертый день угощали обедом их и духовенство, а простому народу выкатили целые бочки браги. Невеста являлась только по вечерам; днем была она невидима, и только жениху позволялось утром, на минуту, являться в ее терем. Шемяка забывал весь мир. Пора было миру сказаться счастливому князю: он был слишком счастлив!
Глава IV
Тюрьма ты моя, тюрьма крепка!
Пошире ты гробовой доски,
Да тяжеле ты ее в сотеро,[152 - В сотеро – т. е. в сто раз.]
Подлиннее ты домовища дубового,
Да теснее в тебе молодцу удалому!
Старинная песня
– Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? – спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку. «Правда», – отвечал Гудочник, усмехнувшись.
– Не иму веры, дондеже не… – боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.
«Дондеже не положу железы на руце и нозе его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», – прибавил Гудочрйк.
– Воля твоя, старый хрен – это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?
«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».
Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»
– Боярин! есть всему мера – и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.
«Он помешался!» – сказал Старков, усмехаясь жалостливо.
– Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка засватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быти во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тестюшка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты последние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем…» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня – помирись с Великим князем!» Эти слова – немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не враждую, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда в то же время брат мой сбирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» – «Злые люди разлучили всех вас – не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Димитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» – «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и – прямо в Москву!» – вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. – «Да! в Москву! – продолжал Шемяка. – Если приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедля, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое – отправляйтесь туда; верно, вы застанете уже там брата Димитрия – я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирялся; но он питает вражду, семя диавольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» – Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем… Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.
Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»
– Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?
«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас – однако ж… хм!.. садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, – примолвил Старков, указывая место Гудочнику, – садись и растолкуй, где пропадал ты с тех пор, что ты поделывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»
– Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий ворог, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце – мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое – мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу – от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?
«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл…»
– Изумляться ничему не надобно, – ворчал Гудочник, – даже и тому, что ты поумнеешь. – Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.
День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще гонец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.
Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело издалека.
Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.
Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича,
– Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доныне своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? – сказал Старков.
«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя, – отвечал Шемяка, – и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О, надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все – по-простому, по-дорожному».
Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.
– Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? – сказал Шемяка, оставшись с ними наедине. – Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром – давно не был я так весел и доволен.
«Кем, князь: собою или другими?»
– И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чествует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно – и в сердце и в судьбе моей. Что ты кряхтишь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлали тебе хозяева наши? – спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьею кожею.
«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».
– Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.
«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе…»
– Что?
«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рогатиною в руках. Не любится мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоем месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш… Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе… Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».
Шемяка не отвечал: он уже спал крепко.
Не прошло двух часов после того, как заснули Шемяка и сопутник его, дверь тихо растворилась, несколько человек вооруженных воинов вошло в избу, осторожно светя глухим фонарем. Старков следовал за ними. Тихо подошли они к оружию, сложенному на столе Шемякою и сопутником его, и схватили это оружие. Тут несколько человек бросились к Шемяке, несколько к Чарторийскому и уцепились им за руки и за ноги.
– Что? – тихо спрашивал Старков. «Не выскочат!» – отвечал один воин.
– Подавай же огня! – вскричал Старков, растворяя дверь в сени. Там стояло множество воинов с зажженными фонарями.
Едва мог опомниться Шемяка. Раскрывая с трудом глаза, еще отягченные сном, он не понимал: во сне или наяву видит он избу, освещенную огнями, и толпу вооруженных воинов. Он хотел перевернуться, не мог, и только тогда заметил, что несколько сильных воинов держат его крепко.
– Чарторийский! спишь ли ты, или нет? Что это такое?
«Не сплю, князь Димитрий Юрьевич, да пошевелиться не могу – меня держит дюжина здоровых рук».
– Князь Димитрий Юрьевич! – сказал тогда Старков, выступая вперед, – от имени Великого князя Василия Васильевича объявляю тебя пленником.
Шемяка не отвечал ни слова. Он безмолвно смотрел на всех, окружавших его, и наконец сказал с негодованием: «Да воскреснет Бог! Какой дурной сон мне грезится! Кажется, я не много выпил с вечера».
– Изволь вставать, князь Димитрий Юрьевич, и прошу пожаловать за мною, – сказал Старков, сам сторонясь за своих воинов.
«Неужели это не сон? – вскричал Шемяка, стараясь пошевелиться. – Прочь от меня! Эй, ты, боярин Старков, или сам черт в его образе! вели отпустить меня этим бесам, а не то я не оставлю в вас живой души – с людьми управлюсь мечом, с чертями крестом!»
– Прошу не буйствовать, князь Димитрий Юрьевич, или я принужден буду употребить силу.
Глава IV
Тюрьма ты моя, тюрьма крепка!
Пошире ты гробовой доски,
Да тяжеле ты ее в сотеро,[152 - В сотеро – т. е. в сто раз.]
Подлиннее ты домовища дубового,
Да теснее в тебе молодцу удалому!
Старинная песня
– Ну, великий господин, властитель всех бесов на свете! говори: правда ли это? – спросил боярин Старков, поспешно вставая, едва Гудочник вошел в комнату; боярин сидел в это время за столом, держа в руках большую оловянную кружку. «Правда», – отвечал Гудочник, усмехнувшись.
– Не иму веры, дондеже не… – боярин не пригадал, как окончить ему свою духовную пословицу.
«Дондеже не положу железы на руце и нозе его, и не упрячу буйной его головы в каменный мешок», – прибавил Гудочрйк.
– Воля твоя, старый хрен – это невероятно, этого не может быть! Повтори, что ты говорил мне?
«Глупость людская, особливо когда в дело вмешиваются бабьи глазки, всегда вероятна и вернее ума. Пожалуй, повторю: прежде я говорил тебе верные вести, что Шемяка хочет ехать сам в Москву; потом, что он едет; теперь говорю, что он скоро к тебе появится и что ты должен встретить дорогого гостя с подобающею честью, потому, что за этим именно послан ты сюда от Великого князя Василия Васильевича».
Старков крестился обеими руками: «И это точно подтверждается?»
– Боярин! есть всему мера – и вере и неверию. Сейчас прискакали расставленные по дороге ближние гонцы: Шемяка скачет за ними и прямо сюда, в село Братищи, где ты и я ожидаем его.
«Он помешался!» – сказал Старков, усмехаясь жалостливо.
– Нет! когда женится, то помешается, а теперь только дуреть начинает. Не знаю, однако ж, боярин, что тебе тут кажется непонятно! Я рассказывал уже тебе, что Шемяка засватался в таком семействе, где чарки не выпьют без земного поклона, а дети с рождения клобук надевают. Старик Заозерский начал увещевать князя, что ему, яко христианину и яко человеку, не годится быти во вражде с Великим князем; что благо смиряющемуся, и что блаженни миротворцы, яко тии сынове Божий нарекутся. Шемяка поколебался: ведь у него куриное сердце, скоро переходит и долго не продолжается. Тут и будущий тесть и невеста сильнее пристали к князю; призвали на помощь монахов; будущий тестюшка твердил одно: «Князь! отдаю я тебе мое единственное детище; препоручаю тебе и сына своего. Я стар, не сегодня, так завтра умру; если ты останешься во вражде, отравишь ты последние часы моей жизни, заставишь ты меня при дверях гроба думать не о спасении души, а о мире, где покину я тебя и дочь на произвол мирской бури. Да не зайдет солнце во гневе нашем…» Ну, и прочее, и прочее. А пока говорил это Заозерский и подговаривали ему монахи, молодая невеста прижималась к горячему сердечку жениха, роняла жемчужные слезки и только шептала: «Если любишь меня – помирись с Великим князем!» Эти слова – немного их было, да сильно отзывались они в сердце Шемяки: «Я не враждую, я давно простил московского князя. И теперь, когда я так счастлив, могу ли иметь на кого-нибудь злобу? Но Великий князь притворщик, хитрец, лукавый человек. Он ничему не поверит, когда в то же время брат мой сбирается на него войною. И могу ли я отдать ему брата головой?» – «Злые люди разлучили всех вас – не выдавай брата, но помири их: не может быть, не люди будут они, брат твой и Великий князь, когда ты изъяснишь брату своему всю невозможность борьбы с Москвою, когда Великий князь увидит в то же время твое доброе расположение. Они взаимно уступят друг другу, и мир процветет в потомстве Димитрия Донского! С каким весельем тогда встретим мы тебя, миротворца братьев, победителя не мечом, но словом честным и добрым!» – «Княжна Софья Дмитриевна! узнай, как я люблю тебя, как слушается твой жених твоего родителя: я еду завтра же и – прямо в Москву!» – вскричал Шемяка. Побледнела, задрожала молодая княжна-невеста. – «Да! в Москву! – продолжал Шемяка. – Если приступать к чему, так приступать душою и сердцем немедля, прямо, искренно. Я еду в Москву: звать на свадьбу мою брата моего Василия Васильевича, со всем его великокняжеским двором. В Угличе все у меня готово: терем светлый, мед сладкий, пиво крепкое – отправляйтесь туда; верно, вы застанете уже там брата Димитрия – я привезу с собою брата Василия Юрьевича и Великого князя, или приеду сказать вам: я простил его, но мира между ними нет! Я смирялся; но он питает вражду, семя диавольское. Тогда, да судит Бог виноватого!» – Предприятие Шемяки не на шутку испугало всех. Но таково свойство у этого князя: если он на что решится, то предается этому решению душою и сердцем… Рассказывать ли тебе, боярин, как после того расставались, плакали? У меня были там, в Заозерье, такие приятели, которые ни одного словечка не проронили и, может статься, наперед подсказывали многим, что надобно было говорить.
Старков качал головою: «Знаешь ли: ведь я не поверил было ушам своим, когда Великий князь призвал меня и сказал, куда и зачем меня отправляют?»
– Ты изумился, кажется, боярин, когда и меня увидел и когда Великий князь велел тебе поступить согласно тому, что я скажу?
«Признаюсь и в этом. Как мне было и не изумиться, если ты сам не забыл, с какой поры не встречались мы с тобою? Хоть ты и уверяешь, будто тогда не ты, но какое-то демонское наваждение обморочило всех нас – однако ж… хм!.. садись-ка, крестный батюшка, который благословил воевод московских в дураки, – примолвил Старков, указывая место Гудочнику, – садись и растолкуй, где пропадал ты с тех пор, что ты поделывал и как ты успел из притоманных друзей покойного старика Юрия сделаться таким другом нашего Великого князя? Не слишком-то доверчив наш князь Великий, и не надивлюсь я, как умел ты попасть к нему в такую великую милость!»
– Не всякий тот друг, кто с тобой брагу пьет; не всякий ворог, кто на тебя с мечом идет. А сверх того, боярин, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Светило сегодняшнее солнце – мы на нем онучки сушили; засветит завтра другое – мы будем сушить на нем. Позволь мне отложить на время дружескую с тобою беседу – от тебя ничего за душою не скрою, но теперь припомню тебе: все ли у тебя исправно и готово для встречи дорогого гостя?
«Да, да, я так изумился последней вести, что я забыл об этом. Распоряжено все; да, только надобно присмотреть за народом, так ли все сделано. Право, изумился я, и все было забыл…»
– Изумляться ничему не надобно, – ворчал Гудочник, – даже и тому, что ты поумнеешь. – Он проводил глазами Старкова и задумавшись сел на лавку.
День вечерел, становилось темно, как бывает темно в душе человека, когда он замышляет злое. Прискакал еще гонец и сказал, что Шемяку оставил в пяти верстах. Старков и бывшие при нем московские чиновники выехали за село. Несколько воинов стояло на почетной страже, близ избы, где назначен был ночлег Шемяке. Жители села толпами высыпали в поле. Все радовались, казалось, прибытию дорогого гостя.
Шемяка был охотник до скорой, лихой езды. По дороге, повсюду, от самой границы Великого княжества до Москвы, приготовлены ему были подставные щегольские тройки. Шемяка ехал с малою свитою, с Сабуровым и Чарторийским. Только пыль снежная взвивалась из-под копыт лошадиных, и множество колокольчиков на дугах звенело и гудело издалека.
Увидя Старкова, Шемяка остановился. Ласково, весело выслушал он приветствие боярина, поклон от Великого князя и приглашение отдохнуть в Братищах, где изготовлен был сытный ужин. Сани привернули к ночлегу.
Шутливо, приветливо поздоровался опять Шемяка со Старковым, не заметив его смущения; ужин был готов. Налив первую чару, Шемяка поднял ее высоко и выпил за здоровье Василия Васильевича,
– Позволь спросить, князь Димитрий Юрьевич, доволен ли ты доныне своим путем-дорогою; исправна ли была езда, добры ли были ночлеги? – сказал Старков.
«Я лично стану благодарить брата моего, Великого князя, – отвечал Шемяка, – и никогда не думал я, чтобы можно было до такой степени приложить старание угодить гостю. О, надеюсь отплатить за это на свадебном пиру своем! Садись, боярин, садитесь все – по-простому, по-дорожному».
Начался ужин, и русское разгулье развеселило сердца всех. Шемяка не утерпел: он пересказал Старкову, как хороша, как разлюбезна его невеста; с громким кликом осушены были кубки за ее здоровье.
– Ну, Чарторийский, видишь ли, что заяц по-пустому перебежал нам дорогу, при выезде из Кубены? – сказал Шемяка, оставшись с ними наедине. – Завтра мы в Москве, и не знаю, что-то говорит мне, будто с завтрашнего дня начнется истинное мое счастье! Такое веселье бывает недаром – давно не был я так весел и доволен.
«Кем, князь: собою или другими?»
– И собою и другими. Вижу, что правда светлая побеждает все и всякого: и самый подозрительный брат мой, Великий князь, не смеет не уступить доверчивому желанию добра и мира, которое ведет меня в Москву. Он чествует и принимает меня, как дорогого своего гостя, ждет не дождется и высылает на дорогу встречать и угощать. Я худо было поверил ласковому поздравлению, которое прислал он мне в Заозерье. Недоверчивость, чувство неприязни отравляли все часы моей радости. Будущее темнело передо мною, как туча осенняя. Теперь все ясно – и в сердце и в судьбе моей. Что ты кряхтишь, Чарторийский? Аль жесток тюфяк разостлали тебе хозяева наши? – спрашивал Шемяка, беспечно протягиваясь на мягком тюфяке своем, покрытом медвежьею кожею.
«Нет! мягко лежать, князь, да под голову лезет жесткая дума».
– Еще сомнения? Или ты боишься в самом деле кубенского зайца.
«Нет! я никогда, ни в чем не сомневаюсь, князь, потому, что никогда не думаю о завтрашнем дне, но, признаюсь тебе…»
– Что?
«Не нравится мне твоя поездка в Москву. К старому врагу надобно ходить, как в берлогу медвежью, с рогатиною в руках. Не любится мне, что ты явишься у него, как слуга его, когда мог бы его позвать к себе, как ровню. Я, на твоем месте, поехал бы в Дмитров к Василию Юрьевичу и оттуда звал бы на свадьбу Великого князя. Там надежнее мириться, где, слыша недоброе слово, можно ухватиться за бердыш… Впрочем, так что-то вздумалось мне говорить тебе… Поздно робеть, когда до Москвы остался один переезд».
Шемяка не отвечал: он уже спал крепко.
Не прошло двух часов после того, как заснули Шемяка и сопутник его, дверь тихо растворилась, несколько человек вооруженных воинов вошло в избу, осторожно светя глухим фонарем. Старков следовал за ними. Тихо подошли они к оружию, сложенному на столе Шемякою и сопутником его, и схватили это оружие. Тут несколько человек бросились к Шемяке, несколько к Чарторийскому и уцепились им за руки и за ноги.
– Что? – тихо спрашивал Старков. «Не выскочат!» – отвечал один воин.
– Подавай же огня! – вскричал Старков, растворяя дверь в сени. Там стояло множество воинов с зажженными фонарями.
Едва мог опомниться Шемяка. Раскрывая с трудом глаза, еще отягченные сном, он не понимал: во сне или наяву видит он избу, освещенную огнями, и толпу вооруженных воинов. Он хотел перевернуться, не мог, и только тогда заметил, что несколько сильных воинов держат его крепко.
– Чарторийский! спишь ли ты, или нет? Что это такое?
«Не сплю, князь Димитрий Юрьевич, да пошевелиться не могу – меня держит дюжина здоровых рук».
– Князь Димитрий Юрьевич! – сказал тогда Старков, выступая вперед, – от имени Великого князя Василия Васильевича объявляю тебя пленником.
Шемяка не отвечал ни слова. Он безмолвно смотрел на всех, окружавших его, и наконец сказал с негодованием: «Да воскреснет Бог! Какой дурной сон мне грезится! Кажется, я не много выпил с вечера».
– Изволь вставать, князь Димитрий Юрьевич, и прошу пожаловать за мною, – сказал Старков, сам сторонясь за своих воинов.
«Неужели это не сон? – вскричал Шемяка, стараясь пошевелиться. – Прочь от меня! Эй, ты, боярин Старков, или сам черт в его образе! вели отпустить меня этим бесам, а не то я не оставлю в вас живой души – с людьми управлюсь мечом, с чертями крестом!»
– Прошу не буйствовать, князь Димитрий Юрьевич, или я принужден буду употребить силу.