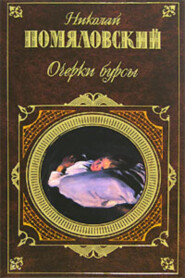По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мещанское счастье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отчего же, папа?
– Ну, мне неприятно продолжать разговор… оставь, пожалуйста…
Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.
– Этак говорить нельзя, – прибавил отец, – и твоего Жорж-Занда можно на смех поднять.
– Ведь мы оставили, папа, этот разговор…
Отец замолчал. Лодка причалила к берегу. Все отправились домой. Но Обросимов не утерпел и прибавил еще:
– Тебе хочется жить по-своему, и другим хочется. Что тебе за дело до Леночки? пусть живет как знает…
– Ах, папа!.. это скучно наконец, – ответила дочь.
Тем и кончили. Обросимов пошел с женой и сыном, а Лизавета Аркадьевна подошла к Молотову. Молотов был согласен с принципами вдовы, но не хотел согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая, – думал он, – если она неразвитая, так развейте; не можете, нельзя, так не троньте». Так он сумел согласиться с обоими спорившими…
– Какой чудный вечер! – сказала Лизавета Аркадьевна, и, начав с этого, она незаметно разговорилась, припомнила другие вечера, проведенные ею некогда в Италии; потом вспомнила Жорж-Занда, а там перешла к Татьяне Пушкина – Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгению, который оттого и погиб. Много о чем говорила вдова… Егор Иваныч больше молчал; Лизавета Аркадьевна не то чтобы разговаривала с ним, а больше поучала его, хотя он и не догадался о том. Когда они расстались, Молотов подумал: «Какая разница бывает между женщинами – Леночка и Лизавета Аркадьевна!.. Положим, Илличова – кисейная девушка, а эта? Не знаю. Только с каждым днем я убеждаюсь, что попал к добрым людям…»
Егор Иваныч отправился на крыльцо. Здесь он сидел один-одинешенек, опершись подбородком на ладони и глядя на длинные седые облака, которые еле тянулись по небу… Настали сумерки; горит заревом лишь то место, где закатилось солнце… Он сидит, ни о чем не думая… Ветры утихли, спать легли; дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих голосов; одни насекомые наполняют воздух жужжаньем, свистом и стрекотом, да кричат играющие ребятишки – где это: у реки иль на задах?.. Промычала корова… раздается плач ребенка: «Ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» – чего он плачет?.. Какие-то неуловимые звуки, неопределенные: то будто шум пронесется в воздухе; не было ветру, а вот покачнулась береза; в ухе звенит… Все становится темнее и темнее… тихо… но вдруг набегает чуть заметный ветерок; он отстал от майских братьев своих, а братья ушли туда, где спряталось солнце. Это он поднял из саду запах сиреней и тополей; от него, как мошки, полетели липовые цветы и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидит Егор Иваныч и глядит – чего он тут глядит? Он, отдаваясь безотчетно природе, сливается с нею и в свою очередь составляет одно из явлений ее. Вон и старуха целый час глазеет из своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенские, и на туманную полосу воды на западе; и Обросимов глазеет из своего окна; и кляча, вытянув шею и положив на изгородь морду, тоже глазеет на все окружающее. Все сливается в одну картину, в единую жизнь природы, в которой всякое мелкое явление, всякая былинка, звук, вздох и шорох поют вместе с вами что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное… Совсем сливаются предметы… По реке, по горам встали длинные, безобразные, громадные тени… Что это?.. чудная птица, стоголосый соловей пустил над рекою свой яркий, сладострастный рокот. Долго поет прекрасная птица, а река спит под темно-голубыми небесами, спит деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные… и соловей задремал… тише… тише… Озноб пробежал по телу; брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь… Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори!.. Все это наше!.. Будем гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сеннике… Вот и отжит день; он уже никогда не повторится в жизни: не те будут цвета и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? Нет, пусть идет себе жизнь… А ведь хорошо жить на свете? – Хорошо. Ну, и пусть его хорошо.
Мы не сказали еще, зачем и на каких условиях Молотов живет в Обросимовке. У Аркадия Иваныча была заматорелая тяжба, которую он непременно хотел покончить – так или иначе; для этого дела ему нужен был человек, который бы следил за тяжбою, ездил в город, сносился с чиновниками, потом ему хотелось составить подробную ведомость своему имению; потом надобно было привести довольно большую библиотеку в порядок и составить ей каталог. Когда Молотову предложили заняться всем этим за сорок рублей в месяц, причем предлагали готовый стол и комнату с отоплением и освещением, – он отказывался совершенным незнанием судейского дела и деревенской статистики; но его успокоили, обещая поучить на первых порах. После этого Молотов, долго не думая, продал все, что было у него движимого, оставив у себя только образок, которым благословил его воспитатель, портрет его, некоторые книги и вещицы, сосчитал несколько рублей в портмоне – и покатил в Обросимовку. Ему понравились и деревня и обитатели деревни. Он живет здесь около трех месяцев и успел познакомиться со всеми. Особенно нравился Молотову сам помещик; он был прекрасный хозяин, человек образованный, бывавший за границею. Крестьяне называли его «отцом родным» и благоденствовали сравнительно с крестьянами других помещиков. В числе более полутысячи его крестьян можно было насчитать около двадцати, ни разу не бивших жен своих, что, как известно, не у нас только редкость. Наказывать женщин он строго запретил, считая это варварством. Обросимов даже школу хотел завести, но как-то не собрался. Он слыл отличным соседом-хлебосолом и отличным семьянином. Человек он был пожилой, с красивым и умным лицом – такие лица бывают у некоторых наших бар, а именно бар деловых; спокойствие, уверенность в своих достоинствах, степенность и приветливость разлиты были во всей его фигуре. По крайней мере он таким представлялся Молотову.
Молотову легче было войти в свет, нежели другим образованным юношам темного происхождения. Он спрашивал себя: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и отвечал: «Нет тех лип!» Это много значило для него; он не был связан ни с какою почвой. Посмотрите на большую часть людей, которых судьба так или иначе выдвинула из среды своей, как они относятся к среде. Как часто случается, купецкий сын, получивши образование, ненавидит свое сословие: отвратительно для него купечество, все купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавит, что им трудно быть иными и что он не сам собою, а чрез образование стал выше их. Или вот иной помещик: выдернут его из степи, привезут в столицу, обломают его понятия, пересоздадут натуру барскую, научат совершенно иной жизни – как он потом относится к степнякам своим? Послушайте вы семинариста, которому счастье благоприятствовало развиться лучше собратов своих: он зол на долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху, копившуюся в родном гнезде веками… Все они – и дворянин, и купец, и семинарист – отвернулись от своих собратий: «О, как там пошло все!.. дичь какая!» Откуда эта антипатия к родной грязи, которую человек только что успел от себя отскрести? Она понятна и законна. Как не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите в самых дорогих вам людях, в том гнезде, где впервые узрели свет божий, где проснулся разум, заговорило чувство, воля попросила дел и работы? Отсюда для многих вытекают нелепые положения. Вот, например, у откупщика, скопившего тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сын усвоивает гуманные начала современной жизни, и что же выходит? – противны ему стены отцовского дома, а и жаль отца – ведь кровь родная!.. Вот и пойдет мысль ломаным путем, хочется во что бы то ни стало доказать, что незачем бичевать того, в ком зло совершается; что не лицо виновато, а закон, обычай, форма, предание, сок и кровь житейские и народные; среда нас заедает, внешние обстоятельства виноваты, действуют исторические причины… Но отчего же он? отчего другие уцелели? – Неисходное положение! Молотов был происхождения темного, мещанского, но счастлив этот юноша: в нем не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить в сословии, в котором он родился; он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? – нет тех лип». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло так, как будто он и не был мещанского рода, хотя он и не думал от того отказываться. Он был счастливейший homo novus [1 - Новый человек (лат.) .]. Все это дало ему особый отпечаток. Судьба, отстранивши от него борьбу, скрывши в далеком младенчестве его мещанскую грязь, дала ему светлый, невозмущаемый взгляд на себя; держался он спокойно, ровно, с достоинством; чувствовал себя честным и свободным так же, как чувствовал себя физически здоровым. Это же самое дало ему надежду на людей; он был снисходителен, он был оптимист, и любил приникать к доброй стороне жизни, повсюду отыскивая искру божию. Зачем же он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и с грустью отвечал: «Нет их!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.
Однако оправдывался ли его оптимизм? ведь он жил в чужих людях. Положение человека, живущего в чужой семье в качестве ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, в большей части случаев стеснительное, зависимое от нанимателя и кормильца. «Я тружусь, следовательно, независим, сам себя знаю и ни пред кем не хочу гнуть спины» – такая истина редко имеет смысл в наших обществах. Протекцию, деньги, поклоны, пронырство, наушничество и тому подобные качества надобно иметь для того, чтобы добиться права на труд; а у нас хозяин почти всегда ломается над наемщиком, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком; во всех сферах русского труда, который вам лично деньги приносит, подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. Из этих экономических чисто русских, кровных начал наших вытекает принцип национальной независимости: «Ничего не делаю, значит – я свободен; нанимаю, значит – я независим»; тот же принцип, иначе выраженный: «Я много тружусь, следовательно, раб я; нанимаюсь, следовательно, чужой хлеб ем». Не труд нас кормит – начальство и место кормит; дающий работу – благодетель, работающий – благодетельствуемый; наши начальники – кормильцы. У нас самое слово «работа» происходит от слова «раб», хотя странно – мы и у бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду как признаку зависимости и любовь к праздности как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства. Существовал ли экономический национальный закон в отношениях Обросимова к Молотову? Если да, то как же Егор Иваныч мог сохранить светлый, невозмущаемый взгляд на себя? В том-то и сила, что скорее не существовал, хотя и нельзя сказать того вполне категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считает себя кормильцем? Но уже и то хорошо, что экономический закон действовал слабо, незаметно. Здесь скорее действовал какой-то другой закон. Обросимов относился к Молотову почти как к равному, ласково, добродушно, благодарил за всякую услугу, иногда советовался с ним по какому-нибудь делу, вводил в интересы свои, так что Молотову казалось, будто он не чужой в семье. Он не сразу дошел до такого убеждения, боялся навязываться и напрашиваться в «свои люди» в чужую семью; но помещик, как нарочно, давал ему случай оказывать себе услуги разного рода и чрез то сближаться с ним. Молотов, посещая фабрику Аркадия Иваныча, в которой, разумеется, он не много смыслил, успел как-то заметить некоторые проделки управляющего и сообщил о них Обросимову. То была важная услуга, потому что помещик успел спасти при этом порядочный капитал. Молотову были благодарны. Однажды Егор Иваныч спросил, отчего это Володя не учится; ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нет. Жена Обросимова при этом выразила опасение, что мальчик многое перезабудет и ему опять придется начинать снова. Егор Иваныч с своей стороны выразил сожаление, что не имеет особенных педагогических способностей и что хотя и давал уроки в столице, но не по призванию. Однако вышло же так, что он сам предложил заняться некоторыми предметами с Володей, пока не найдут учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Так существовал ли здесь национальный экономический закон? Напротив, едва ли не наниматель был в большей зависимости от нанимающегося. Все были ласковы и любезны с Молотовым. В деревне люди сближаются скоро, и Егор Иваныч, мало-помалу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужим людям, стал незаметно для самого себя втягиваться в семейную жизнь Обросимовых; чужие заботы делались его заботами, точно он был член семейства. С Обросимовыми он ездил к соседям в гости и со многими из них познакомился. Плебейское происхождение пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Он был молод, надежд впереди много, и, значит, Егор Иваныч вполне наслаждался жизнью.