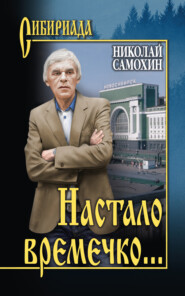По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Рассказы о прежней жизни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Есть… на фронте.
Девчонка снова вздохнула, на этот раз громко: «Охо-хо!»
– Охо-хо! – сказала она. – Я тебя, Бусыгин, сколько раз просила: не таскай ко мне эту шпану – веди их домой или в школу. Просила я тебя, Бусыгин?..
…На улице Бусыгин стал думать:
– Куда же тебя вести-то: домой или в школу?.. Да-кось подсолнушков… В школу, однако, ближе будет – как считаешь?
И мы пошли в сторону школы.
Медленно постигал я весь ужас своего положения: вчера учитель выставил меня хулиганом – сегодня утром я не явился в школу – вечером меня приведет к директору милиционер. Мама родная! Получалось, что мне от «хулигана» теперь сроду не отмыться.
– Дяденька! – захныкал я. – Не ведите меня в школу… Я больше никогда не буду… Честное слово…
Бусыгин остановился. Дощелкал семечки с корявой ладони.
– Обещаисси, значит? – сплюнул он шелуху. – Да-кось ещё подсолнушков-то… Ну, если твердо обещаисси, тогда ладно – не поведу. Тогда бежи домой…
Так бесславно закончилась моя попытка основать коммерческое предприятие.
На другой день я снова отправился в школу – и этот-то день по-настоящему надо считать первым моим школьным днем.
Очкастого учителя в классе я уже не застал. Не знаю, куда подевался этот человек, имени которого я даже не успел запомнить. Скорее всего, его взяли на фронт. Учитель, правда, был подслеповат, но в военное время это не играло большой роли. Когда забирали на фронт отцова дружка дядю Степу Куклина, врач спросил его:
– На что жалуетесь?
– На зрение! – не моргнув соколиным глазом, соврал дядя Степа.
– На зрение, – хмыкнул врач. И неожиданно вскинул два пальца: – Сколько?!
– Два, – сказал застигнутый врасплох дядя Степа.
– Годен, – объявил врач.
Вот так, может быть, и учителю нашему кто-то показал два пальца.
Во всяком случае, вместо него в класс вошла учительница – моя Первая Учительница. Та самая, классическая, добрая и внимательная, терпеливая, с седыми прядками и мягкими карими глазами. И даже с именем Марья Ивановна.
Я думаю, что первые учительницы – это совершенно особая категория людей, некая каста, союз или добровольное общество – как йоги, например, «моржи» или нумизматы. Это жрицы, давшие обет человеколюбия.
В огромной армии работников просвещения – это части специального назначения, перед которыми стоит задача навести переправы в детские души, захватить плацдарм, и не только удержать до подхода основных сил, но постараться взрастить на нем такую любовь к школе, чтобы подоспевшим затем танковым колоннам Формул, воздушному десанту Химических Реакций, полкам Сложноподчиненных Предложений и офицерским батальонам Образов, сформированным из «представителей мелкопоместного дворянства» и «продуктов эпохи», не удалось вытоптать её до самого выпускного бала.
Недаром же первых учительниц помнят и любят все: солдаты-первогодки и генералы, президенты Академии наук, доярки-рекордистки, народные артисты и полярники. А космонавты, возвратясь на родную Землю, даже разыскивают своих первых учительниц в маленьких провинциальных городках и фотографируются рядом с ними для газеты «Известия».
Что-то никому не приходит в голову сфотографироваться рядом с математичкой или военруком, хотя космонавтам, допустим, как людям преимущественно военным, мужественный облик военрука должен бы, казалось, врезаться в благодарную память с особой силой.
Именно к такому отряду благородных подвижников принадлежала и моя первая учительница. Ее метод воспитания был прост: учительница любила меня. Любила, страдала вместе со мной, как страдает писатель вместе с героями, созданными его воображением, радовалась моим скромным успехам больше, чем я сам. Когда я мучился над трудной задачкой, Марья Ивановна морщила лоб, глаза ее делались напряженными, на переносице выступали бисеринки пота – так ей хотелось подсобить мне.
Она помогала мне глотать знания, как молодая мамаша помогает своему первенцу есть манную кашку с ложечки: сама того не замечая, плямкает вместе с ним губами и сглатывает слюну.
Возможно, она была даже гениальной – моя первая учительница. Никогда не забуду ее необыкновенные родительские собрания. Она не скликала наших мам вместе, а всегда вызывала по одной. Не знаю, о чем там она говорила с другими родителями, а встречи с моей матерью происходили так: Марья Ивановна усаживала ее напротив своего стола и принималась за тетрадки. Она словно забывала о нашем присутствии, и мы полчаса… час наблюдали за ее священнодействием. Всё отражалось на живом лице Марьи Ивановны. Мы видели, какой трудный мальчик Петя Иванов, как Марья Ивановна жалеет его, как искренне хочет добиться от него толку и как опасается, что толку из Пети может не получиться.
Затем мы узнавали, что Маша Петрова девочка старательная, умница, дела её идут на поправку, и если она ещё чуть-чуть подтянется, Марья Ивановна будет ею совсем довольна.
Наконец учительница раскрывала мою тетрадь. Сдвинув брови, деловито поджав губы, она рассматривала решенный мною четырехстрочный примерчик как нечто чрезвычайно серьезное, как работу взрослого самостоятельного человека, не нуждающегося в снисхождении.
Закончив проверку, Марья Ивановна вскидывала на меня все еще строгие глаза.
Я – хотя знал, что ничего страшного не должно случиться, – подтягивал от волнения живот.
Брови Марьи Ивановны медленно расходились, глаза теплели, она говорила:
– Ну, что же, Коля… как всегда – отлично.
Тетрадь Марья Ивановна вручала обязательно матери, в её дрожащие руки – и с тем, не прибавив больше ни слова, отпускала нас.
Нетрудно представить, как я ликовал, как парил над землей, не чувствуя под собой ног!
А мать, из которой и палкой невозможно было вышибить слезу, несколько раз за дорогу принималась всхлипывать. До самого дома она не отдавала мне тетрадь, несла её сама, прижимая к груди, словно великую ценность.
Вот какой была моя первая учительница.
И если бы я стал очень знаменитым, таким знаменитым, что мир захотел бы увидеть мой портрет, – я тоже разыскал бы Марью Ивановну и сфотографировался рядом с ней.
Чубчики и нулевки
В первый же день Марья Ивановна выстроила нас по росту и рассадила за партой в таком порядке, чтобы самые маленькие оказались впереди, а самые большие – сзади. Потом она осмотрела наши ручки, перья и велела назавтра всем принести одинаковые. Марья Ивановна сама раздобыла где-то штук восемь желтых бумажных мешков из-под глинозема, разрезала их на большие листы и сказала: пусть мамы выкроят вам одинаковые тетради – вот такие, как у меня. Она также наказала нам выстрогать по десять палочек для счета, и никто не получил поблажки: дескать, ты, Петя, принеси все десять, а тебе, Ваня, можно явиться только с тремя.
Словом, наконец-то мы сделались равными. После уличного произвола это просто был рай справедливости. Тем более, что учителей не волновало, сколько у кого из нас имеется старших братьев с железными кулаками.
Когда сосед мой Ванька Ямщиков вывел из терпения своим озорством даже добрейшую Марью Ивановну, в класс заявился рассерженный завуч, отнял у Ваньки сумку, нахлобучил ему на глаза шапку и вышиб за дверь хорошим подзатыльником.
Правда, в этот же день меня повстречал один из Ванькиных братьев – Колька.
– Кончились уроки? – спросил он, глядя вниз и ковыряя ботинком чудовищных размеров вмерзший в снег камешек.
– Ага.
– А сумка Ванькина где?
– В учительской, наверное, – простодушно ответил я.
– А ты почему ее не украл, сука?! – вскинул на меня желтые кошачьи глаза Колька.
Он сбил меня с ног и как следует напинал под бока своими могучими американскими ботинками.
Понятно, я не подозревал тогда о существовании закона единства и борьбы противоположностей.