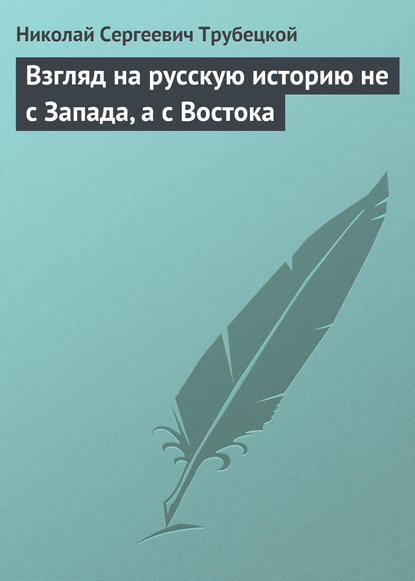По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому он не просто пассивно терпел в своем государстве разные религии, а активно поддерживал все эти религии. И для государственной системы Чингисхана активная поддержка, утверждение и постановка во главу угла религии были столь же важны и существенны, как утверждение кочевого быта и передача власти в руки кочевников.
Итак, согласно государственной идеологии Чингисхана, власть правителя должна была опираться не на какое-либо господствующее сословие, не на какую-нибудь правящую нацию и не на какую-нибудь определенную официальную религию, а на определенный психологический тип людей. Высшие посты могли заниматься не только аристократами, но и выходцами из низших слоев народа; правители принадлежали не все к одному народу, а к разным монгольским и тюрко-татарским племенам и исповедовали разные религии. Но важно было, чтобы все они по своему личному характеру и образу мысли принадлежали к одному и тому же психологическому типу, обрисованному выше. А практически, в порядке применения к конкретным условиям тех стран, с которыми Чингисхан имел дело, это приводило к тому, что правящий класс набирался из среды кочевников, что каждый представитель этого класса был ревностным приверженцем какой-нибудь религии и что всем религиям оказывалась поддержка.
IV
Мы нарочно так долго остановились на идеологической основе царства Чингисхана и постарались вскрыть идейную сущность его государственной теории, чтобы уничтожить то совершенно неправильное представление о Чингисхане как о простом поработителе, завоевателе и разрушителе, которое создалось в исторических учебниках и руководствах главным образом под влиянием одностороннего и тенденциозного отношения к нему современных ему летописцев, представителей разных завоеванных им оседлых государств. Нет, Чингисхан был носителем большой и положительной идеи, и в деятельности его стремление к созиданию и организации преобладало над стремлением к разрушению. И в этом необходимо отдать себе отчет при признании исторической России фактической преемницей государства Чингисхана.
Вернемся, однако, к основному интересующему нас вопросу о происхождении русской государственности. Ведь одного установления того факта, что географически территория России совпадает или стремится совпасть с основным ядром монархии Чингисхана, еще недостаточно для того, чтобы ответить на поставленный выше вопрос. Ибо все-таки остается неясным, каким образом монархия великого монгольского завоевателя оказалась замененной именно русской государственностью.
Разгром удельно-вечевой Руси монгольским нашествием и включение этой Руси в монгольское государство не могли не произвести в душах и умах русских людей самого глубокого потрясения и переворота. С душевной подавленностью, с острым чувством унижения национального самолюбия соединялось сильное новое впечатление величия чужой государственной идеи.
Глубокое душевное потрясение охватило всех русских, перед сознанием открылись бездны, и выведенные из равновесия люди заметались, ища точки опоры. Началось интенсивное брожение и кипение, сложные душевные процессы, значение которых обычно недооценивается.
Главным и основным явлением этого времени был чрезвычайно сильный подъем религиозной жизни. Татарщина была для Древней Руси прежде всего религиозной эпохой. Иноземное иго воспринято было религиозным сознанием как кара Божия за грехи, реальность этой кары утверждала сознание реальности греха и реальность карающего Божественного Провидения и ставила перед каждым проблему личного покаяния и очищения через молитву. Уход в иночество и создание новых монастырских обителей приняли массовый характер. Напряженно-религиозная установка сознания и всей душевной жизни не замедлила окрасить собой и духовное творчество, особенно художественное. К этому времени относится кипучая творческая работа во всех областях религиозного искусства, повышенное оживление наблюдается и в иконописи, и в церковно-музыкальной области, и в области художественной религиозной литературы (древнейшие из современных народных духовных стихов возникли именно в эту эпоху). Этот мощный религиозный подъем был естественным спутником той переоценки ценностей, того разочарования в жизни, которое было вызвано стихийным ударом татарского нашествия. Но в то же время в виде реакции против подавляющего чувства национального унижения возникло и пламенное чувство преданности национальному идеалу. Началась идеализация русского прошлого, не того недавнего удельного прошлого, теневые стороны которого, приведшие к поражению при Калке, были слишком очевидны, а прошлого более далекого. Эта идеализация сказалась и в таких памятниках, как «Слово о погибели Русския земли», и в былинах, которые, как теперь установлено, получили редакционную переработку именно во времена татарщины. Идеализация Руси и легендарного русского героизма, превращавшая в народном сознании реальных удельно-вечевых князьков и их местных, всегда связанных только с одним определенным удельным княжеством дружинников в общерусских богатырей, а их противников, мелких предводителей половецких налетов в татарских ханов, ведущих за собой несметные полчища, – эта идеализация укрепляла восстающее против иностранного ига национальное самолюбие. Параллельно этой установке сознания на воинственно национальный героизм шла и питаемая религиозным подъемом установка на героизм аскетический, подвижнический, постоянно находивший реальное воплощение как в русских иноках, так и в отдельных мучениках, казненных в Орде, причем в русском сознании этот вполне современный и местно русский героизм соединялся с традициями древнего христианского подвижничества внерусского. Таким образом, в качестве реакции против угнетенного душевного состояния, вызванного татарским разгромом, в русских душах и умах поднималась, росла и укреплялась волна преимущественно религиозного, но в то же время и национального героизма.
Таковы были положительные формы, в которых русское национальное чувство реагировало на татарское иго. Но, разумеется, были и формы отрицательные, наличность и распространенность которых в эту эпоху не следует замалчивать или преуменьшать. Татарский режим, унизительный для национального самолюбия, многих русских людей из разных слоев общества привел к полной утрате как национального самолюбия, так и вообще чувства долга и достоинства. Такие случаи нравственного падения, по всей вероятности, были очень нередки, встречались гораздо чаще, чем об этом позволяют судить исторические свидетельства современников. Подлое низкопоклонство и заискивание перед татарами, стремление извлечь из татарского режима побольше личных выгод, хотя бы ценой предательства, унижения и компромиссов с совестью, – все это, несомненно, существовало, и притом в очень значительной мере. Несомненно, существовали случаи и полного ренегатства, вплоть до перемены веры из карьерных соображений. Таким образом, наряду со случаями духовного подвижничества и героизма имелись и случаи глубокого нравственного падения, рядом с просветленным религиозно-национальным подъемом одних уживалось полное душевное опустошение и потеря всякого достоинства других. Такие эпохи одновременного сосуществования высоких взлетов и глубоких падений, эпохи резких психологических противоречий, свидетельствующие о глубинном потрясении духовной жизни нации, создают духовную атмосферу, благоприятную для выковывания нового национального типа, и являются предвестниками начала новой эры в истории нации. Следует заметить, что в то время, как случаи нравственного падения в эпоху татарщины, несмотря на всю свою заразительность, оставались все же делом личной совести каждого, религиозно-национальный подъем этой эпохи становился явлением общенародным, мощным фактором развития национального самосознания и культуры.
Такова была духовная, психологическая атмосфера, порожденная в Древней Руси самим фактом татарского ига. В этой атмосфере протекал основной исторический процесс этой эпохи, восприятие и применение к условиям русской жизни самой татарской государственности. Историки обычно замалчивают или игнорируют этот процесс. О России эпохи татарского ига пишут так, как будто никакого татарского ига и не было. Ошибочность такого приема исторического изложения очевидна. Нелепо было бы писать историю Рязанской губернии вне общей истории России. Но совершенно так же нелепо писать историю России эпохи татарского ига, забывая, что эта Россия была в то время провинцией большого государства.
А между тем русские историки до сих пор поступали именно так. Благодаря этому влияние монгольской государственности на русскую остается совершенно невыясненным. Достоверно известно, что Россия была втянута в общую финансовую систему монгольского государства, и тот факт, что целый ряд русских слов, относящихся к финансовому хозяйству и продолжающих жить в русском языке даже и поныне, являются словами, заимствованными из монгольского или татарского (например, казна, казначей, деньга, алтын, таможня), свидетельствует о том, что монгольская финансовая система в России не только была воспринята и утвердилась, но и пережила татарское иго. Наряду с финансами одной из основных задач всякого большого и правильно организованного государства является устроение почтовых сношений и путей сообщения в государственном масштабе. В этом отношении домонгольская удельно-вечевая Русь находилась на самой низкой ступени развития. Но татары ввели Россию в общегосударственную монгольскую сеть почтовых путей, и монгольская система организации почтовых сношений и путей сообщений, основанная на общегосударственной ямской повинности (от монгольского слова ям «почтовая станция»), сохранялась в России еще долго после татарского ига. Если в таких важных отраслях государственной жизни, как организация финансового хозяйства, почты и путей сообщений между русской и монгольской государственностью существовала непререкаемая преемственная связь, то естественно предположить такую же связь и в других отраслях, в подробностях конструкции административного аппарата, в организации военного дела и проч. Русским историкам стоит только отрешиться от своего предвзятого и нелепого игнорирования факта принадлежности России к монгольскому государству, взглянуть на историю России под иным углом зрения, и происхождение целого ряда сторон государственного быта так называемой «Московской Руси» предстанет их глазам в совершенно ином виде. Приобщение России к монгольской государственности, разумеется, не могло быть только внешним и сводиться к простому распространению на Россию системы управления, господствовавшей и в других областях и провинциях монгольской империи; разумеется, должен был быть воспринят Россией до известной степени и самый дух монгольской государственности. Правда, идейные основы этой государственности со смертью Чингисхана в силу известных причин, о которых речь будет ниже, стали постепенно блекнуть и выветриваться; правда и то, что те татарские правители и чиновники, с которыми русским приходилось иметь дело, в большинстве случаев уже далеко не соответствовали идеалам Чингисхана. Но все же известная идейная традиция в монгольской государственности продолжала жить, и за несовершенством реального воплощения сквозил государственный идеал, идейный замысел великого основателя кочевнического государства.
И этот-то сопутствующий монгольской государственности, сквозящий за ней, звучащий в ней, подобно обертону, дух Чингисхана не мог остаться незамеченным и непременно должен был проникнуть в души русских. По сравнению с крайне примитивными представлениями о государственности, господствовавшими в домонгольской удельно-вечевой Руси, монгольская, чингисхановская государственная идея была идеей большой, и величие ее не могло не произвести на русских самого сильного впечатления.
Итак, в результате татарского ига в России возникло довольно сложное положение. Параллельно с усвоением техники монгольской государственности должно было произойти усвоение самого духа этой государственности, того идейного замысла, который лежал в ее основе. Хотя эта государственность со всеми ее идейными основами воспринималась как чужая и притом вражеская, тем не менее величие ее идеи, особенно по сравнению с примитивной мелочностью удельно-вечевых понятий о государственности, не могло не произвести сильного впечатления, на которое необходимо было так или иначе реагировать. Люди малодушные просто гнули спины и старались лично пристроиться. Но натуры стойкие не могли с этим примириться; небывало интенсивный религиозный подъем и пробуждение национального самосознания, повышенного чувства национального достоинства не позволяло им склоняться перед чужой государственной мощью, перед чужой государственной идеей, и в то же время эта государственная идея их неотразимо притягивала и проникала в глубину их сознания. Из этой двойственности мучительно необходимо было найти выход. И найти этот выход удалось благодаря повышенной духовной активности, порожденной религиозным подъемом рассматриваемой эпохи.
Путь к выходу был ясен. Татарская государственная идея была неприемлема, поскольку она была чужой и вражеской. Но это была великая идея, обладающая неотразимой притягательной силой. Следовательно, надо было во что бы то ни стало упразднить ее неприемлемость, состоящую в ее чуждости и враждебности; другими словами, надо было отделить ее от ее монгольства, связать ее с православием и объявить ее своей, русской.
Выполняя это задание, русская национальная мысль обратилась к византийским государственным идеям и традициям и в них нашла материал, пригодный для оправославления и обрусения государственности монгольской. Этим задача была разрешена. Потускневшие и выветрившиеся в процессе своего реального воплощения, но все еще сквозящие за монгольской государственностью, идеи Чингисхана вновь ожили, но уже в совершенно новой, неузнаваемой форме, получив христианско-византийское обоснование. В эти идеи русское сознание вложило всю силу того религиозного горения и национального самоутверждения, которыми отличалась духовная жизнь той эпохи; благодаря этому идея получила небывалую яркость и новизну и в таком виде стала русской.
Так совершилось чудо превращения монгольской государственной идеи в государственную идею православно-русскую. Чудо это настолько необычайно, что многим хочется просто его отрицать. Но тем не менее это чудо есть факт, и предложенное выше психологическое его толкование дает ему удовлетворительное объяснение.
Следует, во всяком случае, иметь в виду, что с православной Византией Россия была знакома задолго до татарского ига и что во время этого ига величие Византии уже померкло; а между тем византийские государственные идеологи, раньше не имевшие в России никакой особой популярности, заняли центральное место в русском национальном сознании почему-то именно в эпоху татарщины; это ясно доказывает, что причиной прививки этих идеологий в России был вовсе не престиж Византии и что византийские идеологии понадобились только для того, чтобы связать с православием и таким путем сделать своею, русскою, ту монгольскую по своему происхождению государственную идею, с которой Россия столкнулась реально, будучи приобщена к монгольской империи и став одной из ее провинций.
V
Центром средоточия того процесса внутреннего перерождения, сущность которого мы попытались определить выше, явилась Москва. Здесь с необычайной силой отражались все явления, порожденные татарским игом.
Именно в Москве и Московской области наиболее ярко проявлялись как положительные, так и отрицательные духовные процессы рассматриваемой эпохи. Случаи морального падения, беспринципного оппортунизма, унизительного прислужничества татарскому режиму, карьеризма, не останавливающегося перед предательством и преступлением, были здесь нередки. Но в то же время именно здесь, в Московской области, ярким пламенем горело религиозное чувство, и воплощением этого горения был Сергий Радонежский, основатель главного центра религиозного подъема эпохи татарщины – Троицко-Сергиевой лавры. Усвоение техники монгольской государственности и даже бытового влияния татар в Москве шло особенно усиленными темпами, и потому понятно, что именно здесь русские легче и скорее освоились с самим духом монгольской государственности, с идейным наследием Чингисхана.
В той же Москве и в Московской области особенно заинтересовались и византийскими государственными идеологиями. Таким образом, все проявления того сложного психологического процесса, который в конце концов привел к превращению монгольской государственности в русскую, центрировались в Москве.
Великие князья московские становились постепенно живыми носителями новой русской государственности. Насколько они с самого начала были сознательными «собирателями земли русской», теперь, конечно, трудно судить. Возможно, что сначала они просто пристроились к татарскому режиму, стремясь извлечь из него как можно больше выгод лично для себя и руководясь простым эгоизмом, а вовсе не патриотическими соображениями.
Потом они стали работать вместе с татарами, проникнувшись государственными соображениями более широкого масштаба, но, может быть, все еще не представляли себе Россию иначе как провинцией монгольского государства.
Наконец, они стали работать уже сознательно против хана Золотой Орды, стремясь сами занять его место по отношению к России, а впоследствии – и по отношению к прочим землям, подвластным Золотой Орде. Известные централистические традиции в доме суздальских князей, из которого происходили князья московские, несомненно, существовали. Но их одних не было бы достаточно для превращения московских князей в «царей всем Руси».
Превращение это стало возможным, с одной стороны, благодаря тому психологическому процессу, который, как мы видели выше, привел к возникновению русской государственной идеологии, а с другой стороны, благодаря тому, что московские князья, лояльно служа ордынскому хану и втянувшись в административную работу монгольского государства, пользовались полным покровительством Орды, которая могла только приветствовать административную централизацию своей русской провинции. Как бы то ни было, государственное объединение России под властью Москвы было прямым следствием «татарского ига».
Выражение «свержение татарского ига», применявшееся в прежних учебниках русской истории, крайне условно и неточно. Настоящего насильственного свержения ига, собственно, никогда и не было. После Куликовской битвы Россия еще долго продолжала платить дань татарам и, следовательно, оставалась частью татарского государства. «Свержением ига» можно было бы назвать скорее отказ Иоанна III платить дань татарам, но, как известно, событие это прошло сравнительно незаметно и даже не имело никаких военных последствий. Царский титул, который принял Иоанн III, тоже сам по себе не представлял в глазах татар чего-либо необыкновенного, ибо правители отдельных более или менее крупных областей монгольской империи издавна величали себя ханами и царями, сохраняя при этом свою государственную связь с империей. Важным историческим моментом было не «свержение ига», не обособление России от власти Орды, а распространение власти Москвы на значительную часть территории, некогда подвластной Орде, другими словами, замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву. Это случилось при Иоанне Грозном после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Замечательно, что народная традиция именно так расценивает все эти события русской истории. Имя Иоанна III в народной памяти быстро исчезло. Отказ его уплаты дани татарам нашел отражение в одной сравнительно поздней былине, склеенной из частей других, более древних; это так называемая былина о Василии Казимировиче; в ней имя Иоанна III не названо, вместо него фигурирует традиционно былинный «ласковый князь Владимир» и место действия перенесено в Киев, так что все событие отнесено к той полусказочной легендарной и исторически неопределенной стародавней старине, в которой сливаются для народного воображения все события «домосковского» периода. При этом к историческому факту отказа Иоанна III платить дань народное воображение сделало в былине характерное добавление: послы «ласкового князя Владимира» не только не заплатили дани татарам, но еще и нагнали в Орде такого страху, что татары сами стали платить дань Владимиру. Это предвосхищение исторического факта покорения ордынских земель под власть русских государей показывает, что русское национальное сознание считало простое прекращение уплаты дани татарам еще недостаточным и требовало не отделения России от Орды, а, наоборот, соединения России с Ордой, но только под властью русского царя. Поэтому имя Иоанна Грозного, действительно осуществившего это требование национального сознания, не могло быть забыто и воспевается уже не в былинах, а в исторических песнях, причем опять-таки характерно, что народная традиция именно с него и начинает «московский период», т.е. основание уже исторической, а не легендарной или сказочной русской государственности: «зачиналась каменна Москва, зачинался грозный царь Иван Васильевич».
Таким образом, внешняя история «возвышения Москвы», или возникновения русского государства, может быть изображена следующим образом. Татары смотрели на завоеванную ими Россию как на единую провинцию. Финансовое и административное объединение этой провинции с точки зрения общетатарской государственности было очень желательно. За это дело взялись московские князья, явившиеся в этом отношении проводниками татарских политических планов, агентами центральной ордынской власти. На этом деле московские князья сильно нажились, а в то же время прочно завоевали доверие татар и сделали себя для татар необходимыми.
Они превратились как бы в бессменных и наследственных губернаторов русской провинции татарского царства и в этом отношении сравнялись с другими ханами – правителями отдельных провинций, отличаясь от них только своим некочевническим происхождением и немусульманским вероисповеданием.
Постепенно все эти провинциальные правители, именующие себя царями и ханами, а в том числе и московский царь, настолько эмансипировались, что связь их с центральной властью стала только номинальной или вовсе исчезла и сама центральная власть перестала реально существовать. Но сознание государственного единства все-таки продолжало жить, и представлялось необходимым вновь объединить разрозненные и обособившиеся в самостоятельные царства провинции бывшего татарского государства в одно целое. Задачу эту, естественно, должен был выполнить какой-нибудь правитель одной из обособившихся провинций. Татарские правители этого не сделали, а сделал единственный не татарский провинциальный властелин – московский царь. С этого момента он перестал быть простым правителем одной, хотя бы обособившейся, провинции, перестал быть сепаратистом, а стал носителем центральной государственной власти, возродителем единства татарской государственности.
Значение московских царей вовсе не сводится к тому, что они были «собирателями земли русской». Пока они «собирали», т.е. административно и финансово объединяли одни только русские земли, собирая с них подати для татарской казны и насаждая в них государственность татарского образца, – они были только провинциальными губернаторами, местными агентами центральной татарской власти, правда, иногда бунтующими против этой власти, но все же не выходящими из рамок провинциализма. Настоящими государственными правителями они сделались лишь тогда, когда от «собирания русской земли» перешли к «собиранию земли татарской» – к покорению под свою центральную власть отдельных разрозненных и обособившихся частей северозападного улуса монгольской империи (бывшего улуса Золотой Орды).
Но вся эта внешняя история образования московской государственности становится понятной только при свете истории внутренней, психологически-идеологической.
Без того глубокого духовного перерождения русской нации, которое явилось следствием реагирования русского религиозного и национального сознания на факт татарского ига, Россия непременно вполне отатарилась бы и так и осталась бы одним из многих разрозненных обломков империи Чингисхана. Если из всех отдельных правителей обособившихся провинций монгольской империи только московские цари стали притязать на овладение всей территорией некогда объединенной Чингисханом Евразии, если у одних этих московских царей оказалась не только внешняя, но и внутренняя сила для реального осуществления этого притязания и если, присваивая себе наследие Чингисхана, Россия тем не менее не утратила своей национальной индивидуальности, а, наоборот, утвердила ее, – то произошло это потому, что благодаря вышеописанному психологическому процессу только в одной России дух и идеи Чингисхана религиозно переродились и предстали в обновленной и подлинно специфически-русской форме. Именно сила горения русского религиозно-национального чувства переплавила северо-западный улус монгольской монархии в Московское царство, в котором монгольский хан оказался замененным православным русским царем.
VI
Возвышение Москвы и образование русской государственности явились следствием психологических процессов, порожденных самим фактом завоевания России татарами.
Но в известной мере факт перехода господствующего положения в Евразии от татар к московскому царю был вызван и некоторыми другими процессами, действовавшими в среде самих завоевателей – монголов и татар.
Вскоре после смерти Чингисхана стали обнаруживаться несовершенство и практическая неосуществимость некоторых замыслов и идей великого завоевателя.
Одним из наиболее важных несовершенств «системы» Чингисхана оказалась форма связи государственности с религией. С одной стороны, религия поставлялась как одна из главных основ государственности. С другой стороны, не устанавливалось никакой логической связи между догматами той или иной религии и государственным строем. Власть Чингисхана как избранника и ставленника бога Неба (Тенгри) оказывалась мистически обоснованной только с точки зрения шаманизма, т.е. религии догматически наиболее бесформенной, не претендующей на широкое распространение, лишенной наступательной силы и потому не выдерживающей конкуренции с другими религиями, господствующими в Азии и Евразии.
Обратиться от мусульманства, буддизма или христианства в шаманизм было психологически невозможно, и, наоборот, при встрече религиозно настроенного шаманиста с другими религиями этот шаманист легко убеждался в превосходстве других религий над его собственной и склонялся к переходу в другую веру. А переменив веру, он не мог не смотреть на своих прежних единоверцев-шаманистов как на первобытных язычников, пребывающих во тьме.
Таким образом, религия верховного хана, единственная религия, мистически обосновывающая его власть, оказывалась в глазах подданных этого хана религией низшей. Постепенно все высшие чины и большинство рядовых представителей кочевнического правящего элемента перешли от шаманизма либо в буддизм, либо в мусульманство, а шаманизм остался религией небольшого числа племен, не играющих никакой роли в государстве.
Но с точки зрения буддизма или мусульманства власть верховного хана оказывалась религиозно необоснованной. Мусульманская догматика знает религиозно обоснованную власть всемирного повелителя правоверных – халифа, являющегося преемником и наследником самого великого пророка Магомета. Но между представлениями о халифе, с одной стороны, и о верховном правителе основанной Чингисханом империи – с другой, знака равенства поставить было невозможно: ни Чингисхан, ни кто-либо из его потомков не могли рассматриваться ни как преемники и потомки Магомета, ни вообще как государственные правители, внутренне связанные с исламом. Мало того, ислам имеет свою подробно разработанную систему права, как уголовного и гражданского, так и государственного, и эта система отнюдь не совпадала с тем законодательством, которое Чингисхан завещал своим преемникам.
Таким образом, те из правителей разных частей монгольской империи, которые приняли мусульманство, либо частично отказывались от заветов и государственных установлении Чингисхана и в своем управлении придерживались мусульманского права, либо оказывались очень плохими мусульманами. Во всяком случае, в мусульманских частях основанной Чингисханом империи никакой крепкой внутренней спайки между господствующей религией и монгольской государственностью не получилось. Монгольская государственность в таких странах теряла свой «планетарный» характер, ибо не могла совпасть с освященным религией идеалом мусульманской государственности – идеалом всемирного царства халифа. А между тем стран мусульманских в империи Чингисхана было много, значение их было велико, и ислам распространялся из них все дальше и больше.
Соединить идейно монгольскую государственность с буддизмом было несколько легче: буддизм со своим человеко-почитанием и с учением о переселении душ давал возможность объявить верховного правителя монгольской империи земным воплощением Будды. Правда, это было возможно лишь при известном насилии над ортодоксальной буддийской догматикой, но насилие это все равно было неизбежно для согласования буддизма с потребностями кочевого быта, по самому существу своему несоединимого с некоторыми заповедями буддизма (например, хотя бы с заповедью вегетарианства). Такой приспособленный к быту и миросозерцанию кочевников и сильно смешанный с элементами шаманизма буддизм (так называемый ламаизм) действительно и сделался религией значительной части племен основанной Чингисханом империи, и в частности родного племени самого Чингисхана – монголов. И в буддийских частях империи государственная идея действительно оказалась прочнее обоснованной. Но, во-первых, буддизму не удалось распространиться на всю империю и вытеснить мусульманство, а во-вторых, буддизм по самому существу своему неспособен не только повышать, но даже и поддерживать того настроения государственной и военной активности, без которого государственность неизбежно слабеет и приходит в упадок. А потому переход значительной части подданных основанной Чингисханом империи в буддизм не разрешил проблемы прочного идейно-религиозного обоснования монгольской государственности.
Некоторое крушение должна была потерпеть и другая основная идея Чингисхана – идея правящей роли кочевников. Не говоря уже о том, что в завоеванных Чингисханом старых азиатских государствах эта идея была совершенно неприменима, так как там кочевники неизбежно переходили к оседлому образу жизни, усваивали местную культуру, местные государственные традиции и, слившись с туземным правящим классом, тонули в нем, так что история этих государств продолжала идти своей прежней дорогой, лишь временно прерванной монгольским нашествием; но даже в странах Евразии, где, казалось бы, господство кочевников было предуказано самой географией и где монгольское нашествие было не просто случайным эпизодом, а действительно внесло нечто принципиально новое и положительное, даже в этих странах кочевники не оказались в состоянии осуществить заветов Чингисхана. Положение правящих кочевников, обладающих неограниченной властью над оседлым населением, воспитанных в презрении к этому населению, как к рабским натурам, которых можно держать только страхом, это положение непременно должно было развращать кочевников. Удержаться от морального разложения можно было только при условии исключительной силы сознания долга, при постоянном согревании героического настроения и твердой памяти об идейном размахе государственного замысла Чингисхана. Но в будничных условиях реальной действительности удержаться на этой высоте было невозможно, и нравственное разложение неминуемо должно было коснуться правящих кочевников.
Таким образом, религиозно-национальный подъем, нараставший в России времен татарщины и приведший к зарождению религиозно обоснованной национально-государственной идеи, совпал по времени с противоположным психологическим процессом в среде самих правящих татарских кругов, с процессом ослабления идейных и моральных оснований монгольской государственности. И когда отдельные провинции некогда единой монгольской империи (в том числе и Россия) стали приобретать все большую степень самостоятельности, провинция русская, управляемая Москвой, по сравнению с соседними провинциями оказалась в наиболее выгодном положении уже по одному тому, что в ней идея государственности приобрела новое религиозное, нравственное и национальное основание, тогда как в других, чисто татарских провинциях, наоборот, такое основание было уже почти совершенно утрачено.
Неудивительно поэтому, что московский князь стал пользоваться известным нравственным престижем среди самих татар, притом еще задолго до так называемого «свержения татарского ига». Татарские вельможи и высокие чиновники, живущие среди русских, постепенно переставали относиться к ним с презрением, а затем заражались сами религиозно-национальным подъемом и переходили в православие.
Такие случаи перехода представителей татарских правящих кругов в русскую веру и на русскую службу стали явлением заурядным, и русское правящее сословие стало усиленно пополняться притоком татарского элемента.
Явление это обычно недооценивают. Упускают из виду, что каждое такое «обращение» предполагает глубокий душевный переворот. Заставить мусульманина, притом татарина, переменить веру могла только исключительная сила религиозного горения, охватившего все тогдашнее русское общество. Эти новообращенные татары, вливаясь в русский правящий класс, имели для России громадное значение: являясь представителями именно того благородного типа кочевников, на котором Чингисхан в свое время собирался построить всю мощь своего государства, они внесли в среду русского общества элемент весьма ценный с точки зрения государственного строительства: сделались одной из надежнейших опор зарождающейся русской государственности, а в то же время, принося с собой традиции и навыки монгольской государственности, персонально закрепляли преемственную связь между монгольской и русской государственностью. Таким образом, превращение московского государя в преемника хана Золотой Орды и замена монгольской государственности русской осуществились благодаря двум встречным психологическим процессам: одному – протекающему в чисто русской среде; другому – протекающему в среде правящих татарских кругов.
VII
Та русская государственность, которая на территории Евразии явилась преемницей и наследницей государства Чингисхана, покоилась на прочном религиозно-бытовом основании. Всякий русский независимо от своего рода занятий и социального положения принадлежал к одной и той же культуре, исповедовал одни и те же религиозные убеждения, одно и то же мировоззрение, один и тот же кодекс морали, придерживался одного и того же бытового уклада. Различия между отдельными классами были не культурные, а только экономические и сводились не к разнице в качестве тех духовных и материальных ценностей, которыми определялись мировоззрение и быт, а исключительно к количеству этих ценностей, к степени осуществления в жизни каждого лица единого культурного идеала.
Боярин одевался богаче, ел вкуснее, жил просторнее, чем простой крестьянин, но и покрой его платья, и состав его пищи, и строение его дома были в принципе те же, что и у крестьянина. Эстетические вкусы и направление умственных интересов у всех были одинаковы, только одни имели возможность удовлетворять эти вкусы и интересы в большей мере, чем другие.