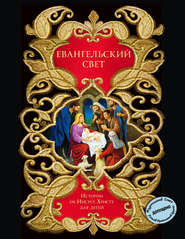По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Любовь великая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну! теперь пойдем! – сказала maman и поднялась со стула. – Я просто задыхаюсь в этой атмосфере.
– Прощайте, моя милая… – сказала Люба, и ей так жалко было эту хорошенькую девочку, этого ch?rubin monstre с доброй ясной улыбкой, что она нагнулась и поцеловала ее в хорошенькие губки, причем с ужасом почувствовала, что от этих губок сильно пахло луком.
От старушки-бабушки благотворящие особы отправились далее. Они взяли на свое попечение четыре семейства. Кроме бабушки, им предстояло еще посетить бедного старичка-писаря, разбитого параличом, одну вдову с тремя дочерьми-девицами и одно бедное семейство, жившее в какой-то трущобе.
Проходили дни и недели. Каждый день старушка-бабушка говорит:
– Вот, сударушка-Машурка, сегодня нам привезут и кровать, и одеяльце тебе, и белья… Как бы хорошо было новую рубашечку надеть к Христовой заутрене!..
Но день проходил, наступал вечер, и бабушка махала рукой.
– Нет, видно, забыли, или не время… а то, может, ни случилось ли что-нибудь? Какая ни на есть беда… спаси господи!
Но никакой беды не произошло. А просто каждый день ее превосходительство говорила Любе:
– Ах! Люба! Где у тебя там перечень? Надо закупить, да послать им.
И Люба вынимала перечень и прочитывала, что надо послать.
– Вот это я сама куплю, а это – Потап, распоряжалась ее превосходительство. – А это надо посмотреть: нет ли чего из старого?..
И старое выносилось, рассматривалось, разбиралось и снова пряталось. Тем дело и кончалось!
III
Наступила весна, теплая, дружная. Холодный снег растаял под лучами солнца, и земля проснулась, ожила под этими греющими, животворными лучами. Все живое проснулось к жизни. Каждое зерно почувствовало притягательную силу тепла и света и потянулось в рост, распустило свежие зеленые листики навстречу ласковому, любящему солнцу. Каждая травка, каждый куст и дерево окружились незримой пахучей атмосферой, жаждущей себе ответа, созвучия в окружающем мире. А люди суетились, хлопотали и среди возни и обыденных забот ждали Пасхи, ждали затем, чтобы на один миг встретиться, обняться, поцеловаться дружеским братским поцелуем и затем тотчас же снова похоронить на целый год великую, бесконечную любовь всего мира.
И Машурка ждала этого дня, вся трепетная и сияющая. Она вся жила своим внутренним миром и глубже, сильнее утягивал ее этот мир.
– Да ты бы, Машурочка, скушала чего-нибудь – шутка сказать, другой день ничего не ела, – говорит бабушка.
– Нет! Бабунчик! Мне ничего не хочется, мне так хорошо. Дай мне подремать, не мешай мне…
И бабушка с изумлением смотрит на ее личико. Такое оно хорошее – тихое, да ласковое, словно тихая, весенняя вода в разлив, когда рано утром, на восходе, смотрит в нее красное солнце.
– Господи! Спаси ее! – думает с ужасом бабушка, – уж не больна ли она, родненькая моя?! – И сердце ее дрожит и замирает при одной мысли потерять ее, родненькую.
А Машурка, в своих мечтах и грезах, еще глубже, еще выше уходит в сияющую высь надзвездную. Там все хорошо, все чисто и свято. Там невидимые лица поют неслыханные песни. Там тонкий воздух светит и ластится, и благоухает, и звучит чудными мелодиями. Там все благо и вся гармония.
И как тяжело из этого чудного мира пробуждаться здесь, в нашем темном, связанном, нестройном и неустроенном мире! Пробуждаться среди душного сырого подвальчика, среди нищеты, всяких лишений, пробуждаться больной, убогой калеке, с высохшими ручками и ножками, осужденной на всю жизнь на постоянное, безысходное страдание!
– Бабушка, – говорит она, смотря своими большими ясными глазами прямо на бабушку, – дорогой мой бабунчик. Ты хотела бы видеть меня счастливой, веселой, здоровой?..
– Ах, ясная моя! – говорит бабушка, всплескивая руками, – о чем ты меня спрашиваешь? Как не хотеть, светик мой, да я бы, кажись, обе бы руки и ноги отдала, если б Господь милосердный тебе здоровья послал… Уж я не знаю, какому угоднику молиться… Господи! – крестится бабушка, и слезы бегут у нее по впалым щекам.
– Бабушка, – говорит опять Машурка тихо и внятно, – если ты действительно любишь меня, то пусти меня туда, – и она откинула головку и устремила глаза на закопченый, растрескавшийся потолок подвальчика, – туда, в вышину небесную.
Бабушка побледнела и задрожала… От одной мысли потерять сударушку-Машурку у ней потемнело в глазах и закружилась голова.
– Полно, полно, родная моя, – говорит бабушка сквозь слезы, – какая моя жизнь будет без тебя?! Машурочка! подумай ты, на что мне жизнь-то старой старухе?.. Одна ты у меня светел свет в очах, ясная моя, ненаглядная, на что мне жить без тебя? – И бабушка плачет, разливается.
– Бабушка, – говорит снова Машурка, когда бабушка немного успокоилась, – бабушка, родная моя, ты подумай только, на что, кому нужна наша жизнь бесплодная, разве мы приносим кому-нибудь пользу, добро?.. Бабунчик, милый мой, ведь я знаю, что ты для меня живешь, что ты няньчишься, ходишь за мной, как за своей дорогой куколкой, – но я-то сама кому нужна? Какую кому я пользу приношу на сем свете? Тряпочка никому ненужная… даром, просто даром занимаю я уголок на земле… а иной человек, полезный, трудящийся, поселился бы в этом самом подвальчике, который мы теперь с тобой праздно занимаем – и служил бы он добрую, благую службу в семье людской и на своем месте был бы всем нужен и всем мил и дорог.
Слушает бабушка, слушает сударушку-Машурку и не понимает ее, только одно она чувствует, что все сердце у ней сжимается при тяжелой, противной мысли расстаться с сударушкой-Машуркой. Не может она одолеть, помириться, проникнуться этой ужасной, убийственной мыслью.
И целый день ходит она, как потерянная… Смутно сознает она, что надо помириться с ней, с этой убийственной мыслью, – но ведь сердце не клубочек, не совьешь его, как хочешь, да не бросишь куда-нибудь в уголок. И текут, текут, капают горькие слезинки из слепеньких глаз бабушки.
– Бабушка, родная моя!.. поди ты ко мне… не убивайся так… а послушай лучше меня… – И послушно подходит бабушка и садится на кроватку, подле своей родненькой…
– Послушай меня, дорогая моя… поди ты в сестры милосердия.
Бабушка горько усмехается.
– Голубчик ты мой! кто же возьмет меня, старуху? Какая я сестра милосердия? Куда я гожусь, Машурочка моя?!
– Как куда, бабунчик? ведь ты ходишь за мной, – ты нашу каморку содержишь в чистоте, ты и белье на нас стираешь, и печку топишь? – Бабушка, родная моя! Все мы должны работать и не жить праздно… Найди себе какую-нибудь работу по силам… Послушай, голубая моя!
– Коли не будет тебя… на кого же я буду работать, подумай ты это… рассуди!..
– На всех, бабунчик, на всех, на кого можешь… ведь все люди – братья нам.
Бабушка ничего не возразила, она отвернулась от Машурки, опустила голову и, задумавшись, собирала свой передник на коленях во множество складочек, разглаживала эти складочки, снова расправляла и снова складывала. Ее слезинки исчезли… Она глубоко, крепко задумалась…
– Что я? – говорила она, как бы сама с собой. – Куда я гожусь?.. Старый пенек, что стоит одиночком, между камнями, на широком, широком поле!.. Разве и взаправду пойти в сестры милосердия?… Может быть и примут?
– Ах, Машурочка, – говорит бабушка, быстро вставая, – позабыла я, родная моя!.. ведь надо рубашечку-то тебе выстирать к празднику…
– Постой, бабурочка милая моя, успеешь ты выстирать и приготовить как следует все житейское… подумаем лучше, как бы жизнь была чище и правдивее.
– Ох! Машурочка! – говорит бабушка, вдруг остановись и складывая ручки, – дум-то у меня нет в голове… стара стала… дай ты мне все сообразить понемногу, да исподволь…
И целый день бабушка соображает и думает и не дает ей покойно работать глубокая дума… стирает она, стирает и вдруг остановится… руки в воде, а думы ее летят далеко, далеко…
И под этими думами все яснее и тише становится в ее старческом сердце – словно легкокрылая бабочка залетела в это сердце и трепещется светлыми крылышками, и тихо навевает мир и покой глубокий и сладостный.
– Господи! – думает она, – умудрил младенца невинного… и этот младенец открыл мне внутренние, правдивые очи!.. Пусть же улетит он, этот младенец невинный, в выси горние!.. Зачем я буду его связывать?.. Прощай, моя сударушка, прощай, радостная!.. Настрадалась ты в жизнь свою скоротечную!
И не чувствует бабушка, как льются из глаз ее, катятся светлые радостные слезинки и падают на ее высохшие, старческие ручки и в мыльную, грязную воду… Три дня, три ночи лежит Машурка без движения, еле дышит, едва говорит, но по-прежнему спокойно исхудалое личико и светятся ее ясные глазки. Порой словно тени внутреннего страдания заволокут его, сдвинутся бровки, стиснутся зубы, потускнеют глазки, но пробежит это облако, и снова сияет тихой радостью кроткая улыбка на побледневших, истрескавшихся губках девочки.
Бабушка одела Машурку, снарядила, приготовила – одела в беленькое платьице.
Затем она нагнулась к Машурке, к ее бледному потухшему личику и поцеловала ее… и Машурка собрала всю силу, которая еще тлела в ней, и ответила бабушке последним горячим поцелуем. Легкая краска разлилась при этом по ее личику, слезинки засверкали на потухавших глазках… Она даже нашла в себе силы проговорить с трудом, чуть слышно, коснеющим языком:
– Прощай!.. бабура моя!.. милая!..
И это были последние слова ее. Бабушка уже смотрела на нее, как на мертвую, и все крестилась… укладывалась, собиралась, на новую, трудовую жизнь…
Схоронили тело Машурки. Бабушка проводила его на кладбище.
– Прощайте, моя милая… – сказала Люба, и ей так жалко было эту хорошенькую девочку, этого ch?rubin monstre с доброй ясной улыбкой, что она нагнулась и поцеловала ее в хорошенькие губки, причем с ужасом почувствовала, что от этих губок сильно пахло луком.
От старушки-бабушки благотворящие особы отправились далее. Они взяли на свое попечение четыре семейства. Кроме бабушки, им предстояло еще посетить бедного старичка-писаря, разбитого параличом, одну вдову с тремя дочерьми-девицами и одно бедное семейство, жившее в какой-то трущобе.
Проходили дни и недели. Каждый день старушка-бабушка говорит:
– Вот, сударушка-Машурка, сегодня нам привезут и кровать, и одеяльце тебе, и белья… Как бы хорошо было новую рубашечку надеть к Христовой заутрене!..
Но день проходил, наступал вечер, и бабушка махала рукой.
– Нет, видно, забыли, или не время… а то, может, ни случилось ли что-нибудь? Какая ни на есть беда… спаси господи!
Но никакой беды не произошло. А просто каждый день ее превосходительство говорила Любе:
– Ах! Люба! Где у тебя там перечень? Надо закупить, да послать им.
И Люба вынимала перечень и прочитывала, что надо послать.
– Вот это я сама куплю, а это – Потап, распоряжалась ее превосходительство. – А это надо посмотреть: нет ли чего из старого?..
И старое выносилось, рассматривалось, разбиралось и снова пряталось. Тем дело и кончалось!
III
Наступила весна, теплая, дружная. Холодный снег растаял под лучами солнца, и земля проснулась, ожила под этими греющими, животворными лучами. Все живое проснулось к жизни. Каждое зерно почувствовало притягательную силу тепла и света и потянулось в рост, распустило свежие зеленые листики навстречу ласковому, любящему солнцу. Каждая травка, каждый куст и дерево окружились незримой пахучей атмосферой, жаждущей себе ответа, созвучия в окружающем мире. А люди суетились, хлопотали и среди возни и обыденных забот ждали Пасхи, ждали затем, чтобы на один миг встретиться, обняться, поцеловаться дружеским братским поцелуем и затем тотчас же снова похоронить на целый год великую, бесконечную любовь всего мира.
И Машурка ждала этого дня, вся трепетная и сияющая. Она вся жила своим внутренним миром и глубже, сильнее утягивал ее этот мир.
– Да ты бы, Машурочка, скушала чего-нибудь – шутка сказать, другой день ничего не ела, – говорит бабушка.
– Нет! Бабунчик! Мне ничего не хочется, мне так хорошо. Дай мне подремать, не мешай мне…
И бабушка с изумлением смотрит на ее личико. Такое оно хорошее – тихое, да ласковое, словно тихая, весенняя вода в разлив, когда рано утром, на восходе, смотрит в нее красное солнце.
– Господи! Спаси ее! – думает с ужасом бабушка, – уж не больна ли она, родненькая моя?! – И сердце ее дрожит и замирает при одной мысли потерять ее, родненькую.
А Машурка, в своих мечтах и грезах, еще глубже, еще выше уходит в сияющую высь надзвездную. Там все хорошо, все чисто и свято. Там невидимые лица поют неслыханные песни. Там тонкий воздух светит и ластится, и благоухает, и звучит чудными мелодиями. Там все благо и вся гармония.
И как тяжело из этого чудного мира пробуждаться здесь, в нашем темном, связанном, нестройном и неустроенном мире! Пробуждаться среди душного сырого подвальчика, среди нищеты, всяких лишений, пробуждаться больной, убогой калеке, с высохшими ручками и ножками, осужденной на всю жизнь на постоянное, безысходное страдание!
– Бабушка, – говорит она, смотря своими большими ясными глазами прямо на бабушку, – дорогой мой бабунчик. Ты хотела бы видеть меня счастливой, веселой, здоровой?..
– Ах, ясная моя! – говорит бабушка, всплескивая руками, – о чем ты меня спрашиваешь? Как не хотеть, светик мой, да я бы, кажись, обе бы руки и ноги отдала, если б Господь милосердный тебе здоровья послал… Уж я не знаю, какому угоднику молиться… Господи! – крестится бабушка, и слезы бегут у нее по впалым щекам.
– Бабушка, – говорит опять Машурка тихо и внятно, – если ты действительно любишь меня, то пусти меня туда, – и она откинула головку и устремила глаза на закопченый, растрескавшийся потолок подвальчика, – туда, в вышину небесную.
Бабушка побледнела и задрожала… От одной мысли потерять сударушку-Машурку у ней потемнело в глазах и закружилась голова.
– Полно, полно, родная моя, – говорит бабушка сквозь слезы, – какая моя жизнь будет без тебя?! Машурочка! подумай ты, на что мне жизнь-то старой старухе?.. Одна ты у меня светел свет в очах, ясная моя, ненаглядная, на что мне жить без тебя? – И бабушка плачет, разливается.
– Бабушка, – говорит снова Машурка, когда бабушка немного успокоилась, – бабушка, родная моя, ты подумай только, на что, кому нужна наша жизнь бесплодная, разве мы приносим кому-нибудь пользу, добро?.. Бабунчик, милый мой, ведь я знаю, что ты для меня живешь, что ты няньчишься, ходишь за мной, как за своей дорогой куколкой, – но я-то сама кому нужна? Какую кому я пользу приношу на сем свете? Тряпочка никому ненужная… даром, просто даром занимаю я уголок на земле… а иной человек, полезный, трудящийся, поселился бы в этом самом подвальчике, который мы теперь с тобой праздно занимаем – и служил бы он добрую, благую службу в семье людской и на своем месте был бы всем нужен и всем мил и дорог.
Слушает бабушка, слушает сударушку-Машурку и не понимает ее, только одно она чувствует, что все сердце у ней сжимается при тяжелой, противной мысли расстаться с сударушкой-Машуркой. Не может она одолеть, помириться, проникнуться этой ужасной, убийственной мыслью.
И целый день ходит она, как потерянная… Смутно сознает она, что надо помириться с ней, с этой убийственной мыслью, – но ведь сердце не клубочек, не совьешь его, как хочешь, да не бросишь куда-нибудь в уголок. И текут, текут, капают горькие слезинки из слепеньких глаз бабушки.
– Бабушка, родная моя!.. поди ты ко мне… не убивайся так… а послушай лучше меня… – И послушно подходит бабушка и садится на кроватку, подле своей родненькой…
– Послушай меня, дорогая моя… поди ты в сестры милосердия.
Бабушка горько усмехается.
– Голубчик ты мой! кто же возьмет меня, старуху? Какая я сестра милосердия? Куда я гожусь, Машурочка моя?!
– Как куда, бабунчик? ведь ты ходишь за мной, – ты нашу каморку содержишь в чистоте, ты и белье на нас стираешь, и печку топишь? – Бабушка, родная моя! Все мы должны работать и не жить праздно… Найди себе какую-нибудь работу по силам… Послушай, голубая моя!
– Коли не будет тебя… на кого же я буду работать, подумай ты это… рассуди!..
– На всех, бабунчик, на всех, на кого можешь… ведь все люди – братья нам.
Бабушка ничего не возразила, она отвернулась от Машурки, опустила голову и, задумавшись, собирала свой передник на коленях во множество складочек, разглаживала эти складочки, снова расправляла и снова складывала. Ее слезинки исчезли… Она глубоко, крепко задумалась…
– Что я? – говорила она, как бы сама с собой. – Куда я гожусь?.. Старый пенек, что стоит одиночком, между камнями, на широком, широком поле!.. Разве и взаправду пойти в сестры милосердия?… Может быть и примут?
– Ах, Машурочка, – говорит бабушка, быстро вставая, – позабыла я, родная моя!.. ведь надо рубашечку-то тебе выстирать к празднику…
– Постой, бабурочка милая моя, успеешь ты выстирать и приготовить как следует все житейское… подумаем лучше, как бы жизнь была чище и правдивее.
– Ох! Машурочка! – говорит бабушка, вдруг остановись и складывая ручки, – дум-то у меня нет в голове… стара стала… дай ты мне все сообразить понемногу, да исподволь…
И целый день бабушка соображает и думает и не дает ей покойно работать глубокая дума… стирает она, стирает и вдруг остановится… руки в воде, а думы ее летят далеко, далеко…
И под этими думами все яснее и тише становится в ее старческом сердце – словно легкокрылая бабочка залетела в это сердце и трепещется светлыми крылышками, и тихо навевает мир и покой глубокий и сладостный.
– Господи! – думает она, – умудрил младенца невинного… и этот младенец открыл мне внутренние, правдивые очи!.. Пусть же улетит он, этот младенец невинный, в выси горние!.. Зачем я буду его связывать?.. Прощай, моя сударушка, прощай, радостная!.. Настрадалась ты в жизнь свою скоротечную!
И не чувствует бабушка, как льются из глаз ее, катятся светлые радостные слезинки и падают на ее высохшие, старческие ручки и в мыльную, грязную воду… Три дня, три ночи лежит Машурка без движения, еле дышит, едва говорит, но по-прежнему спокойно исхудалое личико и светятся ее ясные глазки. Порой словно тени внутреннего страдания заволокут его, сдвинутся бровки, стиснутся зубы, потускнеют глазки, но пробежит это облако, и снова сияет тихой радостью кроткая улыбка на побледневших, истрескавшихся губках девочки.
Бабушка одела Машурку, снарядила, приготовила – одела в беленькое платьице.
Затем она нагнулась к Машурке, к ее бледному потухшему личику и поцеловала ее… и Машурка собрала всю силу, которая еще тлела в ней, и ответила бабушке последним горячим поцелуем. Легкая краска разлилась при этом по ее личику, слезинки засверкали на потухавших глазках… Она даже нашла в себе силы проговорить с трудом, чуть слышно, коснеющим языком:
– Прощай!.. бабура моя!.. милая!..
И это были последние слова ее. Бабушка уже смотрела на нее, как на мертвую, и все крестилась… укладывалась, собиралась, на новую, трудовую жизнь…
Схоронили тело Машурки. Бабушка проводила его на кладбище.