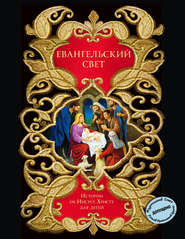По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Макс и Волчок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Макс торопился изо всех сил, задыхаясь и спотыкаясь о пни.
Они шли долго. Голодный, усталый, Маке несколько раз готов был упасть в обморок. Дождь перестал. Прояснило. Настал вечер. Наконец они вышли на большую поляну, которая была над крутым оврагом.
– Ну! вот мы и пришли на теплое местечко, – сказал Волчок. – Коли здесь найдут, так в овраг скатимся.
Макс совсем повалился на сырую траву. Он едва дышал.
Волчок набрал хворосту, сложил костер и зажег его.
Сырые сучки тихо разгорались. Они трещали и дымились, разбрасывая далеко искры. Из темного оврага веяло сырым холодом. Высоко сквозь вершины деревьев блестело потемневшее небо.
А Волчок взлез на большую сосну, на которой были поставлены им силки. В силках билась запутавшаяся куропатка.
– Ага! серая барыня, попалась! – закричал Волчок, и глаза его засветились в темноте, как у настоящего волчка. Он высвободил птицу из силков и, держа ее высоко в одной руке, довольный, спустился с дерева.
– Ну! Маканый Макс, – сказал он, подойдя к костру, около которого лежал Макс, – видно о твоем счастье бабушка молится. – И он поднес к лицу Макса куропатку, которая сильно билась и трепетала, широко раскрыв рот.
Макс быстро поднялся. Он посмотрел на куропатку. Даже при свете костра ее пестрые перья были красивы, а черные большие глаза смотрели так приветливо и жалобно.
– Волчок, – спросил Макс, – неужели ты ее убьешь?!
– Нет! Зачем убивать. Я только ее немножко кокну, а потом изжарим и съедим.
– Волчок! Ведь она жить хочет. Сжалься над ней: пусти ее!
– А я разве тоже не хочу жить? Видишь, какой сладкий. Ты, верно, у бабушки-то лепешек до тошноты наелся, а я со вчерашнего вечера еще ничего не ел.
И он взмахнул куропаткой, чтобы ударить ее о камень. Но Макс быстро схватил его за руку.
– Волчок! – умолял он. – Мы не умрем с голоду. Мы найдем кореньев, ягод… Мы найдем чего есть. Разве мы звери хищные, волки, что будем душить бедную лесную птицу. Ах, Волчок! Ты рассуди, подумай, если каждый человек, если все люди будут жить всегда как звери, бить, убивать все, что им под силу, бороться и давить всех слабых, тогда будет тяжело жить на свете.
Волчок опустил руку. Макс невольно попал ему в больное место. Он быстро овладел рукой Волчка, в которой была куропатка. Но только что хотел разжать ее, как Волчок с силой оттолкнул его и с размаху ударил птицу головой о камень, а потом бросил ее на землю.
Куропатка сделала несколько судорожных движений и умерла, вытянув шею и раскрыв рот, из которого потекла кровь.
Макс отошел и лег на то место, на котором прежде лежал. Ему было тяжело и досадно. Ему хотелось уйти куда-нибудь дальше, но кругом был лес и темная ночь, которая казалась еще темнее от огня, около которого сидел Волчок и с аппетитом общипывал куропатку. Затем он вздернул ее на длинный железный прут, обсыпал ее солью, обложил салом и начал жарить ее над костром, как на вертеле.
Через полчаса он снял ее с прута и, обжигая руки, оторвал крылышко.
– Ммм!..– ворчал он, обгладывая его и облизываясь. – Просто сахарная. – И он оторвал другое крыло и часть грудины и поднес к Максу. – Ешь, гостем будешь.
Макс посмотрел на дымившийся кусок. Он так хорошо пах, а Макс с утра ничего не ел. «Что же, – подумал он, – ведь уж теперь она изжарена». – И он с аппетитом съел поданный кусок… и даже попросил еще ножку.
– Ну, – сказал Волчок, обглодав дочиста последнюю косточку, – теперь давай сыпуна делать. – И он свернулся подле костра, подложив руку под голову. – Соснем с часок, а там надо будет дровец в огонь подложить! – И он зевнул и захрапел.
А Макс долго не мог заснуть. Он ворочался на жесткой земле и сырой траве. Ему чудился повсюду какой-то робкий шорох. «Не крадется ли к нам волк?» – думал он и всматривался во все кусты, сквозь которые чернела темная ночь…
Только на рассвете задремал Макс и заснул как убитый… измученный и усталый. А над лесом вставало светлое утро. Верхушки деревьев заалели. В кустах громко запела малиновка.
Более месяца прожил Макс с Волчком в лесу. Часто на него нападала неодолимая грусть и сильное желание увидать бабушку. Несколько раз он старался выспросить Волчка, как выйти из лесу, но тот всегда отвечал очень коротко и ясно:
– Ступай прямо, потом поверни налево, заверни кругом и как раз придешь, куда следует… А я тебе вот что скажу раз навсегда: если ты вздумаешь бежать от меня, то я тебя брошу и тебя съедят волки.
И Макс сильно этого боялся.
Иногда Волчок оставлял его одного подле оврага, около большого дерева, на которое он выучил его влезать, и затем пропадал на день, далее на два. Он приносил с собою всегда хлеба, какой-нибудь провизии и разных вещей, которые были им необходимы. Эти дни для Макса были самые тяжелые, но и к этому страху он привык, как и ко всему в своей новой жизни – жизни лесного бродяги.
Он полюбил лес. В нем было столько разных ягод и грибов, столько птиц, за которыми Макс вместе с Волчком наблюдали по целым часам.
И чем дольше Макс жил в лесу, тем более он ему нравился. Хорош он был в светлое, раннее утро, когда все кусты и деревья, казалось, пробуждались от сна и расправляли свои листья, подставляя их под первые лучи солнца… Хорош он был и в тихий, ясный вечер, когда перекликались, как будто нехотя, лесные птицы, укладываясь спать, а соловей в кустах начинал втихомолку свои первые трели. Даже в сырую дождливую погоду этот лес был хорош, и Макс так покойно дремал на траве, под тихий, ровный шум мелкого дождя, возле тлевшего и дымившегося костра.
И все, что думал и чувствовал Макс, все он передавал товарищу своей лесной жизни, на все он указывал Волчку, и сам Волчок мало-помалу начинал сознавать ту красоту, то влияние тихой, полной жизни природы, которого он прежде не чувствовал или чувствовал бессознательно.
Нередко, в ясные вечера и душные июльские ночи, Макс много рассказывал Волчку про то, что он читал, рассказывал, как люди живут и в Африке, и в Америке, и даже на островах Тихого океана. И Волчок с жадностью слушал эти рассказы, но еще более он любил те сказки, которые иногда рассказывал ему Макс.
Раз, после долгого, двухнедельного дождя настал ясный, теплый вечер, которому Макс был так рад, потому что в теплую погоду у него самого как будто тепло становилось на сердце и ясно в голове. Они сидели с Волчком на небольшой горке под большими старыми соснами.
Макс рассказывал какую-то индийскую сказку. Волчок, подперши обеими руками голову и полулежа на траве, внимательно слушал его.
Когда Макс кончил сказку, солнце давно уже закатилось. Тихие, теплые сумерки окружали все деревья.
– Хороша сказка? – спросил Макс.
– Дда! хороша, – ответил Волчок и начал набирать хворосту, чтобы развести костер.
– А вот я тебе расскажу теперь свою сказку.
И он зажег хворост серной спичкой и раздул огонь. – Теперь я тебе расскажу свою сказку, – повторил он и разлегся около костра.
– Не больно далеко отсюда, а где, это тебе все равно, стоит небольшой город. В этом городе большое заведенье… Ну! И в этом заведенье много таких мальчиков, как вот мы с тобой. Только жить им хуже, чем нам с тобой, гораздо хуже. Ты слышишь или нет?
– Слышу, – сказал Макс.
– Заставят, например, тебя таскать воду наверх. Ну, и целый день ты носишь по два ведра, так что всю грудь разломит и плечи станут точно чугунные. А если отстанешь от других, так за это тебя вздуют. Как пробьет восемь часов и все покончат работы, то расходятся по домам. Устал ты так, что тебе божий свет не мил, все в тебе ноет. Битый ты и голодный, и за все за это дадут тебе пятак, да и то норовят вычесть из него три копейки штрафу… Ты слышишь или нет?
– Слышу, – отозвался Макс.
– И вот идешь ты с этим пятаком домой. А путь тебе не близок до твоей деревни. Идешь ты и думаешь: полно, не вернуться ли мне назад в город? Потому что… врут, брат, люди, когда говорят, что везде хорошо, а дома лучше. Дома, брат, хуже. Там тебя встретит перво-наперво дядя Андрей, мужчина здоровенный, кулаки-то у него будут с тебя ростом, или разве что немножечко побольше. Сам он красный, как кумач, а нос-то сизый, точно прачка подсинила его, да забыла прополоскать. И вот этот-то дядя родной зарычит на тебя, словно из пожарной трубы: «Что долго нейдешь, где таскаешься, лентяй, дармоед поганый! Опять, чай, грош принес!» – Ну, и счастье твое, коли принес пятак, а не то согнут тебя в бараний рог, закрутят тебе руки назад и начнут тебя по спинному хребту мазать жестким, что твой кирпич, кулаком… Ты этого не отведывал, нет?!
– Не отведывал, – пробормотал Макс.
– Ну, и хорошо!.. Как погладят тебя этак раза три, четыре, так ты и не знаешь, где ты, на земле или в небе, жив ты или мертв. Наконец, очнешься ты, встанешь, и только что вошел ты в избу, – накинется на тебя бабушка, старуха ехидная, и начнет она тебя приголубливать. Честит, честит она тебя на все корки, как у ней эта язык-то не вывернется. Доберешься ты, наконец, брат, до своей стельки, до соломенного тюфяка, что жестче этой травы, на которой мы теперь с тобою спим. Дадут тебе горшок прокислой, прогорклой каши, что свиньи не едят, и на том будь благодарен за все протори и убытки…
Макс слушал его с открытым ртом. Он хотел что-нибудь сказать ему, и ничего не мог.
– И вот один раз случилась история, – продолжал Волчок. – Был у нас на фабрике мальчишка, ледащий, да худенький такой, точно вот ты (и Волчок покосился на Макса),– и привязался к нему этот кашель, так что работать он уже не мог, и только приходил иногда чего-нибудь поесть. Ну, мы и давали какую-нибудь корку, потому что съесть он много не мог, а все-таки и с голоду не помирал. Вот приходит он раз, еле дотащился, идет и валится, а кашель его так и одолевает. Дали мы ему корок – не ест. – Не хочу, – говорит, а сам сел на камешек и плачет. Дело было к вечеру. Обступили мы его, да и потешаемся. – Кисель ты, кисель, – говорим, – о чем ты киснешь?!– Мне надо бы пятак! – говорит, – я, говорит, завтра помру – так мне хотелось бы мамоньке на память обо мне пятак оставить, – а сам так и плачет! Ну! тут все захохотали. – Видишь, говорят, нежный какой! – прямой кисель. – А на меня вдруг блажь нашла. Держу я это в кармане в кулаке пятак – да так меня и тянет отдать ему. А он смотрит на меня. Глаза у него большие, большие, слезы из них так и бегут, а сам он как будто смеется, и кашель-то его душит. И не знаю я, как это случилось, – только вынул я пятак и бросил ему на колени, так что все даже на меня оглянулись, а он, Сенька-то, схватил этот пятак, как кошка, ухватил его, прижал к груди, да вдруг повалился, покатился, задрыгал ногами и помер, а изо рта у него кровь пошла ручьями. Тут мы испугались. Пошли за приказчиком. Пришел приказчик, посмотрел и начал браниться. – Вы,– говорит, – беду делаете, за вас тут отвечай. Сколько раз говорил вам, подлецам, не пущайте во двор посторонних людей. Всех вас, скотов, колотить надо. Только вы тогда и слушаетесь. А это, – говорит, – что у него в руке? – «Пятак, – говорят, – дал ему вот», – на меня показывают. Тут он на меня накинулся. – Ты откуда, – закричал, – такой богач выискался? Ты получаешь хозяйские деньги из кассы, да раздаешь их нищим посторонним людям. А?
– И нагнулся он над Сенькой-то, над мертвым и хотел выхватить у него пятак из руки, – а рука-то у него хрустнула, – вырвал пятак и положил его в жилет. – Вишь, говорит, мошенники, нищих прикармливают хозяйскими деньгами. Я вас, говорит, всех завтра же по шеям из заведения, богачи. – А после погрозил кулаком и ушел. Все молчат. Посмотрел я на всех, повернулся и пошел домой. И как я дошел до дому, не помню. Bcе мне мерещится Сенька мертвый, и как у него, у мертвого приказчик отнимает пятак и в карман к себе кладет. Добрел я до дому, тут сейчас встретил меня дядя Андрей и спрашивает-. – Где пятак? – Пропил! – говорю. Ну! принялся он меня тузить: бил, бил и все мне кажется мало. – Ну-ка еще! говорю, а ну-ка еще! Наконец, ударил он меня по виску, и я обеспамятел. Сколько лежал, не знаю. Ночь уже была, когда очнулся. Встал я, огляделся и пошел, не знаю куда, – и бродил, должно быть, целую ночь. Как бродил, ничего не знаю, а на утро очутился в этом лесу. И с тех пор лишь здесь и живу. Никто меня не бьет, пятаков нету, кругом хорошо, тихо, мирно. Краса и благодать – чего лучше?