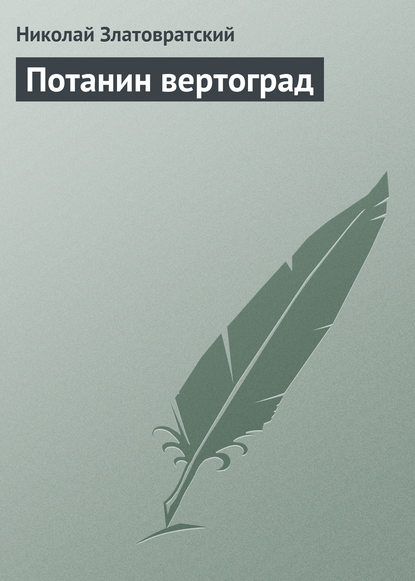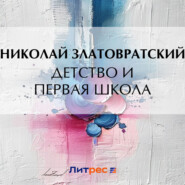По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Потанин вертоград
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Нам очень было жаль, что батюшка почему-то ни в чем не верил Потане и называл ее сумасшедшей, и вместе с тем очень хотелось узнать, что такое было в ее заветной бумажке. Как-то один раз, когда Потаня осталась у нас ночевать и мы собрались в нашей детской, матушка спросила ее:
– Это что же у тебя, Потаня, в бумаге-то, вот что ты показываешь?
– А это, сударыня… это – вертоград… Вот тот самый, что я вам говорила.
– Вертоград-то твой, Потаня? – задумчиво переспросила матушка.
– Он! Он!.. Теперь уж тут все изложено доподлинно, обдумано, облюбовано, осмотрено… А он вот, сударь-то, вон как… не верит!.. Ах, какие маловеры!..
– Изверились, Потаня, мы… Что делать!.. Одни изверились, получше-то, у кого еще совесть есть, а другим-то и так хорошо, и желать лучше ничего не хотят.
– Ах, милая сударыня, надо верить… и домогаться надо, – говорила Потаня, – бог это любит!.. А без веры что же мы будем? Трава… Тварь бессмысленная… Так ли, милые птенчики? Надо верить и надо домогаться… Как вертоград-то земной мы насадим, так все расцветем тогда и душою воскреснем!..
И Потаня весело оглянула нас такими восторженными, такими сияющими глазами, как будто в них отражался весь ее чудный вертоград!..
О добрая, наивная Потаня!.. Из всех «мечтателей», которых мы знали в то время, вряд ли кто мог создать что-либо более поэтичное, чем вертоград Потани.
И создать этот мечтательный вертоград, может быть, могла именно только Потаня, этот несчастный уродец, с такой поэтической и чистой душой, разбитый вдребезги раньше, чем он успел узнать от кого-нибудь первое слово и поцелуй любви. С тех пор как она помнит, она знала себя уже уродцем, которому знакомы были ласки только одной матери, проливавшей над ним горькие слезы. Так навсегда в памяти Потани и остались и эти слезы и это бледное, красивое, чернобровое лицо, которое с такой грустью склонялось над ее колыбелью… Помнит, что они жили в барском доме, в большом-большом флигеле, что мать ее ходила всегда нарядно, наряжала и ее, но редко пускала ее дальше флигеля; потом помнит, как часто приходил к ним высокий черный мужчина – и что все боялись его: это был «сам барин»… Только она и знала о нем. А потом их увезли куда-то далеко, в другую деревню… И вместо черного барина стал жить с ними какой-то седой, толстый, обрюзглый старик, отставной дворецкий, и велел его звать «тятенькой»… А мать все плакала, прижав к своей груди свою единственную Потаню, а потом ее не стало: ее снесли на кладбище и схоронили вблизи зеленой рощи… У старого дворецкого было много детей, и маленькую Потаню заставляли ходить за ними; у старого дворецкого было еще больше гусей, кур, уток и поросят – Потаню заставляли ходить и за ними; у дворни много было ребятишек – и Потане велено было за всеми ими смотреть, когда матери заняты были работой. Маленький уродец хлопотливо и заботливо, с утра до ночи, не зная устали, бегал по господскому двору с хворостинкой в руках, принимая на себя все попреки и побои за шумливое и блудливое свое стадо… Но она все же пока росла на воле, под голубым божьим небом, уходя со своим веселым стадом на целые полдни то «на могилу к матушке», под зеленый шатер березовой рощи, то на веселую, шумящую в камышах речку, то в залитые душистым цветом луга. А когда ей минуло четырнадцать лет, ее вместе с другими девушками загнали в душные, темные «девичьи», где, не покладая рук, изо дня в день плели они нескончаемые кружева и вышивали нескончаемые узоры. «Ах, девушки, девушки! – вздыхала, бывало, Потаня. – Как хорошо теперь на воле-то!.. Хоть бы на часок сбегать туда на маменькину могилку!..» – «Что на часок!.. Совсем бы нам убежать, девушки… Так бы убежать, чтоб и следа нашего никто не открыл… Да куда убежишь?.. В монастырь – ив тот не пустят… Пытались бегать, да опять вернули…» – «А есть, говорят, девушки, – рассказывал кто-нибудь, – такие места… скрытные от всех… в далеких зеленых лесах… И кого, говорят, господь доведет туда, тому счастье на всю жизнь откроет… Стоят в этих зеленых лесах обители: избы выведены большие, чистые, светлые… Вокруг довольство всякое: и реки многорыбные, и сады понасажены… И живут там все одни девушки, живут на полной своей воле – на свободушке, честным трудом сами себя во всем продовольствуют; шьют они себе одежды самотканые, вышивают шелками и золотом… Все сами книгочеи-начетницы, ни от каких мужей-начальников не подневольные… И никому в те обители доступу нету, кроме как сиротам убогим, или вдовам, или девушкам, что от горя да насилия бегут… Только, девушки, не всем счастье, не всем пути в те обители открываются… Пытались, слышно, бежать и от нас, да ловили их скоро и опять на пущую неволю ворочали. Не всем пути туда ведомы!..» Идут годы подневольной девичьей жизни, вырастают тихомолком девичьи подневольные мечты, а Потаня все слушает и слушает девичьи секретные разговоры, все чаще-чаще вспоминается ей любимая матушка, ее скорбная молодость, смоченная слезами, прибитая горем красота… Ноет все больше сердце у Потани, не дает ей покоя девичье горе… Вот и надумала она у старой строгой ключницы попроситься на богомолье сходить. Долго не сдавалась ключница, да видит, что уродец далеко не уйдет, – пустила ее. Идет Потаня с котомкой по селам, по деревням, по малым и большим городам и ко всему прислушивается, обо всем выспрашивает. И вот было веселье и удовольствие девушкам, когда она вернулась!.. Каких-то каких рассказов не рассказала им, подневольным, Потаня из своих странствий! «Вот божье дело!» – радовалась себе Потаня и стала у ключницы опять проситься. Но только старая ключница теперь не поддавалась – не пустила Потаню. Подумала-подумала Потаня: «Что ж! Для хорошего, для божьего дела и потерпеть хорошо!..», помолилась богу да темною ночкой поднялась и ушла убегом. Пропадала с неделю, вернулась, стала было у старой ключницы прощения просить, да та и слов не принимает: посадили Потаню на месяц в светелку на хлеб да на воду… Высиживает Потаня свой срок в заключении, не только не грустит и не убивается, а как будто даже радуется, что ей пришлось претерпеть «за большое, за божье дело», а какое это дело, никто у нее никакой силой из сердца не вырвет. Выпустили Потаню, опять ее в девичью «на урок» посадили. Смотрят на нее девушки с великим любопытством, потому что по играющим глазам ее видят, что хранит она что-то на сердце такое, о чем им, подневольным, и не снилось. Ждут они только темной ночи, когда тихим-тихим шепотом передаст им Потаня свои новые тайны: может быть, не узнала ли она «пути» к той удивительной обители, о которой мечтала вся «девичья». И точно, поведала им Потаня таким тихим шепотом, что, пожалуй, и сами стены его не слыхали, свою великую тайну: слышно, по большим городам, среди больших господ, молва идет, будто в скорости по всему государству объявится «слово», чтобы быть им, подневольным, от того часа вольными, чтобы все заставы, приказы и воспрещения были нарушены и чтобы все пути-дороги открылись вольные для всего простого народа черного… Удивились, перепугались девушки от такой тайны до того, что не хотели верить Потане и даже в явной лжи ее стали попрекать, что такими речами она только попусту мутит их души да не доведет до добра ни их, ни себя… Перепугалась и сама Потаня, и сама усомнилась – уж точно ли она такие вести слышала и точно ли те вести достоверные? И вот снится одной ночью Потане такой удивительный сон: сидит будто она на матушкиной могиле под вечер, а вечер будто такой розовый весь да теплый, а во все-то небо будто заря играет, а над ней зеленая роща веселым шепотом шумит; и видит она, будто к ней из рощи ее родимая матушка идет, и такая же разряженная, как и прежде ходила, такая веселая, приветливая, какой она ее уж и не запомнит. Стала она этак поодаль, стоит, а вблизь не подходит и так любовно да радостно на Потаню смотрит, а Потаня ни жива ни мертва сидит. Матушка и говорит: «Ты, – говорит, – Потанюшка, не бойся; это я самая есть, твоя матушка. Только, – говорит, – мне подойти к тебе теперь нельзя, потому как ты – земной человек, а свидимся с тобой вблизь уж на том свете… А пришла, – говорит, – я к тебе на тот раз, чтобы веру в тебе укрепить… и чтобы в отчаянность ты не впадала. Верно говорят, я знаю, что господь вас, бедных и подневольных, не оставит, и что, точно, то „слово“ по всему русскому царству объявится, и что всем вам, простым людям, страда ваша зачтется… А тебе, моя дочка милая, я завет даю: как придет время тому слову объявиться, как снимутся все заставы, запреты, приказы подневольные, на том месте, где могилка моя, где мы с тобой страду свою изнывали, устрой-насади ты, дочка, веселый зеленый вертоград, а в том вертограде возведи ты обитель светлую-высокую и раствори ты эту обитель для всех сирот несчастных и бедных, девушек и честных вдов, что терпят в жизни страду, насилие, и пусть живут они здесь на полной своей женской волюшке, честным трудом занимаются, книжному разуму набираются, ни от каких мужей-начальников не подневольные! И будут тебе, дочка, всякие помехи, и предадут тебя посмеянию, а ты укрепись верой и неуклонно домогайся!..»
Проснулась Потаня и сама себя не узнала: и духом стала бодрее, и на душе у нее все просветлело, и будто сила и бодрость в ней такие проявились, ровно выросли у нее невидимые крылья…
Вот что мало-помалу узнали мы от маленькой Потали, когда она, случайная нянька, долгими зимними вечерами убаюкивала нас своими рассказами.
Так вот он каков был, Потанин вертоград, и вот о чем было подробно «облюбовано-обдумано» в «важных бумагах», которые носила Потаня в своем чистом белом платке!
И долго тревожил наше детское воображение этот чудный фантастический вертоград, неразрывно связанный для нас с именем маленькой Потани.
Помню, это был особенно мрачный год для нас. Чем ближе был час, когда должна была загореться заря «новой жизни», тем сумрачные облака ночи сгущались, кажется, больше и больше. Отец был мрачен и раздражителен; тяготевшее над ним подозрение в «новом духе» ничего не сулило хорошего в будущем. Матушка была больна, а вместе с ней захворала и моя сестренка. Все мы притихли, нахохлились, как воробьи, в ненастье. В это время заглянула к нам наша «надоедница» Потаня, и чуть ли это было уже не последний раз.
– Что, милые птенчики? Грустите?.. Ничего, ничего… Не унывайте!.. Будет весело, будет, милые птенчики… – щебетала она. И как чудно ласкал тогда нас ее птичий голосок! А чудный вертоград ее, кажется, расцвел тогда в ее воображении еще пышнее, еще фантастичнее! Она уже не довольствовалась бедной маленькой девичьей обителью, она любовно призывала к насаждению вертограда всех чающих и взыскующих грядущего града.
Ах, как отрадно было слышать нам эти певучие звуки, взывавшие к жизни светлой и радостной, среди зеленых благоухающих рощ, на берегах многорыбных вод… Нам, «маленьким людям», ведь так холодно было в наших жалких и бедных серых углах!
Помню, моя бедная сестренка слушала Потаню, смотря на нее своими большими, лихорадочно блестевшими глазками, облокотившись на подушку худой белой ручонкой.
– А ты, Потаня, пустишь нас в свой… этот вертоград? – спросила она задумчиво и с некоторым страхом, что Потаня откажет ей в этом наслаждении.
– Ах, милые птенчики!.. Да как же это можно, чтобы не пустить?.. Ведь это дело-то общее будет, у всех общее… Унывать только не надо да отчаиваться… Поневоле мы брать не будем только, неволи этой у нас не будет, а коли кто охоту такую возымеет, желание, чтобы жить с нами в любви, так мы только будем радоваться да молиться, что открыл господь вашим душенькам такие пути…
– И маме с нами можно будет?
– И маменьке… Как же можно без маменьки!..
– И… и… па-апе тоже? – спрашивала сестренка опять с некоторым сомнением.
– И папеньке… Только бы, милые птенчики, желание было… И нам всякие хорошие люди нужны… Все ведь, сообща, мы будем вертоград-то насаждать… Нам ведь только одно не нужно: неволи да мздоимства… Что господь сказал? «Приидите, – сказал, – в вертоград мой все труждающиеся, и я успокою вас…» Вот, милые птенчики, что господь сказал… Не надо только в уныние, в отчаянность впадать… Верить надо и домогаться надо!..
Это было последнее, что сохранила мне о Потане моя детская память.
. . . . . . . .
Шли годы. Давно уже «объявилось великое слово», и – увы! – давно уже волны новой жизни унесли нас далеко от доброй, наивной Потани, и эти же волны в свою очередь далеко унесли от нас Потаню… Мы забыли друг друга… И чудный Потанин «вертоград» отступал перед нами, как мираж, все дальше и дальше… А сама Потаня?
Это было уже долго спустя, десятка два лет.
Случайно пришлось мне проезжать через свою далекую, давно покинутую родину, и как-то само собой во мне вспыхнули забытые воспоминания, а с ними вместе и Потаня. В самом деле: что она теперь? и как? жива ли? где бродит и о чем бредит? – задавал невольно мой утомленный и саркастически настроенный ум эти вопросы, имевшие для меня теперь значение только праздного любопытства: не мог же я в самом деле думать, что она действительно «насадила свой земной вертоград»!
Но и на мои праздные вопросы никто ничего не мог мне ответить, и я, вероятно, покинув родину, снова забыл бы, может быть, навсегда этого несчастного уродца. Но случай… случай ответил на мои смутные воспоминания.
Возвращаясь с родины, я проезжал через те палестины, из «недр» которых некогда появилась Потаня. Разговаривая с ямщиком, я припомнил название прежнего барского имения, в котором она жила. Оказалось, что это было действительно оно. Остановив на селе какую-то женщину, я спросил ее о Потане. Она сказала: точно, что Потаня – «горбатенькая дворовая» – живет тут; и мне указали на маленькую келью, стоявшую на отлете от деревни между кладбищем и жалкими остатками бывшего барского парка. Когда я подъехал к келье, на крылечке стояла девушка-подросток и на мой вопрос долго в недоумении смотрела на меня и, наконец, спросила:
– Это бабыньку, может, вам нужно?
– Да, да, бабыньку, – отвечал я, припоминая, каким малышом был еще я, когда впервые узнал Потаню.
– Больная она, бабынька… Вот там, на огороде она… На огород просилась вынести ее, на солнышко…
Я прошел на задворки – и только теперь заметил, что сзади кельи был разведен длинный, узкий огород, а среди гряд были насажены целые ряды яблонь, груш и кустов малины и смородины, густо зарастивших всю правую сторону огорода.
Было прекрасное летнее утро. Солнце уже стояло высоко, но в воздухе не чувствовалось еще ни истомы, ни пыли, ни духоты. В садике Потани весело чирикали всякие пичужки, или «малые птенчики», по ее любимому выражению, а в грядах пололи траву еще три девушки-подростка. Около плетеного двора, на самом припеке, лежала на разостланном войлоке маленькая старушка, покрытая нагольным полушубком, и кашляла, прикрывая рот маленькой худой рукой. Откашлявшись, она подняла на меня глаза, и я сразу узнал Потаню.
– Здравствуй, бабушка, – сказал я. – Я вот уж и не знаю, как тебя звать-то… Прежде мы тебя Потаней звали…
– Меня и теперь на деревне все Потаней зовут… Я люблю это… Маменька-покойница все, бывало, меня так звала! – отвечала Потапя, и голос у нее, хотя и хриплый, но все по-прежнему был певучий.
– А ты не узнаешь меня?
– Нет, не признаю… Много ведь я за свое-то время господ перевидала.
Я напомнил ей наш город и семью.
– Как же, вспоминаю… Только где же всех узнать! Давно уж разошлись… У вас свои дела пошли, у нас свои… Где помнить!.. Где помнить!..
И, махнув своей маленькой рукой, Потаня снова закашлялась тем томительным кашлем, который готов был на части разорвать ее сухую, узенькую грудь.
– Вот больна я… говорить-то не могу… Вот уж месяца два валяюся… Да это пройдет… Еще какая я старуха!.. Такие ли старухи бывают… Еще я вот, погоди, горошком вскочу да скорее молодых побегу… Хоть в горелки играть, так и то смогу!
– Ну, дай бог тебе!.. Довольна ли ты?.. Помнишь, бабушка, как ты нам про вертоград-то рассказывала? – спросил я, улыбаясь ей, как ребенку, осматривая жалкую лачужку и крохотный садик.
– Как же не помнить!.. Умру с этим… Вот господь помог, слава создателю, – починочек поставила, – отвечала Потаня таким серьезным тоном, что мне стало стыдно за свою насмешку, – починочек вот… Вот у меня пять сироток кормятся… Еще две вдовы честных при мне… Вот трудимся, слава богу, в любви, в согласии… Малых же девочек книжному делу обучаем… Пущай растут да уму-разуму набираются, а окрепнут духом – пущай тогда выбирают, какая доля лучше приглянется!.. Вот у меня тут и могилка маменькина под глазами… Вербой я ее обсадила… Вот только рощу-то маклаки-купцы всю свели… А какая была роща прекрасная!.. Думала я тогда в ней бы заложить обитель… Домогалась всячески, верой не падала… ну, стало быть, не вышло – все опять же в досужие руки пошло. Ну, что делать!.. Вот починочек есть… Мал он, что говорить!.. И пропитаться чуть что хватает… Да в людях все разбежалось, вот* причина! «Слово»-то, точно, объявилось, а в людях-то все разбежалось… Помоги-то друг дружке уж и нет! Вот подымусь, отдышусь, встану – опять побегу по людям, надоедница, опять запою!.. А умру – молодые за меня останутся… «Домогаться, милая дочка, надоть, домогаться и верить, – говорила мне маменька-покойница, – и удостоишься, – говорит, – зато узреть вертограда небесного!»
Старушка оживилась, защебетала, снова заискрились и заиграли ее глазки, и мне казалось, что передо мной опять прежняя Потаня, а я – маленький, маленький мальчик…
Я присел рядом с ней на кошму и долго-долго слушал ее щебетанье. Мне было так тепло, отрадно, мне даже не было стыдно чувствовать себя ребенком… Меня захватило всего целиком это дивное чувство неумирающей девственной веры и мечты – и во мне вдруг вспыхнули все бодрые и светлые упования моей юности…
notes
Примечания
– Это что же у тебя, Потаня, в бумаге-то, вот что ты показываешь?
– А это, сударыня… это – вертоград… Вот тот самый, что я вам говорила.
– Вертоград-то твой, Потаня? – задумчиво переспросила матушка.
– Он! Он!.. Теперь уж тут все изложено доподлинно, обдумано, облюбовано, осмотрено… А он вот, сударь-то, вон как… не верит!.. Ах, какие маловеры!..
– Изверились, Потаня, мы… Что делать!.. Одни изверились, получше-то, у кого еще совесть есть, а другим-то и так хорошо, и желать лучше ничего не хотят.
– Ах, милая сударыня, надо верить… и домогаться надо, – говорила Потаня, – бог это любит!.. А без веры что же мы будем? Трава… Тварь бессмысленная… Так ли, милые птенчики? Надо верить и надо домогаться… Как вертоград-то земной мы насадим, так все расцветем тогда и душою воскреснем!..
И Потаня весело оглянула нас такими восторженными, такими сияющими глазами, как будто в них отражался весь ее чудный вертоград!..
О добрая, наивная Потаня!.. Из всех «мечтателей», которых мы знали в то время, вряд ли кто мог создать что-либо более поэтичное, чем вертоград Потани.
И создать этот мечтательный вертоград, может быть, могла именно только Потаня, этот несчастный уродец, с такой поэтической и чистой душой, разбитый вдребезги раньше, чем он успел узнать от кого-нибудь первое слово и поцелуй любви. С тех пор как она помнит, она знала себя уже уродцем, которому знакомы были ласки только одной матери, проливавшей над ним горькие слезы. Так навсегда в памяти Потани и остались и эти слезы и это бледное, красивое, чернобровое лицо, которое с такой грустью склонялось над ее колыбелью… Помнит, что они жили в барском доме, в большом-большом флигеле, что мать ее ходила всегда нарядно, наряжала и ее, но редко пускала ее дальше флигеля; потом помнит, как часто приходил к ним высокий черный мужчина – и что все боялись его: это был «сам барин»… Только она и знала о нем. А потом их увезли куда-то далеко, в другую деревню… И вместо черного барина стал жить с ними какой-то седой, толстый, обрюзглый старик, отставной дворецкий, и велел его звать «тятенькой»… А мать все плакала, прижав к своей груди свою единственную Потаню, а потом ее не стало: ее снесли на кладбище и схоронили вблизи зеленой рощи… У старого дворецкого было много детей, и маленькую Потаню заставляли ходить за ними; у старого дворецкого было еще больше гусей, кур, уток и поросят – Потаню заставляли ходить и за ними; у дворни много было ребятишек – и Потане велено было за всеми ими смотреть, когда матери заняты были работой. Маленький уродец хлопотливо и заботливо, с утра до ночи, не зная устали, бегал по господскому двору с хворостинкой в руках, принимая на себя все попреки и побои за шумливое и блудливое свое стадо… Но она все же пока росла на воле, под голубым божьим небом, уходя со своим веселым стадом на целые полдни то «на могилу к матушке», под зеленый шатер березовой рощи, то на веселую, шумящую в камышах речку, то в залитые душистым цветом луга. А когда ей минуло четырнадцать лет, ее вместе с другими девушками загнали в душные, темные «девичьи», где, не покладая рук, изо дня в день плели они нескончаемые кружева и вышивали нескончаемые узоры. «Ах, девушки, девушки! – вздыхала, бывало, Потаня. – Как хорошо теперь на воле-то!.. Хоть бы на часок сбегать туда на маменькину могилку!..» – «Что на часок!.. Совсем бы нам убежать, девушки… Так бы убежать, чтоб и следа нашего никто не открыл… Да куда убежишь?.. В монастырь – ив тот не пустят… Пытались бегать, да опять вернули…» – «А есть, говорят, девушки, – рассказывал кто-нибудь, – такие места… скрытные от всех… в далеких зеленых лесах… И кого, говорят, господь доведет туда, тому счастье на всю жизнь откроет… Стоят в этих зеленых лесах обители: избы выведены большие, чистые, светлые… Вокруг довольство всякое: и реки многорыбные, и сады понасажены… И живут там все одни девушки, живут на полной своей воле – на свободушке, честным трудом сами себя во всем продовольствуют; шьют они себе одежды самотканые, вышивают шелками и золотом… Все сами книгочеи-начетницы, ни от каких мужей-начальников не подневольные… И никому в те обители доступу нету, кроме как сиротам убогим, или вдовам, или девушкам, что от горя да насилия бегут… Только, девушки, не всем счастье, не всем пути в те обители открываются… Пытались, слышно, бежать и от нас, да ловили их скоро и опять на пущую неволю ворочали. Не всем пути туда ведомы!..» Идут годы подневольной девичьей жизни, вырастают тихомолком девичьи подневольные мечты, а Потаня все слушает и слушает девичьи секретные разговоры, все чаще-чаще вспоминается ей любимая матушка, ее скорбная молодость, смоченная слезами, прибитая горем красота… Ноет все больше сердце у Потани, не дает ей покоя девичье горе… Вот и надумала она у старой строгой ключницы попроситься на богомолье сходить. Долго не сдавалась ключница, да видит, что уродец далеко не уйдет, – пустила ее. Идет Потаня с котомкой по селам, по деревням, по малым и большим городам и ко всему прислушивается, обо всем выспрашивает. И вот было веселье и удовольствие девушкам, когда она вернулась!.. Каких-то каких рассказов не рассказала им, подневольным, Потаня из своих странствий! «Вот божье дело!» – радовалась себе Потаня и стала у ключницы опять проситься. Но только старая ключница теперь не поддавалась – не пустила Потаню. Подумала-подумала Потаня: «Что ж! Для хорошего, для божьего дела и потерпеть хорошо!..», помолилась богу да темною ночкой поднялась и ушла убегом. Пропадала с неделю, вернулась, стала было у старой ключницы прощения просить, да та и слов не принимает: посадили Потаню на месяц в светелку на хлеб да на воду… Высиживает Потаня свой срок в заключении, не только не грустит и не убивается, а как будто даже радуется, что ей пришлось претерпеть «за большое, за божье дело», а какое это дело, никто у нее никакой силой из сердца не вырвет. Выпустили Потаню, опять ее в девичью «на урок» посадили. Смотрят на нее девушки с великим любопытством, потому что по играющим глазам ее видят, что хранит она что-то на сердце такое, о чем им, подневольным, и не снилось. Ждут они только темной ночи, когда тихим-тихим шепотом передаст им Потаня свои новые тайны: может быть, не узнала ли она «пути» к той удивительной обители, о которой мечтала вся «девичья». И точно, поведала им Потаня таким тихим шепотом, что, пожалуй, и сами стены его не слыхали, свою великую тайну: слышно, по большим городам, среди больших господ, молва идет, будто в скорости по всему государству объявится «слово», чтобы быть им, подневольным, от того часа вольными, чтобы все заставы, приказы и воспрещения были нарушены и чтобы все пути-дороги открылись вольные для всего простого народа черного… Удивились, перепугались девушки от такой тайны до того, что не хотели верить Потане и даже в явной лжи ее стали попрекать, что такими речами она только попусту мутит их души да не доведет до добра ни их, ни себя… Перепугалась и сама Потаня, и сама усомнилась – уж точно ли она такие вести слышала и точно ли те вести достоверные? И вот снится одной ночью Потане такой удивительный сон: сидит будто она на матушкиной могиле под вечер, а вечер будто такой розовый весь да теплый, а во все-то небо будто заря играет, а над ней зеленая роща веселым шепотом шумит; и видит она, будто к ней из рощи ее родимая матушка идет, и такая же разряженная, как и прежде ходила, такая веселая, приветливая, какой она ее уж и не запомнит. Стала она этак поодаль, стоит, а вблизь не подходит и так любовно да радостно на Потаню смотрит, а Потаня ни жива ни мертва сидит. Матушка и говорит: «Ты, – говорит, – Потанюшка, не бойся; это я самая есть, твоя матушка. Только, – говорит, – мне подойти к тебе теперь нельзя, потому как ты – земной человек, а свидимся с тобой вблизь уж на том свете… А пришла, – говорит, – я к тебе на тот раз, чтобы веру в тебе укрепить… и чтобы в отчаянность ты не впадала. Верно говорят, я знаю, что господь вас, бедных и подневольных, не оставит, и что, точно, то „слово“ по всему русскому царству объявится, и что всем вам, простым людям, страда ваша зачтется… А тебе, моя дочка милая, я завет даю: как придет время тому слову объявиться, как снимутся все заставы, запреты, приказы подневольные, на том месте, где могилка моя, где мы с тобой страду свою изнывали, устрой-насади ты, дочка, веселый зеленый вертоград, а в том вертограде возведи ты обитель светлую-высокую и раствори ты эту обитель для всех сирот несчастных и бедных, девушек и честных вдов, что терпят в жизни страду, насилие, и пусть живут они здесь на полной своей женской волюшке, честным трудом занимаются, книжному разуму набираются, ни от каких мужей-начальников не подневольные! И будут тебе, дочка, всякие помехи, и предадут тебя посмеянию, а ты укрепись верой и неуклонно домогайся!..»
Проснулась Потаня и сама себя не узнала: и духом стала бодрее, и на душе у нее все просветлело, и будто сила и бодрость в ней такие проявились, ровно выросли у нее невидимые крылья…
Вот что мало-помалу узнали мы от маленькой Потали, когда она, случайная нянька, долгими зимними вечерами убаюкивала нас своими рассказами.
Так вот он каков был, Потанин вертоград, и вот о чем было подробно «облюбовано-обдумано» в «важных бумагах», которые носила Потаня в своем чистом белом платке!
И долго тревожил наше детское воображение этот чудный фантастический вертоград, неразрывно связанный для нас с именем маленькой Потани.
Помню, это был особенно мрачный год для нас. Чем ближе был час, когда должна была загореться заря «новой жизни», тем сумрачные облака ночи сгущались, кажется, больше и больше. Отец был мрачен и раздражителен; тяготевшее над ним подозрение в «новом духе» ничего не сулило хорошего в будущем. Матушка была больна, а вместе с ней захворала и моя сестренка. Все мы притихли, нахохлились, как воробьи, в ненастье. В это время заглянула к нам наша «надоедница» Потаня, и чуть ли это было уже не последний раз.
– Что, милые птенчики? Грустите?.. Ничего, ничего… Не унывайте!.. Будет весело, будет, милые птенчики… – щебетала она. И как чудно ласкал тогда нас ее птичий голосок! А чудный вертоград ее, кажется, расцвел тогда в ее воображении еще пышнее, еще фантастичнее! Она уже не довольствовалась бедной маленькой девичьей обителью, она любовно призывала к насаждению вертограда всех чающих и взыскующих грядущего града.
Ах, как отрадно было слышать нам эти певучие звуки, взывавшие к жизни светлой и радостной, среди зеленых благоухающих рощ, на берегах многорыбных вод… Нам, «маленьким людям», ведь так холодно было в наших жалких и бедных серых углах!
Помню, моя бедная сестренка слушала Потаню, смотря на нее своими большими, лихорадочно блестевшими глазками, облокотившись на подушку худой белой ручонкой.
– А ты, Потаня, пустишь нас в свой… этот вертоград? – спросила она задумчиво и с некоторым страхом, что Потаня откажет ей в этом наслаждении.
– Ах, милые птенчики!.. Да как же это можно, чтобы не пустить?.. Ведь это дело-то общее будет, у всех общее… Унывать только не надо да отчаиваться… Поневоле мы брать не будем только, неволи этой у нас не будет, а коли кто охоту такую возымеет, желание, чтобы жить с нами в любви, так мы только будем радоваться да молиться, что открыл господь вашим душенькам такие пути…
– И маме с нами можно будет?
– И маменьке… Как же можно без маменьки!..
– И… и… па-апе тоже? – спрашивала сестренка опять с некоторым сомнением.
– И папеньке… Только бы, милые птенчики, желание было… И нам всякие хорошие люди нужны… Все ведь, сообща, мы будем вертоград-то насаждать… Нам ведь только одно не нужно: неволи да мздоимства… Что господь сказал? «Приидите, – сказал, – в вертоград мой все труждающиеся, и я успокою вас…» Вот, милые птенчики, что господь сказал… Не надо только в уныние, в отчаянность впадать… Верить надо и домогаться надо!..
Это было последнее, что сохранила мне о Потане моя детская память.
. . . . . . . .
Шли годы. Давно уже «объявилось великое слово», и – увы! – давно уже волны новой жизни унесли нас далеко от доброй, наивной Потани, и эти же волны в свою очередь далеко унесли от нас Потаню… Мы забыли друг друга… И чудный Потанин «вертоград» отступал перед нами, как мираж, все дальше и дальше… А сама Потаня?
Это было уже долго спустя, десятка два лет.
Случайно пришлось мне проезжать через свою далекую, давно покинутую родину, и как-то само собой во мне вспыхнули забытые воспоминания, а с ними вместе и Потаня. В самом деле: что она теперь? и как? жива ли? где бродит и о чем бредит? – задавал невольно мой утомленный и саркастически настроенный ум эти вопросы, имевшие для меня теперь значение только праздного любопытства: не мог же я в самом деле думать, что она действительно «насадила свой земной вертоград»!
Но и на мои праздные вопросы никто ничего не мог мне ответить, и я, вероятно, покинув родину, снова забыл бы, может быть, навсегда этого несчастного уродца. Но случай… случай ответил на мои смутные воспоминания.
Возвращаясь с родины, я проезжал через те палестины, из «недр» которых некогда появилась Потаня. Разговаривая с ямщиком, я припомнил название прежнего барского имения, в котором она жила. Оказалось, что это было действительно оно. Остановив на селе какую-то женщину, я спросил ее о Потане. Она сказала: точно, что Потаня – «горбатенькая дворовая» – живет тут; и мне указали на маленькую келью, стоявшую на отлете от деревни между кладбищем и жалкими остатками бывшего барского парка. Когда я подъехал к келье, на крылечке стояла девушка-подросток и на мой вопрос долго в недоумении смотрела на меня и, наконец, спросила:
– Это бабыньку, может, вам нужно?
– Да, да, бабыньку, – отвечал я, припоминая, каким малышом был еще я, когда впервые узнал Потаню.
– Больная она, бабынька… Вот там, на огороде она… На огород просилась вынести ее, на солнышко…
Я прошел на задворки – и только теперь заметил, что сзади кельи был разведен длинный, узкий огород, а среди гряд были насажены целые ряды яблонь, груш и кустов малины и смородины, густо зарастивших всю правую сторону огорода.
Было прекрасное летнее утро. Солнце уже стояло высоко, но в воздухе не чувствовалось еще ни истомы, ни пыли, ни духоты. В садике Потани весело чирикали всякие пичужки, или «малые птенчики», по ее любимому выражению, а в грядах пололи траву еще три девушки-подростка. Около плетеного двора, на самом припеке, лежала на разостланном войлоке маленькая старушка, покрытая нагольным полушубком, и кашляла, прикрывая рот маленькой худой рукой. Откашлявшись, она подняла на меня глаза, и я сразу узнал Потаню.
– Здравствуй, бабушка, – сказал я. – Я вот уж и не знаю, как тебя звать-то… Прежде мы тебя Потаней звали…
– Меня и теперь на деревне все Потаней зовут… Я люблю это… Маменька-покойница все, бывало, меня так звала! – отвечала Потапя, и голос у нее, хотя и хриплый, но все по-прежнему был певучий.
– А ты не узнаешь меня?
– Нет, не признаю… Много ведь я за свое-то время господ перевидала.
Я напомнил ей наш город и семью.
– Как же, вспоминаю… Только где же всех узнать! Давно уж разошлись… У вас свои дела пошли, у нас свои… Где помнить!.. Где помнить!..
И, махнув своей маленькой рукой, Потаня снова закашлялась тем томительным кашлем, который готов был на части разорвать ее сухую, узенькую грудь.
– Вот больна я… говорить-то не могу… Вот уж месяца два валяюся… Да это пройдет… Еще какая я старуха!.. Такие ли старухи бывают… Еще я вот, погоди, горошком вскочу да скорее молодых побегу… Хоть в горелки играть, так и то смогу!
– Ну, дай бог тебе!.. Довольна ли ты?.. Помнишь, бабушка, как ты нам про вертоград-то рассказывала? – спросил я, улыбаясь ей, как ребенку, осматривая жалкую лачужку и крохотный садик.
– Как же не помнить!.. Умру с этим… Вот господь помог, слава создателю, – починочек поставила, – отвечала Потаня таким серьезным тоном, что мне стало стыдно за свою насмешку, – починочек вот… Вот у меня пять сироток кормятся… Еще две вдовы честных при мне… Вот трудимся, слава богу, в любви, в согласии… Малых же девочек книжному делу обучаем… Пущай растут да уму-разуму набираются, а окрепнут духом – пущай тогда выбирают, какая доля лучше приглянется!.. Вот у меня тут и могилка маменькина под глазами… Вербой я ее обсадила… Вот только рощу-то маклаки-купцы всю свели… А какая была роща прекрасная!.. Думала я тогда в ней бы заложить обитель… Домогалась всячески, верой не падала… ну, стало быть, не вышло – все опять же в досужие руки пошло. Ну, что делать!.. Вот починочек есть… Мал он, что говорить!.. И пропитаться чуть что хватает… Да в людях все разбежалось, вот* причина! «Слово»-то, точно, объявилось, а в людях-то все разбежалось… Помоги-то друг дружке уж и нет! Вот подымусь, отдышусь, встану – опять побегу по людям, надоедница, опять запою!.. А умру – молодые за меня останутся… «Домогаться, милая дочка, надоть, домогаться и верить, – говорила мне маменька-покойница, – и удостоишься, – говорит, – зато узреть вертограда небесного!»
Старушка оживилась, защебетала, снова заискрились и заиграли ее глазки, и мне казалось, что передо мной опять прежняя Потаня, а я – маленький, маленький мальчик…
Я присел рядом с ней на кошму и долго-долго слушал ее щебетанье. Мне было так тепло, отрадно, мне даже не было стыдно чувствовать себя ребенком… Меня захватило всего целиком это дивное чувство неумирающей девственной веры и мечты – и во мне вдруг вспыхнули все бодрые и светлые упования моей юности…
notes
Примечания