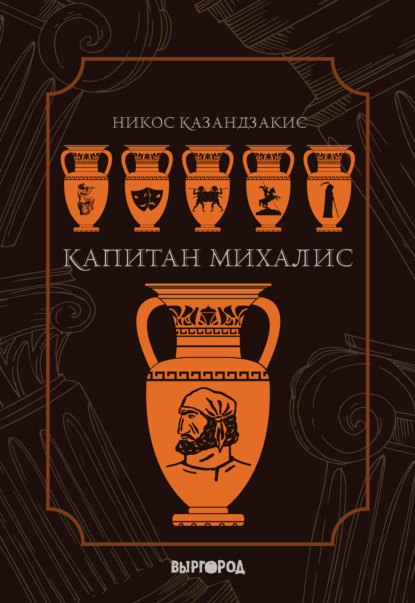По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Капитан Михалис
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ступай к колодцу, – велел он, – умойся, а когда очухаешься, придешь ко мне, дело есть.
Харитос пошел к колодцу, достал воды, умылся, пальцами пригладил взлохмаченные волосы и подошел к дяде.
– Я очухался, – пробормотал он.
Капитан Михалис положил ему на плечо руку.
– Сходи постучись в пять домов – сам знаешь в какие. Да захвати камень, стучи, пока не откроют. Понял?
– Понял.
– Значит, к Вендузосу, к Фурогатосу, Каямбису, Бертодулосу и в монастырь, где живет Эфендина.
– Эфендина Кавалина?
– Да-да, Эфендина Кавалина. Передай им всем привет от капитана Михалиса. Завтра суббота, а в воскресенье рано утром пусть приходят ко мне. Понял?
– Понял.
– Иди! – Затем кликнул жену. – Зарежь три курицы, приготовь закуску, испеки хлеб. Убери в подвале. Поставь стол, скамейки, посуду.
Жена открыла было рот, чтобы напомнить: сейчас пост, мол, побойся Бога, но он поднял руку, и Катерина со вздохом прошла в дом.
– Горе мое, горе, опять пирушка! – пожаловалась она Риньо, которая перемывала тарелки в раковине. – Велел зарезать три курицы и убрать в подвале.
Послышался скрип лестницы: это капитан Михалис отправился спать.
– Что это с ним? Ведь еще шести месяцев не прошло, – удивилась Риньо.
Но сердце ее трепетало от радости. Ей нравилось, когда весь дом ходуном ходит, все хлопочут, снуют туда-сюда с закусками, а мужчины сидят в подвале и выпивают.
– Приспичило ему! – ворчала мать. – Снова бес оседлал! – И перекрестилась. – Грешна, Господи, ругаюсь, нет сил терпеть! Уж и Великого поста не признает!
Грустно посмотрела она на иконостас, на архангела Михаила. Сколько я тебе поклонов била, сколько просила! Разве не наливаю я каждый день оливкового масла тебе в лампаду, разве свечи не ставлю! Все напрасно… Ты, видать, с ним заодно!
– Эх, если б я была мужчиной! – прошептала она. – Всем бы показала! Да то же самое бы вытворяла! Было б у меня пять-шесть шутов, и когда бы сердцу делалось тесно в груди – звала бы их в подвал, поила, заставляла играть на лире, плясать, пока с души камень не свалится. Как все-таки хорошо быть мужчиной!
Глава II
Весенняя ночь выдалась нелегкой для жителей Мегалокастро. Около полуночи холодный, пронизывающий ветер сменился теплым, влажным, от которого набухают почки на деревьях. Начал он свой путь в Африке, пересек Ливийское море, промчался над Месарийской равниной от Тимбаки и Калус-Лимьонеса до Айя-Варвары, оставил позади знаменитые Арханьотские виноградники и оседлал стены Мегалокастро. Пробираясь сквозь щели в дверях и окнах, он набрасывался на мужчин и женщин, пробуждал желания, не давал уснуть. За одну ночь весна вероломно овладела Критом.
Даже паша, хоть был он уже стар и немощен, проснулся от сладостной истомы, хлопнул в ладоши, и в комнате тотчас появился арап Сулейман.
– Открой окно, Сулейман, что-то душно… И что за напасть этот ветер!
– Да нет, паша-эфенди, не напасть. Ветер из африканского края, потому такой горячий. На Крите называют его ангур-мельтеми[26 - Ангури (греч.) – огурец. Мельтеми – пассатный ветер (тур.).]: огурцы от него хорошо растут.
– Ангур-мельтеми… И то верно. Вот что, позови-ка Фатуме, пусть зайдет, она мне нужна. Да налей воды в кувшин и принеси сюда. И опахало захвати… Ох, беда, этот Крит вгонит меня в могилу!
В эту ночь в теле богобоязненного митрополита Мегалокастро – ему уж восемьдесят стукнуло, и седая борода белой рекой струилась до пояса – тоже заиграла кровь. Он сбросил одеяло, кряхтя встал с постели и подошел к окну подышать свежим воздухом. Вокруг тишина, в темноте вырисовывались очертания погруженных в сон домов. Старое лимонное дерево во дворе кафедрального собора пьянило воздух густым запахом цветов. А в глубине тверди небесной, пред Божиим престолом, зажглись несчетные лампадки звезд… Со страхом всматривался митрополит в ночное небо. Нежный ветер вдруг словно поднял его тяжелое, тучное тело на воздух, и оно зависло в глубокой тишине, ниспосланной Богом. Прошло несколько мгновений, прежде чем старик снова почувствовал под ногами твердую почву. Он с облегчением вздохнул, перекрестился и вернулся в постель, чтобы погрузиться в безгрешный сон.
Капитан Михалис резко сбросил простыню и, недовольный, сел на кровати. Было уже за полночь. Схватил со стола кувшин и несколько раз жадно глотнул холодной воды, пытаясь отогнать бесстыжий сон, обволакивающий, льнущий к нему, словно женщина.
– Приснится же такая нечисть! – проворчал капитан Михалис, и меж бровей залегла гневная морщина. – Чего доброго, бесов накличешь!
Он вскочил, босиком спустился по лестнице во двор, зачерпнул воды из колодца и сунул в ведро голову. Но во рту все равно остался сладковатый привкус греха. Михалис вернулся в дом, сел на кровать, распахнул окошко. Со всех сторон его обступала густая, как смоль, тьма. Прислушался: город спал глубоким сном, и не слышно было его дыхания. Только непривычно горячий ветер, пропитанный запахами земли и моря, гулял по двору, шурша виноградными листьями.
Капитан Михалис прислонился к стене и закурил. Он не хотел больше поддаваться сну-искусителю. Пускал дым, устремив взгляд на архангела Михаила в киоте, покровителя его рода, этого небесного Дели-Михалиса с колчаном за спиной. По правую руку от иконы поблескивали повешенные крест-накрест дедовские серебряные пистолеты, по левую – свадебные венцы из восковых лимонных цветов. Из соседней комнаты донесся вздох супруги, на чердаке пискнула мышь, и в то же мгновение по ступенькам едва слышно шмыгнул кот. И опять глубокая, ничем не нарушаемая тишина.
Капитан Михалис курил и ждал рассвета, впившись глазами в окно, тяжело дыша, и в густых бровях прятался гнев, смешанный со стыдом.
Светать начнет, видно, еще не скоро – темень хоть глаз выколи, да и ветер этот, дерзкий, неугомонный, никак не утихает. Не обошел он и дом Блаженных, покружил над широкой кроватью с кружевным балдахином, где, скрестив руки, спокойно спали в белоснежных ночных рубашках три сестры. Аглая то и дело выпрастывала из-под одеяла голые костлявые руки и хихикала, как будто ее щекотали. Затем, словно бы устыдившись, затихала. В спальне, просторной и чистой, с тремя большими разукрашенными комодами, где хранилось приданое сестер, пахло подгнившей айвой.
Учитель Сиезасыр, брат капитана Михалиса, в этот поздний час сидел за столиком, накинув на плечи пальто, чтоб не простудиться от ледяного северного ветра, который задувал с вечера. Склонившись над толстой книжкой, он перечитывал историю Великого восстания 1821 года и как бы заново переживал все события. Вражда между братьями, коварство, продажность – и те же самые люди, не задумываясь, шли на смерть во имя родины, проявляли чудеса храбрости и стойкости, достойные святых! Учитель беспрестанно снимал и протирал очки, ему казалось, что из-за них расплываются буквы. На самом же деле глаза его были полны слез. Летели часы, сменился ветер, наступил апрель, митрополит и паша беспокойно ворочались в постелях, а Сиезасыр все сидел над книгой, дрожа от холода и протирая очки.
За исключением бодрствующего учителя и сладко спящих Блаженных, остальные обитатели Мегалокастро спали в эту ветреную ночь тревожно. Одинокие женщины задыхались, сбрасывали простыни, не понимая, что с ними творится. Замужние протягивали руки, прижимались к мужьям. Молодая Гаруфалья[27 - Гарифало – по-гречески «гвоздика». В имени героини отражено диалектное произношение.] в своем свежевыбеленном домике у пристани совсем распалилась. И ничего удивительного, ведь она только на прошлой неделе обвенчалась с красавцем Каямбисом. Теперь молодожены, как выразился Вендузос, плавали в бочке с медом. Шафером у них на свадьбе был Трасаки. В первые дни Гаруфалья ни на миг не расставалась с мужем и ходила точно пьяная от нежданно свалившегося на нее счастья.
Гаруфалья чуть не поседела в девках, чахнуть стала, и впрямь как неполитая гвоздика. И вдруг – муж, да еще какой! Его, верно, сам Господь Бог ей послал. Каямбис каждую субботу весь народ зачаровывал своим пением. Родом он был не здешний, из Сфакье, но Каямбис ушел оттуда три года назад, и обратной дороги в горы ему не было. Отец оставил двоим сыновьям отару овец, но из-за одного здорового барана – вожака – вышел у братьев спор. Решили они побороться: кто положит противника на обе лопатки, тот и получит барана. Однако в пылу схватки они слишком уж разгорячились, позабыли о том, что они братья, взялись за ножи, и Каямбис убил брата. Недолго думая, он бросил отару и барана-вожака да пошел куда глаза глядят. Так и оказался он в Мегалокастро. В сфакьянской бурке, в стоптанных башмаках, с веточкой базилика за ухом слонялся он по тавернам и пел. К счастью, увидел его однажды в таверне Вендузоса капитан Михалис, послушал, как тот поет, и парень ему понравился. Он подозвал Каямбиса и говорит:
– Не стыдно тебе, такому здоровому, таскаться по тавернам и петь, будто шлюха какая-нибудь? Приходи лучше ко мне, я дам тебе деньжат – человеком станешь!
И сдержал слово. Каямбис на те деньги купил себе ослика, две корзины товару разного и отправился по деревням торговать – нитки, гребешки, свечки, душистое мыло, зеркальца… Одно только условие поставил капитан Михалис: раз в полгода являться к нему в дом на пирушку и гулять до тех пор, пока сам хозяин не выгонит.
Как-то в большой деревне Крусонас увидел Каямбис у источника Гаруфалью и полюбил ее с первого взгляда. Прежде, однако, все разузнал – из какой она семьи, крепкое ли хозяйство – и только потом заслал к ней сватов. И вот в минувшее воскресенье их повенчали: Трасаки, встав на скамейку, надел на них венцы. Сам Михалис ни у кого не был ни шафером, ни крестным отцом. Сколько его ни звали – отказывался, «пока Крит не будет свободен».
А теперь Каямбис, запершись в бедном своем домишке, вот уже восемь суток плавает в бочке с медом. Встает, только чтобы осла покормить да самому поесть. Гаруфалья наскоро варит еду, подкрепятся молодые – и снова в постель… С иконы на стене смотрит на них довольный Христос, улыбается и благословляет. Пусть никогда не пустуют люльки у критян, пусть винтовки передаются от отца к сыну – лишь благодаря этой бочке с медом в один прекрасный день станет свободным Крит…
Горячий весенний ветер гуляет и за крепостными стенами, там, где находится селение прокаженных – Мескинья. В лачуге, прямо на земляном полу, страстно сжимают друг друга в объятьях мужчина и женщина, тоже молодожены. Руки у него покрыты язвами, по ним струится желтый вонючий гной. У женщины нет носа – отвалился как раз накануне свадьбы, поэтому лицо невесты прикрыто белым полотенцем. Жених сжимает локтями свою сладострастно стонущую избранницу и думает о сыне и о том, что проказа на свете не переведется никогда.
В то время как обнимаются прокаженные в Мескинье, на другом конце Мегалокастро, у Новых ворот, появляется Барбаяннис. Он возвращается домой весь в поту, держа высоко над головой масляный фонарь. Спотыкаясь в узких переулках, Барбаяннис проклинает судьбу, что не дает ему насладиться даже сном: больше после смерти жены ему ничего не осталось. Целыми днями бродит он по городу и предлагает жителям зимой горячий салеп[28 - Напиток на основе «муки из орхидей» – клубней ятрышника.] для согрева, а летом – шербет для освежения. А еще часто зовут его вместо повивальной бабки, так что не больно-то поспишь. Принимать роды он научился у покойного отца, который принимал приплод у кобыл и ослиц со всей округи. А уж Барбаяннис перенес отцовское искусство на женщин. Вот и в эту ночь он принимал ребенка у Пелагеи, своей племянницы. И хоть промучился с нею три часа, но не напрасно: мальчик родился здоровый, черноволосый.
Разговаривая сам с собой и проклиная судьбу, возвращался Барбаяннис домой. Вдруг он услышал сзади цокот копыт. Правда, конь был какой-то необычный, не из тех, что едят ячмень, ржут и разбрасывают по дороге навоз. Копыта его так легко касались земли, словно были обернуты ватой, вокруг себя он распространял божественный запах ладана. Барбаяннис сразу все понял – не впервой, – перекрестился и, прижавшись к стене, стал поджидать всадника.
– Господи помилуй! – прошептал Барбаяннис. – Добрый вечер тебе, святой Мина!
Подняв глаза, он явственно увидел в ореоле яркого света среди тьмы резвого скакуна с золотой уздечкой, а на нем седобородого всадника. Был он в серебряных доспехах и в руке держал обагренное кровью копье. Святой Мина, отважный защитник Мегалокастро, как всегда, в дозоре. Ровно в полночь, когда город крепко спит, святой спускается с иконы, едет по набережной и по греческим кварталам. Прикроет растворившуюся дверь. Если кто из христиан болен и в окне у него горит огонь – непременно остановится и попросит Господа исцелить страждущего. Обычному глазу не дано увидеть святого. Только собаки при его появлении виляют хвостами, а из людей могут лицезреть его лишь двое: Барбаяннис и Эфендина Кавалина, придурковатый ходжа[29 - Мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.]. Только на рассвете возвращается святой на икону, и пономарь Мурдзуфлос, приходя утром убирать в церкви, всякий раз обнаруживает, что конь святого Мины весь в мыле.
Барбаяннис глядел, как исчезает святой в ночном мраке, и крестился.
– Вот и опять сподобился его увидеть, теперь дела пойдут на лад, – бормотал он.
Достав из-за пазухи лепешку на виноградном сусле, которую дала ему за труды Пелагея, Барбаяннис принялся с наслаждением жевать. Вот уже и дом близко, можно погасить фонарь.
Капитан Михалис курил, мысли в голове путались и жужжали, как майские жуки. Он силился припомнить все, что видел, что пережил, что полюбил и возненавидел в этой жизни, – деревню, отца, родной дом, разных людей, турок и греков, весь Крит от Грамбусы до монастыря Топлу. Ведь он исходил остров вдоль и поперек, побывал на всех его вершинах, в скольких восстаниях участвовал! И ни на чем теперь не мог сосредоточиться, так запали в голову эти бесстыжие красные губы.
Капитан Михалис кинул свирепый взгляд на архангела Михаила, точно в обиде на него за то, что тот не спустится с иконы и не наведет порядок в его жизни. Повернувшись, он увидел сквозь окно все то же темное небо.
– Пошли скорее день! – процедил он сквозь зубы. – Пошли день, хочу поглядеть, что со мной будет!