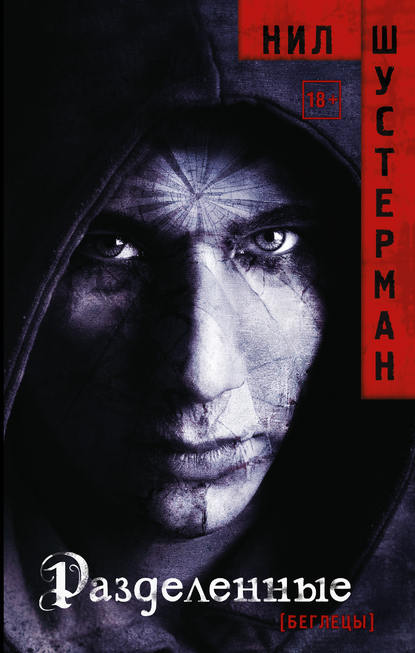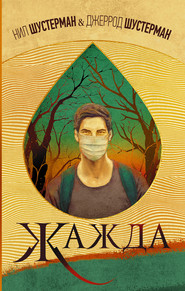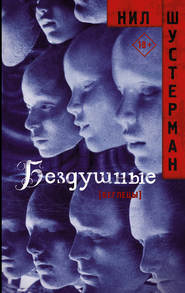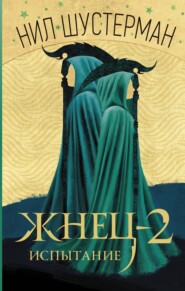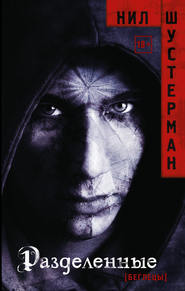По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разделенные
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда Адмирал передал ему командование, у Коннора уже имелась в лагере собственная иерархия, которая, теоретически, должна была облегчить ему задачу управления Кладбищем. В сущности, все в лагере делились на три группы: ближний круг, ребята, которым доверяют люди из ближнего круга, и все остальные. И поддержанием жизни в убежище, по идее, должны были заниматься члены ближнего круга: заботиться о том, чтобы не прекращались поставки продовольствия, чтобы санитарный уровень был на высоте и так далее. В конце концов, у Коннора есть дела поважнее – к примеру, следить за тем, чтобы никто из них не попал на разборку.
– Когда встречусь с человеком из Сопротивления, – уже не в первый раз говорит он Трейсу, – созову совещание и распределю обязанности.
– Может быть, сначала следует подумать, кто и чем должен будет заняться? – возражает Трейс.
Раньше Коннору и в голову бы не пришло, что он когда-нибудь возьмет на себя такую ответственность. И теперь он нередко жалел, что времена, когда ему приходилось отвечать только за себя, остались в прошлом.
Благодаря Льву и его неудавшемуся теракту, который он сам же и сорвал, Коннор не попал на разборку, но с тех пор каждый божий день ему казалось, что на самом деле его все-таки разобрали на части.
6
Риса
На Кладбище живет единственный инвалид. С тех пор как государство запретило трогать детей-инвалидов, разборка им больше не грозит, так что и среди беглецов их не встретить. Это отличный пример избирательности человеческого сострадания, похожего на швейцарский сыр с дырками. Тем, на кого оно распространяется, ничто не угрожает, но тех, кого общество не считает достойными сострадания, оно ставит вне закона.
Риса – инвалид по собственному выбору. Она отказалась лечь на операцию по пересадке части позвоночника, потому что имплантат нужно было взять из банка органов, то есть пришлось бы воспользоваться фрагментом тела ребенка, попавшего на разборку.
Раньше, до развития трансплантации, такие травмы, как у Рисы, считались необратимыми и пострадавший оставался прикованным к постели до конца своих дней. Риса часто размышляет о том, что легче: жить, понимая, что ты калека на всю жизнь, или знать, что последствия травмы можно устранить, но не идти на это сознательно.
Риса живет в старом «Макдоннел Дуглас МД-11», к люку которого ребята приделали спиральный пандус, чтобы она могла спускаться и подниматься в инвалидной коляске.
После постройки пандуса самолет стали называть «Доступным Маком», или попросту «Дос-Маком». Время от времени сюда подселяют других ребят с легкими травмами ног, вроде растяжения лодыжки. Сейчас в «Дос-Маке» обитает человек десять.
Салон самолета поделен на секции, отгороженные занавесками, чтобы создать иллюзию отдельных комнат. Риса живет за перегородкой, в бывшем салоне бизнес-класса, в передней части фюзеляжа. Преимущество этого помещения – в том, что оно значительно больше остальных, но Рисе неприятно, что из-за этого она автоматически становится не как все. Достаточно и того, что весь этот самолет со специальным въездом для инвалидов подчеркивает, как она непохожа на других ребят; и хотя свою травму она заработала в бою, это никак не меняет того факта, что Риса на всю жизнь обречена на особое положение.
На Кладбище есть еще один самолет с пандусом для инвалидной коляски – в нем располагается больница, которой Риса заведует. В другие помещения она попасть не может и потому проводит свободное время на улице, когда не слишком жарко.
Каждый день в пять часов Риса ждет Коннора, укрывшись в тени «Стелса», который они прозвали «Щенком». Каждый день Коннор опаздывает.
Тень от широких крыльев бомбардировщика надежно укрывает Рису от солнца, а специальная, защищающая от излучения радаров краска, которой окрашен фюзеляж самолета, поглощает тепло. Под крыльями «Стелса» всегда прохладно, и это одно из самых приятных мест в лагере.
Коннор, наконец, появляется. Он носит голубой камуфляж, и в лагере больше ни у кого такого нет, так что Риса безошибочно узнает его издалека.
– Я уж решила, что ты не придешь, – говорит Риса, когда Коннор ныряет под крыло «Щенка».
– Я наблюдал за снятием двигателя.
– Да, – Риса криво улыбается. – Все так говорят.
Даже эти ежедневные встречи с Рисой не помогают Коннору стряхнуть напряжение, которое стало частью его с тех самых пор, как на него свалилось управление Кладбищем. Он нередко повторяет, что встречи с ней – единственный момент за весь день, когда он чувствует себя по-человечески. Но на деле он все равно не может расслабиться. Риса даже не уверена, что он вообще на это способен. И хуже всего – то, что оба они – живые легенды. Легенды, отделившиеся от своих героев и обретшие собственную жизнь. Истории, которые рассказывают о Конноре и Рисе, давно укоренились в фольклоре беглецов по всей стране. Это и неудивительно – что может быть романтичнее, чем сказка о мальчике и девочке, оказавшихся вне закона? Они стали Бонни и Клайдом новой эры; их имена печатают на футболках и автомобильных наклейках.
Странно даже подумать, что такая слава досталась им, в сущности, даром – всего лишь за то, что они выжили после взрыва в «Веселом Дровосеке». Всего лишь за то, что Коннор стал первым беглецом, которому удалось выйти живым из «Лавки Мясника». Официально Коннор считается погибшим, а Риса – пропавшей без вести и, скорее всего, тоже мертвой, хотя кое-кто утверждает, будто она скрывается где-то за границей, в стране, не выдающей беглых подростков (если, конечно, существует такая страна). Неизвестно еще, какое развитие получила бы эта легенда, знай люди, что Риса находится здесь, в пыльной, выжженной солнцем аризонской пустыне.
Под брюхом «Щенка» дует легкий ветерок, поднимая пыль, которая постоянно норовит попасть в глаза. Риса смаргивает.
– Ты готова? – спрашивает Коннор.
– Всегда готова.
Коннор, опустившись на колени, массирует ей ноги, стараясь восстановить кровообращение в тех местах, которые полностью утратили чувствительность. Такова часть ежедневного ритуала, сопровождающего их встречи. Этот физический контакт целомудрен, как прикосновения врача к пациенту, и все же в нем есть что-то необыкновенно интимное. Однако сегодня мысли Коннора блуждают где-то далеко.
– Что-то тебя беспокоит, – замечает Риса. Это не вопрос, а простая констатация факта. – Давай, рассказывай.
Вздохнув и глядя на нее снизу вверх, Коннор выпаливает то, что не дает ему покоя:
– Почему мы все еще здесь, Риса?
Риса обдумывает его вопрос.
– Это философский вопрос? Почему мы, люди, все еще живем на Земле? – переспрашивает она. – Или ты хочешь спросить, почему мы торчим здесь вдвоем, на виду у тех, кто может заинтересоваться, чем мы занимаемся?
– Да нет, пусть смотрят, – отвечает Коннор, – мне все равно.
Похоже, ему действительно все равно, потому что для всех, кто обитает на Кладбище, тайна личной жизни – недопустимая роскошь. Даже в небольшом самолете, который Коннор выбрал в качестве штаб-квартиры, на иллюминаторах нет занавесок. Нет, понимает Риса, его вопрос не имеет отношения ни к их ежедневному ритуалу, ни к существованию человеческого рода. Он спрашивает о другом.
– Я имею в виду, как так получилось, что мы с тобой все еще здесь, на Кладбище? Почему полицейские до сих пор не пришли и не переловили всех нас, усыпив транквилизаторами?
– Ты же сам говорил – они не видят в нас угрозы.
– Но этого не может быть, – объясняет Коннор, – они же не дураки… А значит, по какой-то причине они не хотят уничтожать это место.
Риса, нагнувшись, гладит Коннора по плечу, ощущая, как напряжены мышцы.
– Ты слишком много думаешь.
Коннор улыбается.
– Помню, когда мы только познакомились, ты обвиняла меня в том, что я вообще не думаю.
– Значит, сейчас ты пытаешься наверстать упущенное.
– Разве после того, что нам пришлось пережить… после того, что мы видели, меня можно в этом упрекнуть?
– Ты больше нравишься мне в роли человека действия.
– Действия необходимо тщательно обдумывать. Этому ты меня научила.
– Да, наверное, – со вздохом соглашается Риса. – Похоже, я создала чудовище.
Внезапно ей приходит в голову, что после катастрофы в «Веселом Дровосеке» они оба кардинально изменились. Риса привыкла считать, что их дух закалился, как сталь, прошедшая горнило, но иногда ей кажется, что огонь лишь навредил им, спалив дотла. И все же ей приятно, что она выжила и может наблюдать отдаленные последствия того дня. Такие, как «Поправка о семнадцатилетних».
Еще до происшествия в «Веселом Дровосеке» в Конгрессе обсуждалась поправка об ограничении возраста, по достижении которого подростков уже нельзя отдавать на разборку. В соответствии с предложенной поправкой планировалось снизить допустимый порог на целый год – с восемнадцати до семнадцати лет. Однако до теракта в «Веселом Дровосеке», получившего широкое освещение в прессе, никто и не рассчитывал, что поправку примут – люди даже не знали о ее существовании. Об этом заговорили только тогда, когда лицо бедняги Левия Калдера появилось на обложках всех известных журналов: невинное лицо юноши в белых одеждах. Со школьного снимка глядел аккуратно подстриженный улыбающийся мальчик с ясными глазами. Вопрос о том, как это примерный ребенок мог стать Хлопком, заставил всех родителей призадуматься: раз такое могло случиться со Львом, кто может поручиться, что их собственные дети однажды не закачают в кровь убийственную взрывчатку и не взорвут себя в приступе безумного гнева? То, что Лев в последний момент удержался от этого шага, поразило родителей еще больше. Именно это не позволило им махнуть на него рукой, как на обычного выродка, и забыть о нем. Пришлось признать, что у этого юноши есть душа – и разум; а значит, в том, что Лев стал Хлопком, отчасти виновато общество. И тут вдруг, словно для того, чтобы усугубить чувство вины, и без того терзавшее многих, Поправка о семнадцатилетних прошла слушания в Конгрессе и стала законом. Подростков, достигших возраста семнадцати лет, отдавать на разборку стало нельзя.
– Ты снова думаешь о Льве? – спрашивает Коннор.
– Да, а почему ты так решил?
– Потому что каждый раз, когда ты о нем думаешь, время для тебя как будто останавливается. Выражение лица становится такое, словно ты блуждаешь по обратной стороне Луны.