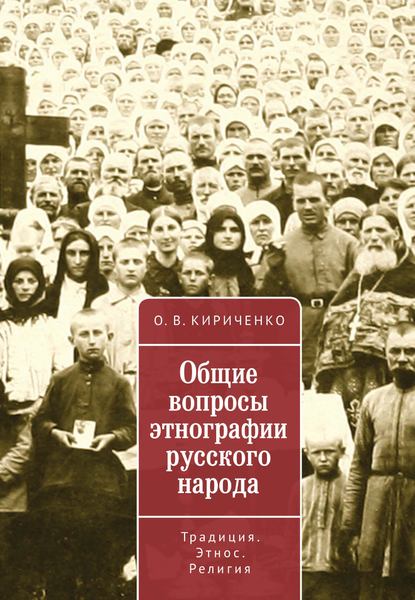По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Общие вопросы этнографии русского народа. Традиция. Этнос. Религия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вместе с тем в период модерна (имперский, синодальный период) со стороны Церкви делается попытка вернуть традиционной культуре ее полноценное значение как культуре общенародной. Этот проект не был рациональным плодом деятельности какого?то одного выдающегося деятеля Церкви, он развивался скорее стихийно, чем сознательно. В данном случае речь идет о появлении с конца XVIII в. движения по созданию женских общежительных монастырей, вырастающих эволюционно из богаделен и общин[127 - Кириченко О. В. Женское подвижничество в России. XIX – середина XX в. Свято?Алексеевская пустынь, 2010.]. За столетие их выросло около пятисот, с численностью в каждом от двухсот до полутора тысяч (в самых крупных). Это явление чем?то напоминало создание Северной Фиваиды в XIV–XV вв., с одной лишь разницей, что инициатива создания новых обителей в сельской местности на этот раз шла от женской (девичьей) части общества. Причем как от русской, так и представительниц других православных народов России (мордвы, чувашей, марийцев, карелов). Соответственно, не мог не возникнуть на этой почве и феномен сословного единения в рамках общего дела. И действительно, эти монастыри были общесословными, с преобладанием крестьянских насельниц. Снова появился шанс объединения хотя бы части народной культуры, но на общей сословной и религиозной почве[128 - Некрасова М. А. Православно?народная сущность Образа. Воздействие на крестьянское искусство этики и этетики древнерусской культуры. Монастыри. Их роль в зарождении искуства народных промыслов. XVIII – начало XX в. // Народное искусство: Русская традиционная культура и православие… С. 13–27; Кириченко О. В. Народные основы женского монастырского творчества // Там же. С. 503–515.].
Новые женские обители создавались большей частью на новых местах, в стороне или вдали от городов и сел. Но сюда стали стекаться все самобытные творческие силы из разных областей художественной сферы: архитектуры (так выросла оригинальная русская провинциальная школа), живописи (иконописи), церковного пения, книгоиздания и переводов с греческого и латинского. У провинции и столичных центров (Санкт?Петербурга и Москвы) появились тесные творческие связи. Опять, как и в давние времена, монастыри стали влиять на столицу, хотя и не в такой степени, как прежде. Эти монастыри были увидены и властью в 1840?е годы, и им стала оказываться всяческая поддержка, хотя в первую очередь в той области, которая была связана с благотворительностью и социальной деятельностью обителей (создание в их стенах школ, больниц, приютов и богаделен). Монахиням приходилось осваивать профессии врачей, педагогов, сестер милосердия (для участия в военных действиях), нянь и сиделок. Они трудились прорабами и рабочими на монастырских стройках, выполняя самую тяжелую и черную работу, которую все другие отказывались выполнять. Монастырские ведомости позволяют судить о полном круге профессий, которые осваивались монахинями и послушницами. Инокини полностью обеспечивали себя всем: от ткани и одежды, до обуви. Многое делалось по заказам мирян из?за высокого качества и дешевизны монастырской продукции[129 - Там же. С. 202–264.].
Данная масштабная попытка вернуть традиционной культуре ее прежнее ведущее значение и тем самым повысить статус и народной культуры столкнулась с самым активным противодействием. Если в XV в. со стороны государства и общества высказывалась лишь одна претензия – к монастырским земельным владениям, то в XIX – начале XX в. таких претензий стало намного больше. С одной стороны, образованное и знатное общество в массе своей старалось вообще не замечать их существования. С другой стороны, в каждом удобном случае на монастыри обрушивались с критикой и бранью, близкой к той, которая стала официальной только в советское время. Это обстоятельство в значительной степени и помешало народной культуре укрепить свои позиции и обрести новый статус вполне официально. Очевидно, женские обители вызывали небывалое раздражение в обществе именно в силу своего почвенничества, монархизма, искренности веры, процветания там подвижничества. Не поэтому ли абсолютное большинство вновь отстроенных тогда монастырей было разрушено до основания после 1917 г.
Появление в русском обществе XVIII – начала XX в. народной культуры в двух вариантах: крестьянской народной и общенародной монастырской, при господствующем существовании культуры модерна как образца чисто городской культуры, уже было отдаленным указанием на грядущую постмодернистскую реальность. Культура модерна не имеет возможностей быть третейским судьей межу культурами и стилями. Модерн требует стилевой определенности на длительный (50–100 лет) исторический промежуток. Здесь же налицо культурная полифония в области народной культуры. В среде творцов модерна зрело активное противодействие превращению его в русский модерн, а тем более растворению его в общенародной монастырской культуре, к чему все начинало склоняться к началу XX в. Так возникла мощная идеологическая оппозиция, занимавшаяся как деэтнизацией модерна, так и погашением его направленности в сторону православия. Имеется в виду активная помощь профессиональным революционерам со стороны подавляющего большинства деятелей творческой интеллигенции того времени. И революционеры добились успеха в 1917 г. на своем поприще не без помощи этих сил.
Русская народная культура в период господства советского постмодерна
В советский период жизненное и творческое пространство русской народной культуры стало резко сужаться. К началу 1930?х годов была полностью уничтожена монастырская общенародная культура, а крестьянская народная культура подвергнута идеологической обработке и частичному уничтожению. В ее недрах, на базе отдельных выдающихся народных художественных школ стали создаваться промышленные так называемые народные артели. Большевики создавали искусственный, безрелигиозный вариант традиционной культуры, где главной стала функция утилитарности. Культура имперского модерна была в значительной степени модернизирована, за счет репрессий, вытеснения за границу немалой части интеллигенции и подчинения остальных сил жесткой идеологической задаче преобразования общества на основе новых ценностей. Характерной особенностью советского постмодерна было утаивание от советских граждан постмодернистской сущности советской культуры. Она декларировалась в качестве народной, но в реальности строилась культура скрытого постмодерна. При этом большевики и не подозревали, что строят они культуру не модерна, а псевдомодерна или, если быть точным – советского постмодерна.
«Народность» власти не могла лишить культуру такого приоритета, как звание «народная культура». Эта культура, по мысли большевиков, пришла на смену буржуазной, аристократической культуре, культуре верхов, антинародной, по их мнению. Соответственно, народная культура отныне становилась единственной культурой, имеющей право на существование. В декларировании это означало, что отныне снималась идеологическая разница между городом и деревней, аристократическая культура уходила в прошлое, оставалась одна общая народная, совокупно пролетарская (городская) и крестьянская (деревенская) культура. Но, поскольку у пролетариата никакой своей культуры не было, да и самого пролетариата было не так много, по сравнению с крестьянством, поэтому его нишу и стала занимать партийная революционная культура, имевшая место только на бумаге, только в трудах классиков марксизма. Эта теория и должна была воплощаться в жизнь в городских условиях.
Светскость, которая в предыдущий имперский период играла роль медиатора, среды общения с западной культурой, стала наполняться новым идейным содержанием – воинствующим атеизмом и служить другой задаче – противодействия западной (буржуазной) культуре. Неофициальный культурный постмодернистский проект большевиков поначалу создавался как международный, в рамках реализации идеи всемирной революции. Большевистская псевдоимперия должна была охватить весь земной шар и объединить все человечество на основе марксистской идеологии, в основу которой был положен воинствующий атеизм – богоборчество. Но после кончины Ленина и нейтрализации Троцкого с его сторонниками возобладала другая тенденция и стал реализовываться проект внутреннего советского постмодерна. Перестройка Москвы под этот проект началась в 1930?е годы. В 1935 г. появился генплан рождения новой Москвы[130 - Чекмарёв В. М. Сталинская Москва. Становление градостроительной темы «мировой коммунистической столицы». М., 2012. С. 5.]. Под снос или реконструкцию попадали все здания, построенные после 1613 г., здания после 1825 г. вообще не считались памятниками архитектуры[131 - Там же. С. 12.]. Новая Москва должна была стать «идеальным городом», поскольку здесь реализовывались три доминаты[132 - Там же. С. 40–42.]: 1) идея «идеального градостроительства» должна была указывать на торжество рационализма, математическую выверенность культурного пространства города (земной план); 2) идея создания «города?сада» раскрывала сердечные стороны, указывали на райские смыслы (материалистический «небесный» план); 3) идея создания идеальной городской логистики (дороги, транспорт, метро и т. д.) подчеркивала стремление к идеальному комфорту (единение земного и небесного).
Что переживала в те годы народная сельская культура, которая хотя и получила официальный статус «народной», но должна была строго следовать указанному ей курсу: позабыть о православии и не выходить за отведенные ей рамки народности? Посмотрим на примере Палеха, как это происходило. Дореволюционный Палех – это большей частью народная иконописная традиция, где сочетались иконописные каноны и народная стихия самых разных евангельских и исторических сюжетов. Когда после революции палехские иконописные мастерские были закрыты, то все творческое сообщество палешан разбрелось, занявшись разным трудом: «одни стали малярами, другие декораторами клубных сцен, многие обратились к земледелию и мелкому промыслу: расписывали деревянную посуду и игрушки»[133 - Некрасова М. А. Палехская миниатюра. С. 89.]. Только к 1923 г. в Палехе начинает возрождаться прежняя творческая жизнь, хотя и в меньших масштабах. Палешане меняют и предмет росписи, и сюжеты. Постепенно здесь утверждается техника лаковой росписи по мелким изделиям из папье?маше, и эта техника становится визитной карточкой нового Палеха. В 1924 г. появилась палехская артель, а уже в 1925 г. палехские мастера прогремели на Парижской выставке[134 - Там же. С. 90.]. Вместо религиозных сюжетов темой лаковых миниатюр стали сцены из сельской жизни: жатва, пахота, народный сельский праздник, свадьбы, часто рисуется мир охоты. Охотники травят зверя: львов, оленей, лис. И кажется, что за этим стоит другая картина: охота нового за старым. Вот несется русская тройка и ямщики с трудом отбиваются от стаи, окружившей коней и наездников. В 1930?е годы палешане переходят к сказочным сюжетам, много иллюстрируют сказки А. С. Пушкина, потом переходят и М. Ю. Лермонтову, затем – к русским былинам. Иносказательные, сказочные и былинные образы становятся новым творческим языком для палехских мастеров.
Здесь необходимо отметить один важный факт: несомненно, налицо творческий взлет палехского искусства, его новый творческий порыв, где много выдающихся открытий. Это и отмечает в своей монографии выдающийся теоретик народного искусства М. А. Некрасова[135 - Там же. С. 91, 147.]. Откуда он мог появиться на чуждой народу идеологической почве? Думается, объяснение этому необходимо искать именно в декларировании властью приверженности к народной культуре. На этой новой волне свободы творчества (как будто такой же, как в XIX столетии, но если приглядеться – лишь внешне похожей на прежнюю) русский крестьянин иллюзорно, на короткое довоенное время обрел свободу от внешнего давления аристократической культуры. Однако, как показывает тематика сюжетов палешан, им не чужды были художественные труды отдельных аристократов дореволюционного времени, тесно связанных с русской жизнью и православием. Уже в послевоенный период, начиная с 1950?х годов, эта свобода начинает быстро уходить из умов и сердец палешан, вместе с быстрым ростом идеологического давления на сельскую народную культуру. М. А. Некрасова, будучи в экспедиции в Палехе в начале 1950?х годов, с ее слов, застала там «сидящих по избам и трясущихся от страха народных мастеров»[136 - Беседа О. В. Кириченко с М. А. Некрасовой 25 октября 2014 г. в ее доме.]. Однако несмотря на это юная аспирантка Мария Александровна, по ее словам, «сразу почувствовала в них старую дореволюционную традицию, подлинную народную традицию и это меня необыкновенно захватило». Со слов автора в эти годы палехские мастера стали ощущать на себе особое идеологическое давление и поддаваться ему. Некто Коротченко, по партийной линии, специально следил за тем, чтобы палехцы работали в нужном русле. И когда М. А. Некрасова попыталась разговаривать с мастерами о старой традиции и о возможности возвратиться к ней, она услышала от партийного функционера угрозы в адрес ее института. С большим трудом удалось тогда Марии Александровне защитить кандидатскую диссертацию по Палеху, хотя уже в институте от нее требовали сузить тему «до народного орнамента», лишь бы не звучали широкие понятия народная традиция, народное искусство и т. п.
В советский период впервые появляется новая культурная среда, которую следует обозначить как советский постмодерн, который еще не осознавался тогда как таковой, т. е. как культура разрушения традиции, как антикультура, ставящая целью использование прежних высоких смыслов, господствующих в пространстве традиции и модерна, для создания утопических идеологических манипуляций, направленных на слепое подчинение народа коммунистической идеологии нового государства. Народная культура, будучи лишь ширмой для масштабных экспериментов с культурным пространством, целью которых было разрушение ее сохранившихся основ. Начиная с 1950?х годов, с хрущевской эпохи, перед народной культурой закрываются все двери, дававшие ей свободу, и она остается в тесном единстве с партийными идеологами, определяющими нормы и правила ее развития. Поле ее творческой самобытности сильно сужается. Лишенная возможности выражать себя через духовные идеалы, она обрекается лишь на творчество в рамках эстетического канона, в тех его формах, которые были разрешены. Отсутствие творческой и даже коммерческой связи с городом лишало сельскую народную культуру возможности участия в больших проектах. Выход писателей?деревенщиков наверх, в большую литературу, было острым сигналом тех бедствий, что неумолимо надвигались на деревню, лишаемую возможностей для творческого самовыражения[137 - Вспомним известную повесть Ф. Абрамова «Деревянные кони», где был поставлен вопрос о том, что без носителя традиции, человека традиции, каким в повести выступает старуха Мелентьевна, этнографический быт превращается в музейные экспонаты, в «древний хлам», неинтересный писателю.]. Но к этому голосу общественной совести советская власть так и не прислушалась.
Русская народная культура и православие
Мы рассматриваем культуру с точки зрения наличия или отсутствия в ней религиозной составляющей основы. Культура может быть или традиционной, и тогда она теоцентрична, или модернистской, антропоцентричной по своей сути. Мы живем в эпоху, когда господствующее положение стала занимать постмодернистская культура, и поэтому она не только сама по себе имеет наибольшее влияние на общество, но и концептуально претендует на первенствующие позиции. Эта культура принципиально исключает религию из своей основы, борется с ней, и делает эту борьбу основой своего существования. В результате традиционная православная культура в России, имеющая тысячелетний возраст, оценивается сегодня теоретиками?постмодернистами (которых сотни и тысячи), и эта оценка настолько искажает ее реальный портрет, что мы получаем миф о традиционной культуре, картину, далекую от реальности. Нарушается главный принцип в оценке культурного явления – аутентичность, его подлинность. Постмодернисты пишут историю русской традиционной культуры даже не с атеистических или иных – чуждых православию духовных позиций, а с нарочито антинародных, нередко русофобских позиций, но облекая свой текст в научную форму. Для постмодерниста?культуролога или этнолога есть свой тезаурус, считающийся единственно научным и допустимым. Но дело не только в языке, на котором говорит исследователь, основная проблема состоит в разнице подходов двух принципиально разных направлений. Постмодернисту привычно объяснять культуру как своего рода ребус – загадку, которую оставило прошлое. «Культура рассматривается прежде всего как система символов и значений, и задача ученых представляется как интерпретация социальных конструктов и определенного текста», – пишет в энциклопедическом словаре «Народы и религии мира» академик РАН В. А. Тишков[138 - Тишков В. А. Единство и многообразие культур // Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. С. 5.]. Между тем как для православного исследователя традиционной культуры символический язык – это только один из возможных языков. Язык же православной традиционной русской культуры – уже тысячу лет единственной традиционной культуры – ее символический церковный язык – вполне доступен для понимания даже рядовым верующим православным христианам, если они люди церковные. Хотя учиться понимать символический язык необходимо всем, здесь всегда остается поле деятельности. Между тем традиционная культура сложна и бесконечно глубока другим – реальностью претворения в жизнь религиозных верований, той духовностью, которая слепила тело культуры и оживила его: от хозяйства до произведений искусства. Символ есть лишь малая толика культурных реалий рядом с глубинными процессами творения, проживания и сохранения (воспроизводства) традиционной культуры. Поэтому является ошибкой рассмотрение народной культуры как собрания музейных артефактов. Она – реальная жизнь, в которой находятся рядом и результаты культурного творчества, и созидающие культуру люди, и механизмы, позволяющие традиционной культуре воспроизводить свой потенциал.
Постмодернистские историки и этнологи, исследующие культурогенез в России, не отказываются от самого термина «традиция», но по?своему его трактуют. Для них традиционная культура – это явление времени архаики, периода господства языческого мировоззрения, времени до крещения Руси. С их точки зрения элементы архаичной традиционной культуры продолжали существовать и после Крещения Руси, когда народная культура боролась с «официальной» – культурой церковной и государственной. Тогда народ, дескать, заставили принять официальную культуру, на деле же он продолжал тайно исповедывать свою народную – языческую культуру; так в двоеверии народ и прожил вплоть до революции 1917 г. Русские этнографы начиная с XIX в. стали вычленять в народной вере «исконное» традиционное начало – реконструировать языческие элементы и в языческом ключе интерпретировать народные христианские памятники. А поскольку большая часть исследователей?этнографов рассматривала культуру с модернистских позиций, в рамках идеологии народников, атеистов и революционеров, то уже до революции, за редким исключением (П. В. Киреевский, И. Е. Забелин и ряд других), стала складываться школа модернистской оценки традиционной культуры. Советская школа этнографии еще более определенно и целенаправленно стала исследовать традицию как комплекс идей, воззрений, сложившийся в период архаики, в языческую эпоху. Лебединой песней этого направления стали несколько крупных монографий археолога академика Б. А. Рыбакова[139 - Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981; Он же. Язычество Древней Руси. М., 1987.], посвященные язычеству как культурообразующему явлению.
В рамках этнографической науки традиционность рассматривалась не обязательно в религиозном мировоззренческом ключе, немалая часть исследователей занималась изучением вещественных комплексов: традиционной одеждой, пищей, строениями, бытовыми вещами, фольклором, скрепляющим началом всего комплекса считалась языческая духовность. Все символические и смысловые интерпретации вещей и текстов при этом тяготели к «этнографическому времени» – архаике.
Такой подход отрицал существование народной православной традиционной культуры как реальной, живой, выросшей на духовных дрожжах – на православии. Считалось, что если культура народная, то она не православная, и если православная, то не традиционная. Между тем как православный подход к исследованию традиционной культуры позволяет воссоздать совершенно иную картину бытования традиционной культуры, в полном соответствии с принципом аутентичности, объяснения культуры из нее самой, из языка ее созидателей. Первой исследовательской посылкой в этом случае будет аксиома: традиционная культура не существует без религии, так как именно религия (как система таинств, ритуалов, обрядов и практики) обеспечивает существование самого феномена традиционности. Здесь следует дополнительно сказать еще о том, что культура также не может существовать вне определенного этнического пространства, которое мы называем этносом (народом). Если религия обеспечивает существование традиционности, то этнос поддерживает территориально?жизненные возможности традиционной культуры. Любая традиционная культура моноэтнична, поскольку она всегда создается силами одного народа. В понимании этноса для нас принципиально важны не те внешние признаки народа, которые на виду: язык, антропологические особенности, менталитет и проч. Важно этноформирующее начало – этничность, которой один этнос отличается от другого. Как и в описании человека, в описании этноса мы должны быть до предела честны и откровенны. Иначе, если мы ограничимся «прямохождением, способностью к труду и абстрактным мышлением», то волей?неволей нам придется признавать происхождение человека от обезьяны. Но в том случае, если за человеком признается наличие бессмертной души и совести как основы его нравственности и духовности, признается религиозное чувство как естественное состояние человека, тогда никакая логика и идеология не собъют нас с пути истинного в понимании человека. Этнос (народ), как и личность человека, нельзя описать только суммой внешних признаков, которые можно увидеть невооруженным взглядом: такой?то язык, такой?то тип лица, такие?то волосы, такой?то комплекс традиционной культуры и т. д. Народ, как и отдельный человек, рождается, а не появляется произвольно, более?менее случайно. Как один человек, независимо от национальности, цвета кожи и языка близок другому сущностно (и так же отдален) – своей совестью, так и народы близки друг другу (и отдалены) своей коллективной совестью. Только на этой общей духовной платформе и возможно принципиальное взаимопонимание между народами как коллективными субъектами. Экономические, правовые, культурные рычаги взаимодействия не могли бы работать, если бы не было этого главного фактора сближения. Коллективной совестью – печатью Духа Божия запечатлен каждый народ в истории вместе со своим рождением. Поэтому этнос продуцирует себя в истории не случайно, не хаотично, а традиционно, воспроизводя в максимальной полноте те нравственные и религиозные ценности, которые помогают его совести быть чистой и спокойной. Но разве может что?нибудь разъяснить такое определение традиционности, которое кажется этнологу?модернисту классическим и неоспоримым: «процесс внебиологической передачи от поколения к поколению устоявшихся образцов поведения»[140 - Першиц А. И. Традиции // Народы России: Энциклопедия. М., 1994. С. 462.]? Сухость и краткость этой дифиниции указывает на крайнюю упрощенность подхода, мировоззренческую невозможность автора увидеть реальную глубину явления традиционности.
Глубинные связи этноса, религии и культуры можно проследить, рассматривая иерархию соотношения этих трех областей. Культура, на наш взгляд, вторична по отношению к традиционности, ведь она традиционна, потому что традиции обеспечили существование еще религия и этнос – воспроизводящие основы традиционности, как и культура. Среди этих трех формирующих традиционность сил на первом месте стоит религия, на втором – этнос, на третьем – культура. Порядок разрушения традиционности в каждой из трех сил также начинается в порядке иерархии; сначала разрушается традиционность в культуре, за счет вытеснения религиозного и традиционного начала из нее в пользу безрелигиозного и космополитического элементов. Так традиционная культура заменяется модернистской культурой, которая в ее крайнем выражении (постмодернизме) есть культура разрушения, культура смерти и распада. Но поскольку это разрушение оформлено в культурные формы «пира во время чумы», то весь данный процесс выглядит как культурный, там есть свое искусство, свой этикет, трагический пафос «упования в бою и бездны мрачной на краю…», словом, есть культурная атрибутика. Распад традиционной культуры очень скоро затрагивает и традиционность в этносе, т. е. начинается затемнение коллективной совести народа; здесь идет тот же процесс деградации и разрушения. Начинают разрушаться все этнические барьеры, от семьи до исторической памяти.
Традиционная культура может быть или языческой или монотеистической, как и модернистская культура может паразитировать на языческой традиционной культуре или на монотеистической. Ошибки тех исследователей, которые пишут о двоеверии и считают, что языческая традиционная культура могла сосуществовать с «официальной» православной, состоят в том, что они не считают православную культуру X–XX вв. традиционной. Какой угодно: церковной, официальной, православной, но не традиционной. И вторая ошибка их состоит в непонимании функционирования природы традиционности. Если нет церкви и основных традиционных религиозных ритуалов и обрядов, то нет воспроизводства традиционности. В языческой восточнославянской «церкви» это были разного рода жертвоприношения, магические действия, которые выполняли жрецы. Это был целый комплекс традициционной жизнедеятельности, с его сельскохозяйственным аграрным календарем; языческой ритульно?обрядовой деятельности, касающейся всех сторон жизни общества. Когда религиозная ситуация кардинальным образом изменилась и «огнем и мечом» были уничтожены капища, идолы, и те жрецы, которые сопротивлялись новой вере, вот тогда язычество на Руси перестало быть силой, обеспечивающей механизм воспроизводства традиции. При этом те традиционные начала, которые восточнославянский разноплеменной этнос уже имел, т. е. тот запас коллективной совести, легли в основу формирующегося нового русского этноса, обеспеченного принципиально иной по мощности религиозной силой воспроизводства традиционности. Выбор веры у наших предков потому и был сознательным, что они не столько увидели, сколько почувствовали это новое могучее дыхание христианской веры, как духовной силы, преображающей и самого человека, и культурный мир и природу. Язычество на Руси, оставшись без «церкви» (легального культа, жрецов, участия народа в религиозной жизни), не могло генерировать традиционность в культурной и иных областях, поэтому, если оно и продолжало сохраняться в виде отдельных аграрно?магических обрядов, но при этом стало носить характер суеверной привычки у части сельчан и театрально?художественного действа у горожан (чем во многом стали купальские и масленичные обряды в России). Весь сложный комплекс аграрно?магической обрядности был наиболее консервативным явлением, но и он потерял свою силу и направленность в связи с господством Православной Церкви и отсутствием процесса воспроизводства традиционной языческой культуры. Языческая традиционная культура в той ее части, что не пожелала сливаться с православием, стала превращаться в модернистскую, живя саморазрушением и пытаясь иногда уколоть или подточить живущую рядом традиционную православную культуру. Колдовство, черная магия, все, что было связано с заклинательной практикой – всё это и существовало в виде модернистской языческой культуры рядом с православием. Эта антикультура смерти по?своему была страшна, особенно для тех, кто был слаб в вере. Этих людей модернистская языческая культура в дореволюционной России заставляла быть суеверными, малодушничать и даже порой обращаться за помощью к ее адептам – колдунам, знахарям, ворожеям. Но никогда православная традиционная культура ни на йоту не сливалась с небольшими островками модернистской языческой культуры, и потому ни о каком двоеверии – «православном язычестве» – говорить нельзя, так как не было факта сосуществования двух вер – Православной и языческой.
Некоторые исследователи языческой традиционности делают предметом исследования православную культуру, вычленяя в ней «православное» и «традиционное языческое», объясняя, что в православной культуре нет ничего своего, а есть одни только заимствования из языческой культуры. Особенно в этом преуспели представители структуралистского направления, для которых поиск так называемых бинарных оппозиций позволяет в любом явлении православной культуры находить языческую подкладку. Так, например, автор учебного пособия для учащихся X–XI классов «Русская традиционная народная духовность» А. В. Юдин провел кропотливую работу, сличая православные сюжеты с языческими и делая первые несамостоятельными и как бы типологически зависимыми от вторых. Культ святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба в этой ошибочной методологической системе является не более как проявлением древнего языческого общеевропейского культа близнецов. Так в очередной раз, без всякого смущения к своему кафтану был пришит чужой рукав. Описание Пасхи этот автор свел к нескольким суеверным действиям и обычаям, при этом забыв отметить, что это за праздник и почему миллионы верующих идут на всенощную в храм, ничего не сказал о богатейшей народной практике отмечать пасхальные дни разнообразными обрядами[141 - Юдин А. В. Русская традиционная духовность. Пособие для учащихся X–XI классов. М.: Интерпракс, 1994.]. Вывод автора, вытекающий из содержания материала, однозначен: именно языческая традиционная духовность лежит в основе русской традиционной духовности, православие – не более чем искусственная оболочка, принципиально ничего не значащая. Такие выводы делаются при полном игнорировании тех работ специалистов[142 - На эту тему писали Г. К. Вагнер, В. В. Бычков, Д. С. Лихачев, В. В. Колесов, М. М. Громыко, М. А. Некрасова, М. П. Кудрявцев, И. В. Поздеева и др.], где доказывается, что здоровое ядро языческой этничности и культуры восточных славян стало другим, когда добровольно подчинилось христианской духовности, и несравнимое с языческим богословие христианских символов, идей, сюжетов вовлекло в свой круг (а не наоборот) те языческие реалии, которые были не искажены языческой культовой практикой.
Проблема, которая обозначилась – «язычество/православие; православие/ язычество» – сегодня приобретает все большую дискуссионную остроту. Важным становится вопрос о характере влияния языческой славянской традиции на русское православие. Апологетами славянского язычества нередко выступают православные авторы, в общем?то понимающие, что две духовные системы, две традиции не могут существовать в одном духовном поле, но они настаивают на этом существовании. Причиной подобной настойчивости, на наш взгляд, является то трагическое современное положение этнической культуры русских и их этничности, которая и заставляет православную интеллигенцию искать пути выхода из кризиса. Сегодня немало представителей русской творческой интеллигенции считают, что одной из главных причин кризиса русской традиции являются радикальный отказ от славянского языческого наследия и слишком активная борьба Церкви с этим наследием. Одни из них говорят, что мы должны брать пример с Европы и Западной Церкви, не разрушавших так последовательно и настойчиво свою «народную традицию». Другие утверждают, что «Церковь не боролась с язычеством», а лишь «с бесовщиной, черной магией, колдовством, идолослужением, кровавыми жертвами… изуверством староверов всех толков, кровавыми и оргиастическими культами»[143 - Рачинский А. В., Федоров А. Е. Русская Церковь – хранительница народной дохристианской культуры. М., 2016. С. 7.]. Что же в этом случае для А. Е. Федорова «язычество», если оно не «бесовщина, черная магия и колдовство»? О нем, оказывается, просто «ничего не известно». Но, по мысли автора, за язычеством стоит «великая индоарийская культура». И христианство лишь освобождало славян?язычников «от страха демонского и боязни зла, христианство освобождало от бесовского рабства». Но у славян?язычников была своя сильная сторона: они создали мощную традицию самобытного освоения мира и самобытного взгляда на космос. Автор не считает противоречащим церковности славянское «почитание космоса, природы, предков», ведь это «не означало их обожествления»[144 - Там же. С. 6.]. Церковь «воцерковила» славянское язычество, а не упразднила его. Авторам упомянутой книги это предисловие необходимо, чтобы проиллюстрировать свою главную мысль о «самобытности русской церковной архитектуры, корни которой в языческом славянстве, а не в Византии». Сам же архитектурный материал, обильно представленный в этом издании и проанализированный с точки зрения «славянской самобытности», а точнее принадлежности к древней индо?арийской традиции, зримо показывает, что у русской церковной архитектуры и древней индийской архитектуры (которую авторы и берут за «образец») действительно типологическое сродство по многим признакам. И мы, вслед за авторам книги, как будто должны признать неоспоримый факт языческого воцерковления славянской традиции и все остальные выводы авторов.
Но меня лично смущает не столько проанализированный архитектурный материал, сколько умело расставленные новые акценты терпимости православной церковности, могущей воцерковлять славянско?языческое почитание космоса, природы и предков. Смущает полуправда понимания значения христианства для язычников; полуправда в отношении язычества, неправда в отношении Византии. Разве миссия Богочеловека Иисуса Христа состояла в отгнании бесов от человека, а не в Воскресении и спасении в вечности человека от греха и смерти?! Язычество же, в православном понимании, – это время господства языческой религии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Язычество не перетекало плавно в христианство на Руси, воцерковляясь, потому что сразу между обеими силами началась борьба, была обозначена четкая граница, разделившая две традиции пропастью, которую перейти (в христианство из язычества) можно было лишь отрешившись от языческих корней. Другое дело, что Русь не сразу во всей своей ойкумене перешла к церковной жизни; сначала это произошло в городах, и лишь после XIII в. – в сельской части. В последующем Церковь боролась с языческими суевериями, но уже не с языческой верой (языческой религии как традиции, как суммы ритуалов, обрядов уже не было), а лишь с суевериями. Мы ничего не знаем о «высокой культуре славян?язычников» ни по археологическим, ни по письменным (античным, византийским и др.) источникам. Но это говорит о том, что не было «высокой культуры». Если античность была, то остатки ее, как и память о ней, сохранились. Интересно, что образцами ткачества русской народной традиционной культуры заинтересовались в других странах с XIV в.[145 - Дурасов Г. П. Узоры русской народной вышивки и ткачества. Изд. Народный музей схимонахини Макарии, 2018. С. 15.] И этому есть объяснение. Простонародная, крестьянская, художественная культура с XIV в. становится церковной, христианской, она расцветает в своей духовной свободе, которой у нее не было, пока она находилась в языческом плену. Отныне русскому крестьянину не нужно было покрывать одежду защитными символами?оберегами, как это делал славянин?язычник, везде и всюду соединяя себя с природным миром, подчиняясь ему и принося ему религиозные жертвы и хвалу. Славянин, став крещеным и церковным человком, вздохнул свободно, открыто, со всей своей духовной, душевной и телесной осовобожденностью и воздал хвалу Богу?Творцу за это. Отныне «черты и резы», символы и знаки стали частью выражения этой радости и хвалы. Раз и навсегда ушел этот языческий смысл рабской подчиненности природным силам (которой умело пользовались падшие ангелы в своих целях); раз и навсегда поменялся смысл прежней символики. Этнографы, которые ищут «глубокие, древние, архаичные смыслы» в этих сохранившихся следах древности, не понимают одного: более глубокий смысл у этих символов на вышитых полотенцах, рубахах, на деревянной резьбе и т. д. находится не в древности, а в их нынешнем качестве. В христианстве – это знаки, оставленые Богом на память, чтобы бывшие славяне?язычники не забывали, что когда?то они находились в рабстве у природы, – той природы, которой Бог в Раю предназначил им повелевать; и падшие ангелы во время этого периода рабства смеялись над людьми, помогали им пресмыкаться и унижаться перед безгласным творением. Очень жаль, что этого не понимает и другой, уважаемый нами, православный автор – Геннадий Петрович Дурасов, написавший книгу «Узоры русской народной вышивки и ткачества» (Изд. Народный музей схимонахини Макарии, 2018), выводящий «подлинные корни народной традиции» из эпохи славянского язычества и даже более древних времен. Им тоже проводится мысль, которую разделяли многие русские этнографы XIX в. Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, С. В. Максимов, И. П. Сахаров, В. В. Стасов и другие о том, что «народ всегда прав», даже в язычестве. И хотя даже в Евангелии истина о народной правоте оспаривается, но мысль эта крепко сидит в головах русской интеллигенции. В книге Г. П. Дурасова древняя, языческая эпоха выглядит как подлиный источник мудрости, время накопления великих знаний, больших тайн и большого искусства, которое лишь в виде осколков сохранилось в крестьянской культуре XIX в. Исследователю сегодня приходится заниматься глубинной расшифровкой символик узоров, сохранившихся на крестьянской одежде. Литературный слог авторского текста мажорный, он передает восхищение, которое сам автор испытывает от соприкосновения с народной художественной культурой, культурой вышивки, культурой глубокой архаики. Автор восхищен русской вышивкой именно из?за ее очень древних, архаичных форм, которые тяготеют ко времени палеолита (а почему бы не сказать о библейском времени!).
Нам же кажется, свет этой символики имеет другое происхождение. Эти сложные символические знаки, нанесенные на одежду, на полотенца, буквально наполнены пасхальным светом; неведомым образом они передают нам, смотрящим на них, что это не голая символика, не зашифрованные криптосмыслы, а крик радости, обращенный к Богу. Народная вышивка полна бессчетного числа криков восхищения преображенным миром: «Ура, ура, ура!». А это значит, что кроме того смысла, о котором говорилось выше – быть памятью о тяжелом, рабском для души, времени язычества, народная символика одновременно содержит и другой контекст, другой смысл – крик радости о свободе от прежних, языческих, оков. У народной символики, запечатленной в вышивке, двойной смысл: 1) она вопиет, радуется, салютует о духовной свободе народа; 2) напоминает, что когда?то то были знаки другой, языческой традиции, дух народа находился в плену и об этом надо помнить. Как образ креста, имевший в римской языческой традиции значение сугубо негативное, в христианстве приобретает тот же двойной смысл: это орудие казни Христа, и это орудие спасения и ограждения от сил зла для христиан.
К сожалению, как показывают обе процитированные, недавно изданные книги Г. П. Дурасова и А. В. Рачинского, А. Е. Федорова, линия на обоготворение народной культуры, в любом ее варианте, начатая еще в XIX в., продолжается и в наше время православными авторами, искренними в своих заблуждениях. Свое желание поддержать любыми способами наш погибающий от безверия русский народ, отрывающийся от корней и традиции, эти авторы превращают, по сути, в орудия разрушения собственной традиции. Это очень больно видеть и понимать.
Русская народная культура в городе
Положение русской народной культуры сегодня плачевно, в живом, первичном ее виде она почти исчезла, умерла. Что можно сделать, чтобы вернуть ее хотя бы в ограниченном виде? Судьба народной культуры – один из важнейших вопросов сегодня не только культуры, но и существования народа (как этнокультурного самобытного организма) в целом.
Рассмотрим среду, которая порождала и поддерживала существование народной культуры. Народная, в отличие от профессиональной, – это культура, которая в хозяйственной, художественной, обычно?правовой и других формах запечатлевает традиционность, т. е. воспроизводящиеся естественным образом формы жизни. Запечатленная традиционность присутствует сегодня наиболее весомо там, где находится источник традиционности, в Церкви. Здесь, в богослужебном годовом круге, сохранилась полнота цикличности, на которую всегда опиралась народная, аграрная цикличность. И хотя аграрность сегодня почти перестала носить народный характер, но все же отдельные ее признаки еще кое?где в российской сельской глубинке сохраняются. Широко празднуются дни урожая, отмечается особым образом посев, жива народная садовая и огородная традиция. Фольклорная и обрядовая среда почти разрушены. Народная словесность существует в сильно обедненном виде лишь в сельской, церковной среде, но и она на глазах умирает вместе с поколением, не знавшим в молодые годы компьютера и интернета. В наибольшей степени сохранилась та часть народной художественной культуры, которая была когда?то связана с промыслами. Речь идет не только о промыслах, известных всей России, но и о самых разных малых и больших промыслах, имеющих оттенок художественности.
Город как отличный от сельского мира организм появился на Руси тогда же, когда и село. Это был привычный для традиционного уклада славян организм. Долгое время русский город принципиально мало чем отличался от села. Городской посадский люд так же, как и сельский, выращивал хлеб и питался своими трудами от земли. И все же с самого начала образование Российского государства город стал приобретать и своеобычные черты. Во?первых, на Руси выросло два типа городов: киевский и новгородский. В условном центре киевского города располагался князь с его дружиной. В центре новгородского города находилась городская площадь, где собиралось вече. В торговом Новгороде народная культура особенно ярко преломлялась и застывала в неких условных формах, которые мы обозначим как модернистские. Модернизм, эпоха модерна, как об этом писал А. С. Панарин, это время, сменяющее традицию, традиционный уклад[146 - Модерн есть перманентная способность к переменам, к критическому самоизменению на основе беспокойной, обращенной на себя рефлексии – Панарин А. С. Русская культура перед вызовом постмодернизма. М., 2005. С. 23.]. В Европу эта эпоха пришла вместе с Возрождением[147 - А. С. Панарин дает модерну еще одно именование – Просвещение.]. В модерне, в отличие от традиции, естественное, органичное воспроизводство заменяется субъективным творчеством, конструированием. Вот почему модерн живет механизмом непрерывной смены стилей. Здесь многое диктует мода. В Великом Новгороде город выступал как пространство модерна, в котором народная традиция лишь служила опорой для создания всё новых и новых образцов городской культуры. То же было и с киевской городской культурой, она тоже жила по закону модерна, с той лишь существенной разницей, что киевский народ и новгородский черпали свой исходный материал из разных источников. Для киевлян – это была болгарская книжная православная среда, а для новгородцев – византийская. Заметим, что ни киевляне, ни новгородцы не могли тогда опереться на крестьянский мир вокруг Киева или Новгорода. Этот мир тогда пребывал еще в язычестве.
Вот почему и та и другая городские культуры носили не только модернистский, но и непочвенный характер. Иными словами, это знание было символическим, умозрительным, в значительной степени привязанным к ритуалам церковного характера. В Киеве князь благодаря этому знанию ритуализировал пространство города. В Великом Новгороде – это делали горожане. Именно Новгород ввел в употребление массовые крестные ходы, шествия, носящие ритуальный характер.
Заметим, однако, что, благодаря близости самих горожан – и киевлян, и новгородцев – к почве, т. е. их народности, эта модернистская городская культура всё же была близка к народной основе. Но долго продержаться и не превратиться в вариант инонациональной культуры, не имея серьезной подпитки со стороны всей сельской массы, древнерусский город не мог. В период монголо?татарского нашествия молодая русская народная культура была проверена на прочность и не выдержала обрушившихся на нее испытаний. Народ не сумел тогда сплотиться в одно целое, защищая страну.
Реальное духовное просвещение сельского населения началось на Руси не ранее последней четверти XIV в. и активно проходило в течение XV столетия. Тогда же в результате сложных политических процессов Новгород поглощается Москвой (а она видела себя наследницей киевской, а не новгородской традиции), и к концу XV в. возникла следующая ситуация. В качестве общего центра (и образца для народа) остается Москва как правопреемница киевской традиции, при том, что сельское население Московской Руси, благодаря созданию общежительных монастырей учениками преподобного Сергия Радонежского, становится православным. Соответственно городская культура Москвы и других городов Московской Руси строится с опорой на многочисленное сельское – крестьянское население. Модернизм (застылость и смена стилей) сохраняется, как сохраняется и ставшая привычной опора аристократии и великого князя на символизм в ритуале. Но появляется и нечто новое, чего раньше не было. Народная культура во всем объеме приходит в город. Объем и натиск ее был так велик, что город – с его механизмом модерна – готов был раствориться в традиционной крестьянской культуре. Город стало лихорадить, он оказался не готов в таком количестве перерабатывать народную культуру и превращать ее в культуру модерна. Этот кризис пришелся на время правления Иоанна IV, и именно ему пришлось мобилизоваться, чтобы ответить селу. На московскую митрополичью кафедру в 1542 г. приглашается новгородский митрополит – святитель Макарий. В 1547 г. происходит венчание Иоанна IV на царство. В том же году начали проходить в Москве соборы, канонизировавшие новых святых. В 1549 г. проходит I Земский собор на Руси, в 1550 г. появляется Судебник. После великих побед в восточном направлении над Казанским и Астраханским ханствами начинается народное переселенческое движение в Сибирь. Незадолго до похода на Казань в 1551 г. проходит в Москве Стоглавый собор, на котором поднимаются и вопросы, касающиеся народной культуры. Строгий порядок опричнины в 1565–1572 гг. был направлен не против народа, но был в числе прочих мер, нацеленных на стабилизацию ситуации в области народной культуры.
И все же, как показали последующие события, Смуты избежать не удалось. И хотя виновниками ее были большей частью люди из числа московского боярства, но последние сумели увлечь народную стихию в водоворот политического хаоса, и город был поглощен сельской стихией. И дело не в том, что сельская народная культура располагала к бунту, была агрессивной, она не была таковой. Во взаимоотношениях модерна и традиции наступила новая эпоха. Начиная с эпохи Иоанна Грозного модерн и традиция, город и деревня стали лицом друг к другу как равные соперники. Это противоречие в определенные моменты могло принять антагонистический характер из?за того, что народная традиция не желала больше растворяться в городской культуре, не желала более питать своими соками городского обывателя. Да и у горожан к XVIII в. вдруг появились очевидные предубеждения, что «народное» от «разинщины» мало чем отличается. Этот критический настрой по отношению «к народному» заметен уже со Стоглавого собора.
В последующие века, вплоть до XX в., как бы ни решалась проблема адаптации сельской народной культуры и городской, перед властью и перед правящим слоем дворянства все время вставала угроза русского бунта, «страшного и беспощадного». Итак, православный русский город начиная с эпохи Грозного, когда он как будто нашел то, к чему стремился – свою народную почву для модернистского городского преломления культуры – сам был удивлен и испуган этой невиданной мощью, грозящей его поглотить. И далее, как нам представляется, поступательное движение в России пошло в сторону поиска городом возможностей нейтрализации народной творческой сельской силы. Первым крупным шагом на этом пути стало открытие «территориальных шлюзов» в переселенческом движении народа на восток, а потом и на юг. Это период XVI–XVII вв. Следующим действием было создание империи. Переход к новому типу государства, где впервые появляется новая область культуры – светская – был продиктован в первую очередь тем, что в рамках старого государственного управления стало опасно решать задачу преобразования традиционной народной культуры в культуру модерна. На это натолкнули следующие события. Внутри Церкви, т. е. в самом сердце духовной жизни страны, появилось недовольство церковными реформами патриарха Никона, которое стало быстро шириться. Патриарх Никон, обратившись к греческому опыту, тем самым вернулся к давно отжившей модели периода Киевской Руси, когда город опирался на чужой народный опыт (византийский и болгарский). В действиях патриарха просматривалось скрытое недоверие к русской народной традиции, не сумевшей, по его мнению, сохранить православную культуру предков. Раскол готов был не просто расколоть, но и разрушить Россию. Именно перед лицом все расширяющейся пропасти между городом и селом – государство в лице Петра I предпринимает странный на первый взгляд шаг. Оно обращается за народным опытом не к православным странам и традиции, а к протестантским. Если католики находились в резко оппозиционных отношениях к православию, то протестанты русскими оценивались более нейтрально. Вспомним, что первая иностранная община протестантов?немцев появилась в Москве при Иоанне Грозном. Кроме того обращение к опыту православной Греции затрагивало самое сердце – веру православную. Обращение же к протестантскому опыту Германии и Голландии не означало еще отказа от православия, это было лишь обращение к хозяйственному опыту иностранцев. Для народа подобные действия власти не были уже столь категорично неприемлемыми.
Отныне между государством и народом заключался негласный договор о служении. Народ может оставлять свою культуру и поступать на службу государству. Поскольку Российская империя, как и любая империя, решала в первую очередь не политические или экономические задачи, а религиозные, то для крестьянства протестантская форма, в которой проходила имперская деятельность, не имела большого значения. Главное, что сам имперский проект России решал православные задачи. Вот почему народ принял новые условия своего существования, и расширение раскола прекратилось.
Но на повестку дня встал другой вопрос, касающийся судьбы русской народной культуры. Ведь русский город, как место сосредоточения модерна, нуждался в духовном, народном источнике для своего существования. Власть же, чтобы нейтрализовать оппозиционные возможности аристократии, всегда готовой использовать силу народной стихии для своих целей, создает в городе очаги светского мира. Собственно светскими были уже протестантская одежда, наука, школы, образ жизни царя и чиновников. Но, первыми светскими локальными очагами быта стали светские развлечения – балы, в которых могли принимать участие равно мужчины и женщины. Балы заменили старинные аристократические пиры. При этом дворянство должно было решать в рамках служения империи и императору задачи православного просвещения как общей почвенной духовности для всех народов страны. Крестьянство и дворянство были отныне разъединены культурой, но связаны долгом служения вере, религиозной задаче.
Русская народная культура попадает в странное положение: она существует, она питает империю и город своими соками, своей почвой, но город в лице аристократии до появления интеллигенции из дворянства (Пушкин, Лермонтов, Гоголь и др.) делает вид, что этой культуры не существует. Разрыв, который в XVII в. шел по линии «народная культура – государство», в XVIII в. стал проходить по линии «крестьянство—дворянство». Крестьянская народная культура становится все более чуждой дворянству, от чего теряли обе стороны. Дворянская культура все больше отчуждается от народа, но и народ не остается в долгу. Разрыв органики двух культур влиял на то, что крестьянская культура постепенно стала утрачивать высокий профессионализм, а также тесную связь с церковной культурой. В ней быстро растут языческие паллиативы, на что стали обращать внимание епархиальные архиереи уже в XVIII в. XVIII век вообще сыграл роковую роль в судьбе народной культуры. Именно тогда в ней начинают возникать образцы «вторичной народной культуры»[148 - Вторичная народная культура – понятие, характерное для современной эпохи, но оно вполне применимо для любой эпохи, где традиция вступает в конфликт не с модерном, а с собой. Некий «психологический» разлад.], что связывается с суевериями, активизацией внутри аграрно?обрядового комплекса рецидивов дохристианской аграрной обрядности, магии и колдовства. На этой почве выросло русское сектантство.
Ширится социальный разрыв между дворянством и крестьянством и это заставляет правительство (Петра III, потом Екатерины II) принимать меры. Дворянству было разрешено жить в деревне постоянно в качестве помещиков. Помещичья деятельность стала рассматриваться как служение. Но народного бунта избежать не удалось. Пугачевщина до основания потрясла дворянский мир екатерининской России. Именно это событие заставило имперское дворянство со всей серьезностью и искренностью взглянуть на народ. Но сначала с мистическим страхом. Этот страх довлел над дворянством вплоть до войны 1812 г., когда народ принял активнейшее участие в защите Отечества. Ужас перед народной стихией сменился восхищением народом. Трудно было бы понять народолюбие, которое овладело высшим сословием после войны 1812 г., если бы этим событиям не предшествовал пугачевский бунт. Пушкин в «Капитанской дочке» так и ставит вопрос о преодолении разрыва между аристократией и народом. Эти два события – пугачевщина и война 1812 г. заставили образованную и совестливую часть помещиков обратить особое внимание на народную культуру.
Дворянство меняется. Оно начинает жить на два дома: летом в деревне, зимой в городе. И это обстоятельство, включая непредвзятый взгляд на народ, породило удивительный культурный расцвет в дворянской городской культуре. Наступила классическая пора единения и симпатии дворянства и народа. И это продолжалось до 1861 года!
В XIX в. помещики?дворяне не только создают классическую русскую литературу – главный плод подлинного народолюбия, но и начинают заниматься исследовательской этнографической деятельностью. Собирают фольклор, обращают пристальное внимание на язык народа. «Безгласное», «малокультурное» крестьянство открывается во всем своем величии и красоте. «Живой великорусский язык» народной речи, ставший текстом, до основания потряс образованное сословие, весь аристократический мир России! «Город» признал не просто равенство с «селом», с крестьянством и его культурой, но и в какой?то мере увидел его превосходство, его почвенность для себя. Его подлинное значение для русской культуры XIX в. можно назвать эпохой торжества русской народной культуры. Ею восхищаются, ее описывают, ее стараются довести до совершенства в художественных, профессиональных образцах, в социальных и экономических экспериментах.
Но бедный своей традиционностью город, склонный переводить традиционную культуру на язык модерна, не был социально един в своем восхищении простым народом. Кроме помещика, жившего на два дома (сельский и городской), к числу образованных лиц, пристально наблюдавших за народом, можно отнести и дворянскую и разночинную интеллигенцию. Разночинец, живущий только в городе, зарабатывавший себе на жизнь своей профессиональной деятельностью врача, педагога, артиста, ученого, – не был глубоко погружен в пучину народной крестьянской жизни, а был с ней знаком скорее по отголоскам в городской среде. Интеллигентское знание о народе принципиально отличалось от дворянско?помещичьего. Интеллигент не знал коренной жизни народа и соответственно народной культуры, и в то же время рано стал интересоваться всем, что составляло негативную часть народного бытия. В том числе и в культуре. Интеллигента интересовали не здоровое, церковное православие у народа, а отклонения: сектантство, суеверия и т. п. Интеллигент?разночинец, по сути, имел превратное представление о крестьянстве. На рубеже 1840?х годов в городе начинают складываться две разные стратегии отношения к селу и к крестьянству. Оба этих отношения подразумевали симпатии к народу, но при этом одна сторона опиралась в своих оценках на веру и нравственность, другая – атеистическая – на отклонения в народе от норм веры и нравственности.
В результате русский город стал получать не только объективную информацию о крестьянстве, но и крайне субъективную и тенденциозную. Почему же город не отвергал тенденциозную точку зрения на народную культуру, которую распространяли атеистические интеллигентские слои? Это происходило по той причине, что в городе реализовывался не традиционный проект, а модернистский. Как в первом, так и во втором случае народная культура, как лава из вулкана, выплескивалась в город и застывала там. Но только в одном случае – в результате доброй и разумной деятельности с помощью ее отливали подлинные образцы культуры и сохраняли аутентичные традиционным артефакты. В другом случае – готовили «пули» и «бомбы» для наступления на самодержавие, поскольку собирался или обличительный материал о вопиющей бедности, или обличающие власть факты. Таким образом, конец имперской эпохи ознаменовался для русской народной культуры сужением ее возможностей влиять на общество и питать его соками традиции. В результате народная культура доходила до читателя в двух разных видах.
В советский период жизненное и творческое пространство русской народной культуры стало резко сужаться. Репрессии против Православия непосредственно затронули и традиционную культуру. Большевики стали создавать свой искусственный вариант безрелигиозной традиционной (квазитрадиционной) культуры, где главной становится функция утилитарности. Для этого творцы новой культуры, решили вообще не допускать сельскую культуру в город, а встречать ее уже в сельских границах. Они хотели исключить случайность и вариативность, словом, неизбежную сложность, которая возникала, когда продукт народной культуры попадал в город и там, после творческих манипуляций множества людей, превращался в часть культуры модерна. Большевики поступили следующим образом: уже в деревне (через центры кустарных и ремесленных промыслов) они стали создавать готовый продукт традиционной культуры, чтобы не было необходимости в городе заниматься перекодированием и интерпретацией традиционных форм в модернистские. Смысловое, сущностное перекодирование они производили на месте, тем, что лишали изделия связи с православием. Лишь после этой операции народные образцы были годны к употреблению. Жесткий идеологический диктат не мог не сказаться на душе традиционной культуры. Превращая ее в островки профессиональных артелей, советская власть лишала народную культуру связи ее с гущей народной жизни, со стихией, где существовал сложный мир крестьянского социума и природы, мир церковный и мир светский, пропитанный православной духовностью. Лишенная своих живых корней, народная культура была обречена на угасание. Какое?то время до 1960—1970?х годов в деревне еще сохранялись отдельные островки живой традиционной культуры, поскольку были живы еще живые носители ее, хотя и исчезло само воспроизводство, сам механизм функционирования традиционной культуры.
К концу советской эпохи от народной культуры сохранились лишь некоторые сегменты. Здесь мы вправе сделать один важный вывод, касающийся феномена народной культуры. Традиционная народная культура конечна, она может умереть раньше самого общества, самого народа. Сегодня она стала частью русского модерна (лучшей его частью, его основой), и в числе его первичных форм может быть использована для создания таких вторичных форм, которые были бы близки православию и подлинной народности.
Кратко о сфере русской народной культуры[149 - Русские / Отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. М.: Наука, 1999; Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Отв. ред. К. В. Чистов. М.: Наука, 1987; Русский Север. Этническая история и народная культура. XII–XX века / Отв. ред. И. В. Власова. М.: Наука, 2001; Очерки руссской народной культуры / Отв. ред. И. В. Власова. М.: Наука, 2009; Русская народная одежда. Историко?этнографические очерки / Отв. ред. В. А. Липинская. М.: Индрик, 2011; Традиционная культура русского народа в период 1920?х–1930?х годов / Отв. ред. В. А. Липинская. М.: Индрик, 2016; Громыко М. М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М.: Наука, 1986; Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Наука, 1991; Святыни и святость в жизни русского народа. Этнографическое исследование / Отв. ред. и сост. О. В. Кириченко. М.: Наука, 2010; Идеалы и паллиативы в русской традиции и культуре / Отв. ред. и сост. О. В. Кириченко. СПб.: Алетейя, 2018; Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII–XXI вв. Традиции и современность / Отв. ред. и сост. М. А. Некрасова. М.: Союз Дизайн, 2013; Некрасова М. А. Народное искусство России в современной культуре. XX–XXI вв. М., 2003; Народное искусство России. Традиция и современность / Материалы всероссийской научно?практической конференции / Отв. ред. М. А. Некрасова. Вологда, 2008.]
Мир народной культуры включал в себя все сферы жизненного окоема Русского мира. Сюда входили: 1) народное слово или устная словесность (фольклор); 2) народные художества; 3) культура быта, труда, праздников, одежды, социальных взаимоотношений (включая народно?правовую культуру), отношение к животным; 4) обрядовая культура (аграрная, семейная, праздничная, социальная); 5) народная топография (дом, селение, природный мир). Народная культура – всесословная, однако уже в XIX в. народная стала ограничиваться большей частью рамками крестьянской культуры. В народной культуре духовно?религиозный, нравственный и этнический идеал выражены коллективно, как дело всего православно?русского мира. Для Русского мира доныне русская народная культура в подлинном смысле – национальное достояние, бесценный капитал, созданный многовековыми трудами наших предков. К началу XX в. можно было говорить о трех крупных региональных традициях в рамках расселения великороссов: севернорусской, центральнорусской и южнорусской. Центральнорусская (Московская обл., южные части Владимирской, Тверской, Нижегородской и северные – Калужской, Рязанской, Пензенской и др. областей) объединяла северную и южную и являла ядро русской народности. В традиционной одежде – это сарафан с кокошником, в жилище – сруб на подклете средней высоты, акающий говор, ярко выраженное государственное сознание.
Мир русского народного слова
Мир русского народного слова как ни что другое указывает на глубину и ясность усвоения народом христианских истин. Русский фольклор относится к числу богатейших в мире, исходя из своего жанрового многообразия и художественной силы. Фольклор имел прикладное (художественное) и обрядовое значение. Художественный фольклор (эпос, исторические и лирические песни, сказки и т. д.) был настолько важен для народа, что сопровождал его на протяжении всей истории. Записанный большей частью учеными в XIX в., он поразил весь образованный Русский мир своими объемами и художественной мощью. Например, русский эпос (явление, характерное для севернорусской области), существовавший уже на заре российской государственности, дожил практически до наших дней. Народная память в связи с этим была ориентирована на иные глубины и размеры хранения фонда художественно?словесной духовности. Вот почему мы встречаем в дореволюционный период частые пример запоминания обычными простолюдинами всей Псалтири, всего Евангелия, в отдельных случаях – хорошего знания текста всей Библии. В XVI в. на первый план выходят исторические песни, явление, тяготеющее к среднерусской области Руси, потом лирические протяжные песни. Нечто новое принес имперский период в область художественного фольклора, но началась пора его угасания.
Кроме художественного существовал громаднейший пласт обрядового фольклора: семейного и календарного. В семейном (родины?крестины, свадьбы, рекрутчина, смерть) первенство принадлежало свадебному фольклору. Здесь сложилось (к XV в.) уникальное явление – свадебные причитания, драматургия которых является образцом поэтичности и отражения внутренней силы (за счет сочетания скорбного и радостного начал). Область русского причета стала особо притягательной для многих классиков русской литературы, от Н. А. Некрасова до А. А. Ахматовой. Календарный фольклор, также входящий в обрядовую часть, отличался многофунциональностью и разнообразием в содержании. Впечатляет фонд игрового фольклора: например, около 800 вариантов старинных праздничных развлечений, хороводов, игр, шуток, розыгрышей фиксируют только современные исследователи севернорусского региона, наиболее богатого этой традицией. Сегодня выявлено огромное консолидирующее значение фольклора для этноса. Также отмечается его значимость для создания «пояса доброжелательности» на иноэтничном пограничье. К особенностям русского фольклора следует отнести высокую степень вариативности, т. е. существования многочисленных локальных групп внутри отдельных жанров. Это вызвано высокой степенью соревновательности внутри русского фольклорного пространства. Соревновались между собой даже близлежащие села. К фольклорной вариативности примыкают локальные комплексы одежды и других предметов. В то же время сохранялись и общие черты, которые позволяли говорить об этнической самобытности.
Народная художественная культура
Народное искусство относится к области духовной культуры, базисной части культуры русского народа. Это особый тип органической культуры, развивающейся по закону целостности, где традиция дает ценностную установку творчеству, формируя школы традиции, что позволяло достигать уникальных художественных высот и обновлений. Достижения народного искусства указывают на самый широкий спектр участников – его творцов, от вполне рядовых мастеров, повторяющих у себя на месте те или иные локальные формы в архитектуре, живописи, резьбе и т. д. – до выдающихся творцов, по уровню не меньших, чем профессиональные художники с самыми громкими именами. Такие люди создавали шедевры народного искусства, они во многом определяли лицо новых школ традиций, но имена их, как и все народное, растворялись в их творчестве, как это было характерно для Cредневековой Руси.
Русское народное искусство прошло период своего воцерковления, приобщения к христианству, в XIV–XV вв., когда создавались под духовной опекой прп. Сергия Радонежского общежительные монастыри Северной Фиваиды. Известно, что преподобный сам вырезал детские игрушки. Рядом с общежительными монастырями стали возникать годовые сельскохозяйственные ярмарки как явление не только экономическое, но и стимулирующее художественную активность народа.