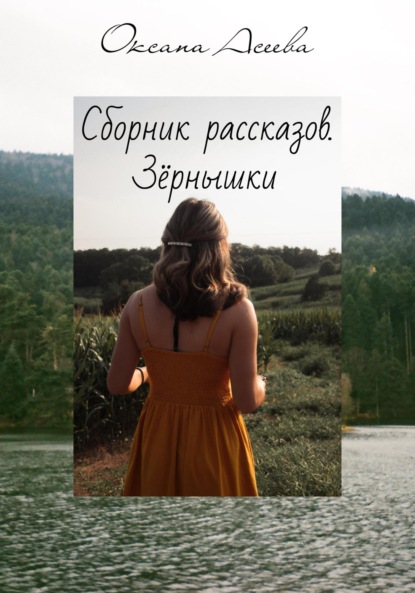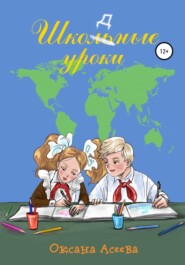По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сборник рассказов. Зёрнышки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бабушка сразу же меня подняла и поставила на железную кровать с сеткой, стоящую возле стены. Кроме сетки, на кровати ничего не было.
Бабушка мне сказала:
– Стой здесь, держись за спинку кровати.
Со своего места я рассмотрел, что людей немного, просто комнатка очень маленькая. В ней собрались одни бабушки. Они сидели вокруг гроба. В нём лежала баба Маруся. Она была маленькая и совсем не страшная.
Никто в комнате не плакал, все спокойно разговаривали, вспоминая бабу Марусю хорошими словами.
Мне было скучно. Я решил пройти по сетке кровати. Когда я дошёл до центра, сетка подо мной прогнулась и чуть спружинила. Я легонько подпрыгнул и чуть не упал. Поэтому я вернулся вновь к металлической спинке кровати.
В этот момент одна из бабушек встала и зажгла лампаду перед иконой. Прежде моя бабушка Варя уже зажигала при мне лампаду перед своей иконой, и мне очень нравилось на это смотреть, потому что зажжённая лампада чем-то напоминала звезду на новогодней ёлке. Однажды я попросил зажечь её для меня. Но бабушка мне ответила, что просто так лампады не зажигают, а только по праздникам и в поминальные дни. Что такое поминальный день, я не знал, поэтому решил, что, раз зажгли лампаду в хате у бабы Маруси, лежащей в гробу, значит сейчас праздник. Тем более две бабушки начали рассказывать что-то похожее на стихи. Только почему-то эти стихи бабушки читали не так, как на утреннике, а монотонно, без выражения.
Глядя на это с высоты железной кровати, я повеселел и в такт чтению начал легонько подпрыгивать на металлической сетке. При этом я держался за металлический поручень спинки кровати. Пружины усиливали мои прыжки. Я подпрыгнул один раз, второй, а на третий присел, с силой оттолкнулся от сетки, и меня подбросило, так, что ноги чуть было не коснулись низкого потолка хаты покойницы. Я, по-прежнему держась за спинку кровати, перевернулся и полетел прямиком в гроб, и если бы не чьи-то руки, схватившие меня, я бы приземлился прямо на ноги покойной бабушки.
Тотчас же к женщине, которая успела схватить меня на лету, подбежала моя бабушка Варя, взяла меня на руки и пошла к выходу. В дверном проёме она остановилась, повернулась к лежащей в гробу бабе Марусе, перекрестилась и вышла со мной во двор. Там она меня отпустила с рук на землю. Я спросил:
– Что, уже мы проводили бабу Марусю? Идём домой?
– Да, идём, – ответила мне бабушка.
Когда мы вернулись домой, я стал играть с котом. Потом вернулся с работы мой дед, Коля. И баба Варя рассказала, как мы ходили провожать бабу Марусю и как я прыгал на кровати. Дед немного посмеялся. Потом, когда пришла за мной мама, эту историю повторили и ей. Мама тоже немного посмеялась.
И мы пошли с мамой домой.
Как я бабушкам молиться мешала
Однажды моя бабушка одела меня, собралась сама, как на праздник, и мы пошли.
Как на праздник – это значит, что бабушка оделась не в ту одежду, что носила каждый день, а в другую, которую надевала в редких случаях. Из-за этого и одежда, и обувь выглядели новыми и оттого считались праздничными. Хоть и таких же тёмных цветов, как и повседневная одежда. Вообще-то по-настоящему праздничной у бабушки была лишь белая батистовая косынка с ажурной вышивкой, называемой выбивкой. Выбивка располагалась посередине самого длинного края косынки, и, когда ту повязывали на голову, украшение оказывалось как раз на лбу. Поверх косынки бабушка покрыла голову платком.
– Собирайся! – сказала мне бабушка, и сама же стала помогать мне одеваться. Это было самое начало 70-х. Я надела белое с розовым пояском платьице, белые колготы, туфельки, плащик блекло – зеленого цвета, белый берет крупной вязки.
В руки мне дали мою детскую сумочку из белой искусственной кожи на длинном ремешке, чтобы носить её на плече, и воздушный шарик на ниточке. Шарики тогда не заполнялись гелием, а просто надувались, поэтому они не летели в воздухе сами по себе, а их надо было всё время подбрасывать. Цвет шарика я не помню, а завязан он был после надувания белой нитью.
На улице стояла сырая пасмурная погода, но не осень. А раз в руках я держала воздушный шарик, это было после праздников. Значит, май. Помню, что было прохладно.
Мы долго шли по дороге и молчали. Я и бабушка.
В моих воспоминаниях сохранилось лишь помещение, в которое мы вошли, самого здания я не помню. Это была просторная большая комната, к ней лучше подошло бы слово «зала». Освещалась она дневным светом больших высоких окон на улицу. Беленые стены и потолок, крашеные полы.
– Стой здесь! – приказала мне моя бабушка. Она оставила меня у входной двери, а сама ушла куда-то вправо и сразу потерялась из виду. Я осматривала зал и не могла её найти.
Весь зал был полон бабушек в таких же тёмных одеждах, обуви, с белыми батистовыми косынками на лбу, прикрытых поверх платками и полушалками. Все бабушки стояли на коленях в несколько рядов. В стороне, противоположной от входа, было установлено подобие трибуны, за которой стояла ещё одна бабушка. Поскольку эта бабушка, в отличие от других, стояла на ногах, а не на коленях, я начала её рассматривать.
Она была в очках. Вместо дужек очков привязана обычная бельевая резинка. Надеты очки поверх головного платка. Линзы напоминают бинокль.
Бабушка смотрит в книгу, лежащую перед ней на трибуне, пальцем руки водит по странице и громко читает что-то. Произнеся очередную тираду, бабушка поднимает взгляд от книги и строго озирает залу и присутствующих в ней. Слушатели, стоя на коленях, кланяются, касаясь лбами пола перед собой. В очках-биноклях взгляд бабушки не только строгий, но, как мне показалось тогда, и злой.
После того как я посмотрела на это действо, мне стало тоскливо. Я понимала, что здесь надо стоять на месте и не двигаться. От этого к чувству тоски прибавились скука и ощущение холода – зала, скорее всего, не отапливалась. Я стояла молча, с сумочкой в одной руке и воздушным шариком в другой. Своей бабушки я не видела, а видела только ноги в тапочках и галошах, и склонённые в поклоне спины множества чужих бабушек, среди которых я не находила своей. У меня появилась мысль в голове: «Что, теперь всегда так будет?»
Плакать было нельзя.
Мой тоскливый взгляд остановился на шарике. Я потянула за ниточку и вяло повела кистью руки: вверх и вниз. Внезапно шарику это еле заметное движение сообщило такую амплитуду, что он, бодро подпрыгнув, вскочил на ноги близлежащей коленопреклонённой бабушки и, попрыгав чуть-чуть, успокоился там. Я, наоборот, забеспокоилась и потянула ниточку, желая возвратить шарик к себе. Но шарик окончательно вышел из повиновения. Следуя за ниточкой, он соскочил с ног бабушки, и поместился у неё между галошами. Я испугалась, что шарик лопнет, потянула за ниточку, но шарик застрял намертво.
Здесь последовала очередная тирада бабушки с трибуны:
– Человек – всего лишь песчинка в этом мире!
Все склонились в поклоне, бабушка, между ступнями которой застрял мой шарик, тоже поклонилась, шевельнув при этом ногами.
– Кх-х-хх! – заскрежетал в полной тишине мой шарик, сдавливаемый с двух сторон.
Все оглянулись на звук.
– Кх-х-хх! – повторил шарик ещё раз, ведь бабушка, чьими ногами он был зажат, повернулась на звук вместе со всеми. Повернувшись, она освободила мой шарик и сердито бросила его мне. Шарик весело запрыгал по полу.
Злая бабушка в это время со своей трибуны обвела всю залу сердитым взглядом, тут же откуда-то подошла ко мне моя бабушка, взяла меня за руку и вывела из залы на улицу вместе с шариком и сумочкой.
– Ну что за дитё! Никуда, никуда с ней не сходишь! – сокрушилась бабушка. Произнесла она это один раз, а потом всю дорогу шла домой молча, поджав губы.
Мы возвращаемся домой, к бабушке. В хате тепло и тихо, слышно только, как громко тикает будильник. Во дворе в летней кухне с раннего утра до полуночи работает на полную мощь радио. Я лежу на кровати под образом Богородицы и болею, болею.
На службу моей бабушке, истинно верующей православной христианке, сходить некуда – православный храм в селе разрушен ещё в середине 50-х. На его месте построен клуб. В соседний город в храм ехать – меня оставить не с кем. А моей бабушке так необходимо послушать проповедь батюшки, исповедаться. Причаститься.
Образ Богородицы в красном углу бабушкиной хаты покрыт кипенно-белой накрахмаленной салфеткой с вышитыми узорными краями. Сама икона – в сине-голубом, крашеном масляной краской окладе.
На Пасху бабушка всегда печёт куличи, называемые здесь, на Кубани, пасками. Куличи огромные, потому что формы для них – старые кастрюли и металлические банки из-под консервов. Паски покрыты помадкой из белков, взбитых с сахаром. Поверх помадки посыпано разноцветное крашеное пшено. Этой же краской крашены яйца. Для детей специально выпекают маленькие паски в баночках из-под сгущённого молока и зелёного горошка.
А на Троицу у бабушки деревянные крашеные полы в хате устланы ароматными травами, душицей и чабрецом.
И не нужна нам та злая бабушка в очках-биноклях!
Мы – не песчинки.