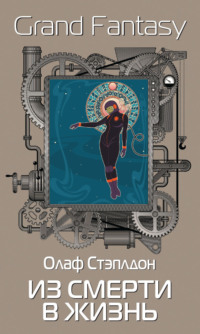Разделенный человек
Я упоминаю об этом случае, потому что тогда он меня немного ошеломил и потому что он вписывается в длинный ряд других встреч Виктора с бессловесными животными. Они, как ни странно, часто и с симпатией выделяли его, даже когда Виктор к ним не обращался. У меня нет правдоподобного объяснения, но факт тот, что животные были неравнодушны к Виктору. К примеру, на прогулках к нему часто привязывались собаки. Бывало, что стоило нам присесть среди поля отдохнуть, появлялась собака и усаживалась напротив него с неизвестной целью. Однажды у деревни к нам привязалась явно шелудивая дворняга. Виктор мягко отпихнул ее, но пес не уходил. «Пошел вон, – крикнул Виктор. – Брысь! Тубо! Фу!» Он свирепо орал и притворялся, будто хочет бросить камнем, но дворняга только виляла хвостом, а потом уселась и принялась вычесывать блох. Тогда Виктор вскочил и твердо проговорил:
– Послушай, брат, у тебя блохи, а у меня их нет, так что, будь добр, держись подальше.
Собачонка, недоуменно склонив голову набок, снова завиляла хвостом. Тогда Виктор припал на одно колено, зажал ее морду ладонями и серьезно произнес такую речь:
– Я знаю, что мы друзья. Знаю, что взаимопонимание навеки связало нас товариществом. Я знаю, что ты ужасающе не понят дома и что вопреки всему сохраняешь героическую веру в род человеческий. Но по причинам, для тебя неочевидным, мы будем любить друг друга издалека.
Потом он мягко оттолкнул животное и снова сел рядом со мной. Собака немного помедлила и шлепнулась на землю, где стояла, с упреком уставившись на Виктора. Немного погодя она снова занялась своими блохами. Когда мы продолжили прогулку, она немного прошла вместе с нами, а потом повернула своей дорогой.
Я как-то спросил Виктора, почему его любят собаки.
– Бог весть, – ответил он, – может, я правильно пахну.
Детям он тоже как будто нравился. Виктор никогда не заигрывал с ними, но, если они первыми завязывали знакомство, отвечал холодноватым дружелюбием, как равному, и сразу бывал ими принят. У него не было большого опыта общения с детьми, но воображение помогало ему перенять детский взгляд на мир. Будучи втянут в детскую игру, он вел себя, само собой, с юмором и озорством, но часто и с большой серьезностью, как будто игра для него была так же важна, как для ребенка. Однажды мы вошли в набитое людьми купе лондонского поезда, где усталая мать безнадежно пыталась успокоить усталого и капризничающего ребенка. Мне досталось место рядом с женщиной, а Виктору – напротив. Мы зарылись в книги. Ребенок непрерывно ныл, мешая мне сосредоточиться, но Виктор сразу с головой ушел в свою «Историю социализма». Ребенок ерзал, скулил и орал. И вдруг замолчал, уставившись на Виктора. Я сидел рядом, но меня он не замечал. Он потянулся с коленей матери и стукнул Виктора по колену. Тот поднял глаза, улыбнулся и продолжал читать. Ребенок ухватил страницу – Виктор мягко отцепил его пальчики. Мать выбранила ребенка, но тот по-прежнему интересовался сидящим напротив и таинственно притягательным молодым человеком. Не найдя другого средства, малыш взял у матери шоколадку и протянул ее Виктору.
Соседи засмеялись, но Виктор вежливо ответил:
– Ты ужасно добр, но, пожалуйста, съешь сам.
В то же время он отложил книгу и, порывшись в кармане, выудил (подумать только!) цепочку от лошадиной упряжи. Этим сокровищем он несколько дней назад разжился у деревенского шорника. Мы тогда проходили по деревне, и его привлекло окно, завешенное упряжью, скребками и попонами. В поисках новых сокровищ он затащил меня в лавку и наткнулся там на эту цепочку. Как видно, она с тех пор и пролежала у него в кармане.
Теперь он разложил на колене шесть дюймов блестящего металла и заметил:
– Красиво, а?
Потом свернул цепочку в тугую спираль, снова распустил во всю длину и отдал ребенку, который, взяв, стал ее вдумчиво разглядывать. Виктор вернулся к своей книге, но тут ребенок, не выпуская из пальцев цепочку, обеими руками потянулся к нему и, насмешив всех, выговорил: «Папапа!» Со вздохом закрыв книгу, Виктор взял его на руки. Полчаса он забавлял нового друга содержимым своих карманов, рассказывал простенькие истории о каждом предмете и явно наслаждался сам.
Я описываю этим маленькие происшествия потому, что они освещают характер Виктора в молодости. Однако подобные случаи происходили с пробудившимся Виктором на протяжении всей его жизни. Даже на шестом десятке лет к его исключительно зрелой натуре примешивалось немало ребяческих или положительно детских черт. Он по-прежнему любил игрушки. Собаки и даже лошади все так же увязывались за ним. И сколько я его знал, он, ничуть не стыдясь, жертвовал относительно серьезными предприятиями ради непосредственной радости чувств. Однажды он сказал: «Человек, несомненно, одержал победу, научившись думать о завтрашнем дне, и обязан думать даже об очень далеком будущем, на тысячи лет вперед; но иногда для будущего важнее всего требования настоящего. Тот, кто никогда не жил в настоящем, не впитывал его всеми порами, тот вовсе не жил».
4. Делец и солдат. С 1912 по 1919
Я описал начало дружбы с Виктором таким, как оно виделось мне. В день свадьбы, на прогулке он прошелся по этим, далеким уже событиям, с точки зрения своих переживаний. Тогда все это приобрело для меня новый смысл. В новом свете предстали периоды охлаждения дружбы и окончательное, полное отчуждение, казавшееся в те времена неоправданным капризом, разрушившим ценные отношения. Виктор не предавал дружбы – его просто не стало. Виктора, которого я знал, изгнали, и винить его было так же несправедливо, как упавшего в обморок человека.
Открытие, что Виктор не был тогда собой и не предавал нашей дружбы, оказало на меня удивительно глубокое действие. Я, видимо, не сознавал прежде, как много значила для меня наша дружба и насколько ее крушение пошатнуло фундамент моей души. Теперь, когда все объяснилось, я пришел в непомерный восторг, скрыть который было непросто. Весь мир обернулся другой стороной. Бывает, что друг умирает или бессилен перед физиологическими изменениями, но на дружбу в конечном счете все же можно положиться.
После Оксфорда я несколько лет не виделся с Виктором, но тот иногда писал мне – в периоды (как я теперь понял), когда вперед выступала более светлая его личность. Он поступил в судостроительную компанию, находившуюся под влиянием его отца. У меня таких связей не было, и я стал преподавать английский язык в средней школе. Итак, следующую стадию его жизни я пересказываю единственно по его отчету, данному мне в день свадьбы.
В первый год деловой карьеры ничего особенного не происходило. Виктору, как многим выпускникам университета, выброшенным в конторскую жизнь, рутина была неимоверна скучна, и все его интересы сосредоточились в досуге, а не в работе. Он стал типичным молодым провинциалом, вступающим в свет – одним из самых праздных и утонченных. Он бы принят в один из самых влиятельных клубов. Он танцевал. Его окончательно избаловали дочери дельцов, соблазненные его привлекательной внешностью и надменным равнодушием к их чарам. Виктор катал их на спортивных автомобилях и всегда благополучно возвращал домой поздней ночью. Он много играл в теннис и попал в первую десятку игроков в лучшем местном клубе регби.
Несколько раз он, вероятно, оказывался на грани возвращения истинного «я» – его мучило беспокойство, и тогда крупная компания судовладельцев представлялась ему цельным и увлекательным явлением. В такие времена он допоздна задерживался в конторе, читал старую переписку, изучал проекты судов, ломал голову над проблемами конструкций, проверял бухгалтерские книги и отчеты по отдельным рейсам, особенно тем, что оказались убыточными и писались драматическими красными чернилами. Но больше всего в такие периоды полупросветления его волновали условия, в каких приходилось работать командам, докерам и другим наемным рабочим. Он не упускал случая присутствовать при беседе каждого из директоров с капитанами – до или после плавания. Однажды он добился, чтобы его послали наблюдать за погрузкой стоявшего в гавани судна, и через десять дней, когда настрой изменился, проклял себя за дурость, потому что, остыв к деловой практике, тотчас заскучал вдали от привычных развлечений.
Различие между светлыми периодами и обычной его апатией было настолько заметным, что привлекало внимание начальства, и здесь нужно вспомнить об одном случае. Работая в проектном отделе, Виктор изобрел новую конструкцию руля. Специалисты поначалу отмахивались, полагая это причудой светского юноши, но вопреки себе присмотрелись к его идее и наконец, подсчитав и проверив на чертежах, ввели предложенное усовершенствование на всех судах фирмы. Сам же изобретатель к тому времени давно соскользнул в обычное сонливое прозябание. На предварительных стадиях обсуждения он был внимателен и щедро сыпал идеями, а потом словно утратил вдруг и интерес, и способности. Он не мог предложить ничего полезного и с трудом скрывал тот факт, что толком не понимает собственной блестящей идеи. Разница между прежним блеском и сменившей ее тупостью так бросалась в глаза, что люди, не видавшие его в творческий период, склонны были заподозрить молодого Кадоган-Смита в краже чужой идеи. Однако те, кто работал с ним и запомнил прорывы его воображения, такие подозрения отметали. Сам же Виктор забыл о своем изобретении, видя в нем разве что средство приобрести больший вес в глазах начальства.
«Полупробудившийся» Виктор был не только умнее и увлеченнее обычного: он был внимательнее к человеческой личности. Отсюда его интерес к условиям, в каких жили рабочие. Он дошел до того, что сдержанно агитировал за усовершенствование матросских кубриков на кораблях компании. Предложил он и совсем фантастичное по тем временам нововведение, а именно – отдельную каюту для каждого матроса. Критика существующих условий раздражала директоров, гордившихся своей заботой о людях и считавших, что требовать дополнительного повышения комфорта – «чистый идеализм».
– Милый мальчик, – сказал Виктору глава фирмы, – возьмись мы исполнять твои планы, скоро не сможем выплачивать дивиденды. Компания, знаешь ли, не благотворительное учреждение. К тому же ты сам понимаешь, что люди того сорта, что ходят в море палубными матросами или кочегарами, просто не нуждаются в том, чего ты для них добиваешься. Они не сумеют воспользоваться такими удобствами и скоро все перепортят и переломают.
Виктор, увидев, что филантропия подрывает его репутацию в глазах начальства, отказался от нее. Причиной отступления стал не только цинизм. Директора сумели убедить его, что такие замыслы – утопия и пора ему их перерасти.
За первый период карьеры Виктор всего один раз вырвался из полусна к полному пробуждению. Он должен был отслужить некоторое время в каждом отделе большой компании и в том числе был назначен секретарем одного из директоров. Этот пост дал ему представление об общей политике фирмы, в правление которой, если бы все пошло как следует, Виктор должен был со временем войти на правах младшего члена.
Однажды при нем обсуждалась проблема мелкого воровства в доках. Фирма наняла сыщиков для поиска воров, но ничего не добилась. Виктор как раз был в одном из «полупробужденных» периодов. Он, видимо, выказал в беседе признаки интеллекта и добился того, что розыск поручили ему.
Постараюсь передать этот случай как можно ближе к рассказу Виктора, услышанному на обратном пути с прогулки в день свадьбы.
– В полупробужденном состоянии, – говорил он, – я был много восприимчивее обычного к чужим мыслям. Эти способности я так или иначе использовал в пользу фирмы. Не думаю, что в этом была замешана телепатия. Я просто был чувствительнее к реакциям людей. Как будто читал их чувства в лицах, жестах и интонациях.
Еще мне в том приключении помог оксфордский опыт дружбы с фабричными ребятами. Имей в виду, я о нем не помнил, ведь он относился к фазе полного пробуждения, но автоматически находил правильные способы наладить контакт с рабочими. Я интуитивно выбирал подходящую маску. Мне удалось представиться докерам парнем, который знавал лучшие дни, а теперь опустился и вынужден зарабатывать работой грузчика. Я играл беспомощного, но симпатичного новичка, которого всему приходилось учить, и понемногу был принят как «свой».
Меня сочли вполне надежным, а я, конечно, старался всячески показать, что я на стороне рабочих против хозяев. При этом я держался строгой морали, что только укрепило мою репутацию. Вскоре я узнал, что существует система воровства и продажи краденого в пользу обнищавших семей. Шайка соблюдала собственный строгий моральный кодекс, настоящий «воровской кодекс чести». Если кто-то из них попадался на воровстве в свою пользу, не сдавал добычу в общий котел, ему сильно доставалось. Один человек, которого сочли шпионом, подосланным сыщиками, попал в искусно подстроенную аварию. Свалился в оставленный открытым трюмовый люк – якобы по собственной неосторожности. Этот случай меня несколько встревожил, ведь я мог разделить его судьбу. Поэтому я решился на следующий день вернуться в свой мир. Но мои планы были нарушены – я проснулся. Я как раз работал с погрузочным краном (помнится, собирался подцепить штабель досок на крюк), когда вдруг увидел все это злосчастное дело как оно есть. Увидел, что сам я поддерживаю экономический гнет, шпионя за людьми, которые, при всех их недостатках, ничем не обязаны хозяевам и к тому же крадут с весьма похвальными намерениями, чтобы поддержать отчаявшихся. Я увидел, что если в справедливом обществе такому воровству не было бы оправдания, то в нашем, несправедливом, приходится, как бы то ни было, одобрить их великодушную отвагу, солидарность и самоотверженность. Убийства, конечно, одобрить было нельзя, но и судить его слишком строго не приходилось. И вот я столкнулся с весьма неприятной проблемой. У меня были сведения, которые позволяли обвинить шайку не только в мелких хищениях, но и в убийстве. Я должен был утаить эти сведения от властей. И, пока я бодрствовал, тревожиться было не о чем. Но ведь я в любую минуту мог впасть в сон и тогда бы наверняка проболтался.
Я продолжал работать в трюме с напарником, тоже состоявшим в шайке. Это был душевный парень, добродушный шутник и сквернослов. Его отличала ангельская улыбка и руки, поросшие рыжим волосом. Глядя на него, я ясно понимал, что должен любой ценой сохранить верность ему и его товарищам. Но как спасти положение? Я ломал голову. Написать в контору записку, сообщив, что схожу с ума и мне мерещатся версии, не имеющие ничего общего с действительностью? Хлипкое оправдание. Сдаться членам шайки и позволить им от меня избавиться? Нечестно было бы толкать их на новое преступление. Да и не нужно, потому что меня уже осенило: единственный способ спасти шайку – это самому от себя избавиться. Сперва это представилось нелепым донкихотством. Но чем больше я, потея над тюками, размышлял об этом, тем важнее мне казалось спасти шайку и менее важно – сохранить собственную жизнь, такую бессмысленную и никому не нужную.
На этом месте я прервал Виктора словами, что мысль о самоубийстве представляется мне совершенной фантастикой. Он помолчал немного и признался:
– У меня были и другие мотивы – смутное чувство, что, пожертвовав собой, я совершу символическое действо – принесу одного из эксплуататоров (себя) в жертву благу народа.
Я фыркнул, насмехаясь над такой сентиментальностью, но Виктор только и сказал:
– Ну, так мне это тогда виделось. – Потом он продолжил рассказ: – Я помню, как работал в трюме, наслаждаясь силой и точностью своих мышц, и понемногу проникался мыслью, что должен покончить с собой!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Речь идет об одном из клубов, организованных для детей бедняков с целью предоставить им возможности обучения и полезного досуга. – Здесь и далее примеч. переводчика.
2
Имеется в виду студенческий клуб парламентских дебатов «Оксфорд Юнион».
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: