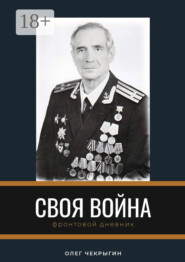По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Современный шестоднев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да быть того не может, да неужто? Ну что ж, вот и покрестим заодно. А там, глядишь, поправится – бывает. Крещение нередко исцеляет недуги неисцельные подчас. Однако, мы с тобой заговорились. Я денег жду за золото не меньше, чем в прошлом месяце. И ты – поторопись. Упустишь время – это те же деньги. С тебя взыскать придется за потери. Ведь делу – время, а потехе – час. Еще хочу я просмотреть отчеты за год. Ведь доверяя – нужно проверять. Пора, однако, нам к гостям вернуться. Уж скоро полночь, праздновать пора.
– Алло, я слушаю, да-да. Скажите – к бане. Пусть подъезжают, мы идем встречать. Идемте, батюшка, звонили от ворот. Сам прибыл губернатор к нам с супругой. А с ним в машине – пожаловать изволили Владыко с келейницею-матушкой своей.
На двор и вывалили всей толпой веселой, почитай, в чем мать их родила: кто простыню успев накинуть, а кто и наголо. Все обниматься лезут, гогот, шум. Владыка с губернатором из джипа едва сумели выбраться, настолько они уж тоже были оба хороши.
– Петр Петрович, где ж так набрались вы, – пьяная его ничуть не меньше из женщин кто-то лезла целоваться. Ей вторила другая, – И Владыку – вы посмотрите – напоил отменно. Владыка, душка, как мы любим вас. А вы, Владыка, нас благословите, – и навалясь грудями на него, не сбила с ног едва она обоих. Вот было смеху. Между тем мужчины полны вниманья были к новым дамам: губернаторшу под руки с двух сторон, а матушку поднявши на руках над головами, вперед ногами, несмотря на крики, повлекли их, минуя раздевалку, прямо в баню. И так и затащили их в одежде в парную, прямо к голым мужикам. Смеяться уж устали наши дамы, и отбрыкавшись от пьянчуг веселых, разделись, не стесняясь, прямо там.
Полипий наш, меж тем, к Владыке сбоку пробрался под шумок, и тихо, степенно так сказал: «Святый Владыко! Благослови, и Богу помолись», – и руки лодочкой сложил, как полагалось.
– Дурак ты, Липка, с церемоньем этим, – святитель ласково сказал, его благословляя рукою, снятой с женских тел, которых всех Владыко, скопом, достав, сколь мог, до кучи, обнимал, – пойдем-ка, лучше выпьем, да в парную. Ты веничком попотчуешь меня? Чего ты в рясе? Ты б крест еще надел с епитрахилью, и службу щас затянем тут вдвоем. Ты, братец, скушен мне, а ну-ка – веселись! Хватайте, бабы, скучного попа за все что есть мужского у мужчины.
– Помилуй Бог, Владыка, весел я изрядно. А что до рясы – это же халат, надетый наголо – смотри, Владыка. Отстаньте бабы, руки прочь от нас. С Владыкой мы скорей идем в парную. А вы, бесстыжие, отстаньте от меня. Марш одеваться! Скоро Новый Год. Пора за стол садиться будет скоро, – и по задам пришлепнул их маленько. Завизжав, они удрали, задами голыми сверкая вполутьмах.
Меж тем в парной была у них беседа. Владыка спрос надумал учинить. Полипий отвечал без подготовки: «Машины вышли. На границе будут к вечеру в четверг. Две фуры под завяз забиты спиртом, а в документах значится – военный груз. С таможней Аристарх договорился – пойдут через таможню без проверки. А завтра выезжает на границу патруль ГАИ из двух машин сопровожденья, а также отделение солдат в машине с командиром – и приказ им оружие, если надо, применять. Потом, на месте здесь уже заменим бумаги – на „гумпо“ на нужды церкви. Спирт – на завод, где будет без учета разлит на водку. Марки – есть, наклеют. И – на продажу, деньги – на „помойку“. Милиции, военным и таможне, а также налоговикам – по десять тысяч. За водку четверть – директору завода. Мне, вам и губернатору – по сотке, плюс десятина Вам на нужды церкви, еще банкиру за отмывку пять процентов». – «Ты что, с ума сошел? Трех для него довольно. Да и Колька пусть нас не грабит. Четверть ему! А может, сразу половину, или все? Ты вот что – завтра утром собери в епархии их всех на совещанье. А щас – покличь Петра», – «Я мигом. Петр Петрович! Пожалуйте в парилку, вас Владыка желает видеть и зовет сердечно». – «Да жарко там. Я лучше тут, при бабах. Идите лучше к нам сюда, в бассейн». – «Петр Петрович, на минуту. Владыке нужно кое-что спросить». – «Иду. Ну что?» – «Закрой-ка, Липка, дверь. Ты вот что, Петь, скажи, когда подпишешь лицензию ты нам на казино?» – «Да подписал уже, она в работе. Управделами выпустит на днях. Так что гоните бабки». – «Ты в деньгах не зарывайся, все получишь, и долю, но – с дохода только». «Какой Владыко жадный». – «Не жадный я, а просто экономный, ведь денежки, известно, любят счет». – «Пошел я, жарко тут у вас – как в бане». Петрович вышел. За ним Полипий было, но Владыка его остановил: «Послушай, Липка. Что же делать с ним – с „писателем“, имею я в виду? Я покажу тебе последний пасквиль. Его мне переслали из газеты. Название, гад, придумал: „Джип небесный“. Я как-то говорил в кругу поповском, что новый „Лексус“ епархии подарен от „Газпрома“, за освященье храма, построенного ими для себя. И вишь ты, он там нравы критикует: живем мы, мол, в отрыве от народа, и к власти льнем, а деньги у богатых берем бандитским нажиты путем. Что скажешь?» – «Ничего теперь, Владыко. В руках у нас он. Смерть дочери его, хотя, случайна, но не было б ее – придумать нужно такое вот, и – Господи, прости! По правилам церковным должен он извергнут быть из сана, как убийца. И суд церковный пусть решает это, а Патриарх решенье утвердит». – «Но не усмотрится ли в этом месть, расправа? Формальный повод есть, но впрямь тут горе… Не знаю, право, как теперь и быть». – «Враг церкви он, и подлый соблазнитель. Бог наказал его за то, что стада нашего он вредный расхититель. Ему сочувствовать мы можем, но должны пресечь соблазн. Пускай один погибнет спасенья ради остальных – в том долг Первосвященника, Владыко, который за народ в ответе перед Богом». – «Быть посему. Ну что ж, пора за стол».
За стол садилися, в чем были – в простынях. Веселья гомон, стук ножей и звон посуды. Вот пробка хлопнула, другая – ударила шампанским в потолок. Веселье пьяное, на красных лицах, распаренных телах – пот бисером, а то ручьями. Жарко. И пить так хочется шампанское со льда.
– Минуточку внимания! Владыко! Прочти молитву нам, и стол благослови!
– Здорово, други и другини, всем вам. За стол садясь, молитву сотворим. Однако, нет доходчивей до Бога молитвы, сотворенной на грудях. Ведь женской грудью той не то, что люди – Сам Бог не брезговал, известно, грудью Девы. Женщины – ко мне! В ряд места займите. Откройте грудь, молиться будем вместе. Мужчины – лоб крестите на икону, а не на женщин пяльтесь, срамники. Итак, благослови нас, Отче наш.
За стол садились, стульями гремя, спешили наливать себе, соседкам, которые присели без разбора – к своим или чужим мужьям, кто как попали. Ухаживать за дамами сердечно всяк рад был, и обнять их, и погладить. Никто из жен, мужей, забаву эту, невинную, заметив, не сердился, но забавлялись тем же с тем, кто рядом. Однако, здесь измен не одобряли, распутство было не в чести, и каждый, если изменял (иль изменяла) – то только на сторону, но не в кругу привычном.
– Налили всем? Куранты бьют на Спасской. Всех с Новым Годом, выпьем же за счастье, что есть у нас – и нового не надо, – так губернатор поздравлял собранье, с монашкой обнявшись вполне по-братски, в то время как Владыка рядом с ними рукой свободной обнял плечи «леди».
Полипий встал.
– Внимание, господа. Налейте дамам. Тост второй поднимем вслед за первым так, чтоб пуля не успела пролететь меж ними – наш таков обычай. Итак. Прошу взглянуть на герб российский, который украшает стену ту, что во главе стола, и под которым видим двух мужей достойных в окружении не менее достойных милых их подруг. Я в виду имею тех из нас, кто титул превосходный носит: Вас, Преосвященство, а также – Само Превосходительство. Две главы герба – двуединство власти, духовной и мирской – зрим пред собою за столом сегодня. Их любовь взаимная связует, а преданность обоим этих женщин воистину скрепляет власть в едину плоть, которой на гербе мы видим символ. Так выпьем за Россию, все которой мы часть такая же, как плоть от плоти – дети. Спаси вас, Боже, божьи детки все вы.
– Алаверды позвольте мне, отец, – монашка поднялась ему навстречу, идущему, чтоб лобызаться с ними, – тост третий за родителей положен. Заметить я должна, что наш Святитель – монах, как быть должно согласно чину. Он Богу в жертву себя принес, и обещал не заводиться семьей с ее утехой чадородства. Он истый наш отец, а все мы – дети. Служить должны отцу мы все с почтеньем, всяк отдавая лучшее ему – до жизни, как свою он предал Богу. И для меня, монахини, нет лучше, почетней и важней ему, как Богу, служить собою всей. И всей собою ему принадлежать, душой и телом. И то же быть должно мечтой всех женщин. Ты, милая подруга – обратилась к «первой леди» сидевшей на коленях у Владыки, – со мною разделяешь этот крест. Я ж, утешая мужа твоего, служу Владыке, как Богу, послушаясь по обету во всем, что он прикажет, как собака. И не стыжусь того, и не ревную, как женщины другие, что считают своею личной собственностью мужа. И в этом – сила власти, во едину плоть слившая всех нас – ей служим все мы. Ведь наша власть – от Бога, прав Апостол. Я батюшку благодарю за тост – и, право, его я поцелую, как в Писании – лобзанием духовным и невинным. Ты, Сонька, не ревнуй, – и пала Алипию на грудь, чтоб целоваться. Тут все друг с другом стали лобызаться, и пить тот тост, и здравицы кричать не в очередь, без всякого порядка.
– Гасите свет. Пускай зажжется елка, – и елочка зажглась, а также свечи, при которых в неверном теплом и дрожащем свете продолжился веселый шумный ужин.
За шумом не заметили, как двери тихонько открываются из залы, которая на улицу выходит. Полипий в это время, случайно оглянувшись, обомлел: от двери шла фигура, будто призрак – в островерхом, белом, как саван, балахоне, лицо скрывавшем, и на плече с косою, блеснувшей мрачным красноватым светом. Невольно он перекрестился, вспомнив сон. Спросил, наверно, через сотню лет, не меньше, и с голосом не справившись, хрипато: «Кто это?», – у своей соседки Тони, лёниной жены, сидевшей между ним и генералом, все норовившим пальцами забраться куда не нужно ей, и в этом смысле козой, состроенной из пальцев, ей грозившим. Все застыли, молчанье вдруг повисло над столом. В тишине фигура бесшумно подплывала ко столу, а Тоня, вставши вдруг, пошла навстречу. И – обняла бесстрашно балахон.
В это время, испуганный явленьем, вспыхнул свет. При свете все нестрашно стало сразу. Балахон халатом оказался не по росту. А коса вид приняла естественный той палки, на которой прибита стрелка жестяная с надписью «гараж» (в снег воткнута слугой была у въезда для шоферов – на случай, если кто сюда впервые привозил хозяев). За руку, небольшую, в не по росту халате, фигурку Тоня, подтащив к столу буквально, сказала всем:
– Знакомьтесь, господа. Племянница родная, из Ростова, дочь лёниной страдалицы- сестры. Еще подросток, но уже девица. Соскучилась одна, и вот – пришла.
– Мне было страшно, тетя.
– А откуда эта палка?
– Из снега дернула, отбиться от собак. Я испугалась, – и лицо открыла, отбросив на спину вначале капюшон, а вслед за ним – мешающие волосы с лица, движеньем женским, грациозным и привычным, которые, взметнувшись цветом меди, на плечи пали огненной струей, лицо открывши, все в веснушках нежных. И Полипий оторопел вторично – как будто перед ним явилось воскресение из мертвых. То нежное лицо являло лик столь дорогой, желанный – и точной копией того лица являлось. Лишь волос огненный являл собой отличье, да веснушек россыпь, а также и глаза – у этой были зелены, как море – у ведьмы, воплотившейся из сна. И снова страх волною окатил, в которой были вместе лед и пламень. «Погибель, вот она – ведь это смерть с косой, знаменье Божье, Господи, помилуй!». А гости, зачарованы красою девицы юной, как один молчали. Наконец, тишину нарушил, поднявшись с места, Господа Святитель. «Девица, подойди», – промолвил он, и неревнивая монахиня взглянула на него всем женщинам понятным молниеносным взглядом, а затем, в упор – на то дитя, как будто бы не взор, а в грудь метнувши ей булат смертельный.
Куда девался страх – свободно шла, и улыбалась всем гостям приветно: «У вас так весело, а мне одной так грустно…».
– Откуда ты, прекрасное дитя? – Я с мамою жила, теперь – у дяди. Лет мне шестнадцать, я в десятом классе училась в школе.
– Вдалеке живем от школы, Владыко, мы теперь в своей деревне. И потому просила я подругу принять ее до лета у себя, где школа рядом с домом, и отменный притом лицей для избранных детей. Согласен муж ее – отец Полипий – по доброте своей он нам не отказал. Еще не говорил с ней, но крестить собрался ее он.
– Владыко, я ведь…
– Погоди, отец. Девица, ты желаешь, крестившись, и веру православную приняв, стать дочерью названой в том семействе, где будут рады полюбить тебя, как дочь? У батюшки и матушки есть сын, который, семинарию закончив, жениться должен для принятья сана – и Бог жену ему послал сегодня, красавицу отменную притом. Согласны все?
– Владыко, я согласна, – лобзала на коленях Сонька руку, когда родные, видно, сомневались («ведь молода еще, шестнадцать только»)
– А ты, девица?
– Я ж его не знаю, не видела пока – и сразу замуж?
– С Святителем не смей так говорить. Иди под благословенье, дура, упустишь счастье – после не вернешь, – шипела в ухо ей монашка, и покорно сложив ладошки нежные крест-накрест, она склонилась, крест принять согласна, и он, ее крестя, не удержался как бы нечаянно грудей ее коснуться, и в пазуху поглубже заглянуть, когда она к нему главой склонялась.
– Ты что, отец, сказать все порывался? Иль, может, нехорош тебе мой выбор для сына твоего, для Александра? Иль недоволен, чай?
– Премного благодарен я, Владыко, такую милость получив нежданно. Пророчество святительское свято. Но я, – хотел сказать он «откажусь», да губы будто одеревенели, и только смог произнести «согласен», хотев бежать, куда глаза глядят.
И был вечер, и было утро – день второй
Беда
Если бы лет десять назад Сергею Ставродьеву сказали, что он будет когда-нибудь священником – да что священником! – хотя бы просто в Бога уверует и в церковь станет ходить молиться – он бы просто в ответ, конечно, рассмеялся. Однако, сегодня это уже не только не казалось ему смешным – ему вовсе было не до смеха.
С машенькиных похорон прошел, наверное, месяц, и все это время отец Сергий – так называли его все, кроме жены, так и не смирившейся с его церковной жизнью – провел почти что в забытьи. А впрочем, жена ушла на следующий после похорон день, сказав лишь на прощание: «Будь ты навеки проклят» – и не пытался он удержать ее. Что ж, «жизнь кончилась, осталось житие» – сказанное когда-то великим бытописателем Ставродьев полностью отнес теперь к себе. Подумать страшно, но день за днем, все чаще, на него наваливалось, накатывая удушливой волной, желание с собой покончить. Бессонными ночами, лежа в полутьме, или мотаясь по бескрайней, как пустыня, квартире, в мутной полудреме он вдруг представлял себе самоубийственный исход как наслаждение от утоления жажды, как живительный глоток, вслед за которым наконец-то, столь желанное, придет забвение сна в тени, где тихо веет прохладный ветерок, несущий влагу с моря за холмами. Бывало, что очнувшись вдруг среди этих странных бредней, он обнаруживал, что ищет бритву, или стоит на стуле под люстрой, пытаясь привязать к ней пояс от халата. Тогда, объятый ужасом, кидался он молиться, простираясь ниц под иконы, но молиться не мог. Малюсенький злой человечек в нем, воздевши руки к крошечному небу, тоненько и монотонно визжал: «За что? Зачем? Ты кто?» – бесконечным повтором вариаций бессмысленного вопроса сбивая его, не давая, встав пред Богом, привычно ощутить себя в Его Присутствии.
За прошедший месяц он опустился. Из дому не выходил, не отвечал на телефонные звонки. Жрал одну картошку, иногда в немытой кастрюле, которых вместе с грязными тарелками скопились на кухне горы, варил крупу, и запивал ее водой горячей из-под крана (чай кончился давно). Не мылся, даже не утруждался умываться – так, иной раз походя плеснет горсть воды на воспаленное лицо, да оботрет попавшей в руку тряпкой. Одежду не снимал он, и она уже вполне отчетливо воняла – в общем, ужас.
Отчасти его спасала книга, в которую ныряя с головой, как в омут, он забывал все, даже смерть. Много лет писал ее он, вначале в виде разрозненных заметок, дневников, записок на клочках бумаги, на случайных обрывках из растрепанных блокнотов. Выписки из книг – порою на салфетках, на обертках. А то и выдранные из самих книг страницы. Ссылки, карточки – и стопы картонных перфокарт, на которых удобно размещалась картотека. Затем пошли статьи: черновики, наброски, варианты – и, наконец, газетные страницы. Постепенно собрался архив, заняв бумагой папок целый шкаф. Так оформлялся замысел в мученьях: планы, перемены… Разрозненные рукописи части хранили папки в своих картонных недрах – всю его жизнь за последних десять лет. Пыль время собрало на них годами. Пыль времени, пав на слова, засыпав мысли строк, впитала воду жизни, от которой, омытая, вдруг оживала память. В эту книгу, год за годом, собрал он свою жизнь в церкви, весь свой духовный и священнический опыт, и на каждое слово память отзывалась, оживая с ним связанным воспоминанием. Тогда он грезил наяву. Тогда ему казалось, что за его спиной, за кругом света настольной лампы течет по прежнему привычная жизнь его семьи: шурша за стенкой чем-то, возится на кухне, или готовится к врачебной смене, пролистывая «истории болезней» жена, а дочка вот-вот прибежит в одной ночной рубашке забраться на колени и целоваться без конца, прощаясь на ночь. В ее раннем детстве, бывало, уезжая далёко на приход, он оставлял одних их порой недели на две. Она тайком, скучая по нему, в постель с собой тащила его тапки, с которыми спала потом в обнимку – а днем их нянчила, и на руках качала. Когда ее, бывало, спросят: «Кто твой папа?», – она, трехлетняя, всем отвечала: «Дякон», – «А что он делает?», – «Он всех целует», – в виду имея их поцелуи с папой на прощание.
Он дьяконом был на приход назначен зимой, в начале декабря. Заштатный крохотный провинциальный городок, в снегу по крыши, в который вела всего одна дорога – от шоссе пятнадцать километров – и в нем кончалась у городского парка с мелким прудом. Храм был зданием, похожим на барак. Отдельно от него, через проулок, стояла мощно приземистая колокольня. В ней схоронились за двухметровой толщины стенами службы: склад, полный рухляди, копившейся веками, от постоянной сырости раскисшей; останков осыпавшихся икон; да гнилых мешков в прорехах, наполненных огарками свечными; вонючка-кухонька; а в бельэтаже – священника квартира, на которой жил батюшка-сутяга, навыкнувший судиться со всей округой. Напролет ночами он на машинке пишущей калечной стучал и стряпал жалобы в суды, прокуратуру, а то – в райком. Судился с подлецами-соседями за клочок земли в квадратный метр. Жаловался на притеснения со стороны других соседей, по участку на кладбище, что кидали на его участок мусор. Заявление настрочил в милицию он на подростка, дразнившего его «попом», а также за «угрозы» его отца, когда он «надрал, поймавши, негодяю уши».
Собрата-сослужителя он встретил неласково, и место отвел ему в заброшенной просфорне, в которой все пространство занимала нетопленная лет, наверно, сорок, с войны, печь русская огромная, в которой пекли, бывало, во времена былые не только просфоры, потребные для службы, но также черный хлеб на всю округу ближайших бедных улиц, и доход имели тем самым дополнительный для церкви. После первых служб узналось, что на бутылке батя ставил метки, и ревностно следил, чтоб новый дьякон не потреблял церковного вина излишне. На третий день явился он в просфорню, чтоб навестить на месте жительства собрата. Принес с собой ему бутылку пива. Радушно угощал его, однако, сам пить не стал. Сергия внимая рассуждениям про христианский подвиг и молитву, чего-то ждал, но сам молчал, и видно, что мало понимал в неинтересной ему нисколько теме горестных раздумий, которыми хотел с ним поделиться собрат-христианин. Затем встал с места, и вышел так же молча, не прощаясь. А через неделю Сергия к себе владыка вызвал. Показал настуканную кляузу, в которой среди прочего писалось, что новый дьякон – пьяница. На службе, мол, так и норовит тайком напиться церковного кагору, за который приходится платить попу немало из своего кармана, между прочим.
Прочтя донос, епископу сказал он: «Видать, и вправду то угодно Богу, чтоб я Ему служил – вишь, полилась, однако, как клевета-то – прямо из ушата». Владыка-старичок, видавший виды, и лагерей хвативший в свое время, его ободрил, ласково похлопав сухою ручкой по плечу: терпи, мол – атаманом все равно, казак, не будешь – да и рассмеялся этак рассыпчато, по-стариковски дробно. И вскоре, по окончании Великого Поста, владыка отозвал его с прихода, в священники поставил, и направил в деревню настоятелем для храма, где до него служил несчастный, с круга спившийся, и, в конце концов, сбежавший от позора поп-расстрига.
Машинально перекинув привычные листы зачитанной, правками испещренной рукописи, он углубился в чтение страниц, что содержали историю его на том приходе.
Из книги Сергея Ставродьева:
«Та злая, та святая…»
Много лет я удивлялся, да и до сих пор не перестаю удивляться тому, что придя в церковь вполне искренно по вере, люди с годами во-первых, разочаровываются, а во-вторых – становятся хуже, что ли?… Часто от случайно зашедших в церковь можно слышать: «Почему у вас в церкви люди такие злые?». И вправду, почему?
Когда я был маленьким, мать мне рассказывала из Библии. Помню один разговор, про Содом и Гоммору, который затем, как это бывает, перешел на вычитанные мною в книжках инквизицию и крестовые походы, и закончился фразой, непонятой, но запавшей в память на долгие годы, до востребования. Сказано было примерно так: «Как могло случиться, что учение Христа, исполненное любви и доброты, породило такое количество зла и ненависти?». Кто виноват в этом, уж не Христос ли?
Среди православной молодежи в церковной общине, где я нашел в свое время пристанище, со смехом обсуждался случай, происшедший на приходе неподалеку с новоиспеченным священником. Молодой батюшка, послужив с месяц, исчез, оставив записку примечательного содержания. Буквально, он написал следующее: «Ухожу навсегда, потому что меня здесь никто не любит». Наши молодые теоретики от христианства юморно корили его (за глаза, конечно) за его столь неуместное желание «любить и быть любимым»: «Тоже, выдумал – любить его должны. Терпеть надо, как учит Церковь, и велят святые отцы». Внимая слаженному хору «премудрых и разумных», я тогда думал, что мне ясна неправота этого незрелого человека. Почему-то с годами моей уверенности на сей счет поубавилось. Пробыв с десяток лет в его шкуре, теперь я думаю: неужели для христианина необходимо провести всю жизнь среди неприязненно настроенных людей, в атмосфере постоянной травли со стороны тех, кого по должности ты обязан считать своими «братьями во Христе»? И бесконечно сносить, терпеть молча их безнаказанные подлые выходки в адрес всех вокруг. Которые они предпринимают зачастую просто со скуки, чтобы развлечься на счет «придурка», каким они считают тебя, как и всякого пришлого. Не ими выбранного, но нанятого и назначенного к ним попа, о котором так и говорят: «а нам что ни поп, то батька». Не уверен. И, главное, подобная «норма» церковных отношений породилась еще при жизни ап. Павла, главного устроителя Церкви и Ее порядков, который именно на страницах Священного Писания сам же не преминул посетовать, что «много пострадал от лжебратии».
Так случилось со мной, что придя в церковь по вере «с улицы», из мира, без какой бы то ни было хотя бы мало-мальской предварительной подготовки, я совершенно не имел церковного опыта: каких-то сведений, почерпнутых из книг, или впитанных с детства вместе с «атмосферой» храма, которая воспринимается детским впечатлением непосредственно, или, наконец, порядков и обычаев, усвоенных через общение с церковными людьми – ничего этого не было у меня. Я начал осваивать весь начальный опыт « в лоб», с церковного порога: