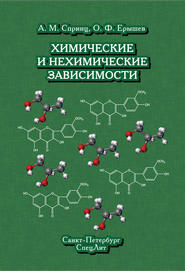По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Личность и болезнь в творчестве гениев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почему же, несмотря на глубоко зашедшую душевную болезнь, книги мыслителя приобретают огромную популярность? Стоит обратить внимание на два момента: предреволюционное время, когда творил Руссо, и его огромный писательский и публицистический талант. Как и большинство описываемых нами гениальных творцов, перо он не оставлял до самого смертного часа. Болезненные идеи чередовались у него с дальновидными предсказаниями о торжестве материалистической философии и о возникновении деспотических государств, основанных на лжи, принуждении и тотальной слежке.
День и час желаемой им смерти Руссо тоже предсказал.
Таким образом, болезненный процесс (шизофренический) может оборвать творчество (К. Батюшков); привести к его оскудению (Н. Гоголь); «сосуществовать» с творчеством (Тассо, Руссо) – причем из них двоих только у Руссо болезненные идеи проникают в творчество.
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ
Никому не пожелаю пройти через такие испытания
Дагерротип
Имя французского писателя и поэта-романтика Жерара де Нерваля в настоящее время не очень известно широкому кругу читателей. Во Франции его, конечно, знают лучше. Он был первым переводчиком «Фауста» Гёте на французский язык, причем Жерар Лабрюни (настоящая фамилия будущего писателя) выполнил перевод еще до окончания лицея. Эта работа принесла студенту славу во всей Франции. Он познакомился с представителями парижской богемы и знаменитыми деятелями искусства и продолжил свою литературную деятельность. Выбор для нашего исследования личности Нерваля вызван яркостью его болезненных проявлений, которые он, как немногие (пожалуй, только еще Стриндберг и Гаршин), отразил в своих художественных произведениях. Это был психически тяжело больной человек, который до последних дней своей жизни не прекращал литературного творчества и необычайно красочно описал собственные переживания.
Жерар де Нерваль родился 22 мая 1808 года в Париже, в семье военного врача. Мать умерла, когда мальчику было 2 года, и похоронена в Германии, где семья оказалась во время наполеоновских войн. Образование будущий писатель получил в парижском лицее Карла Великого. Стал изучать медицину, но бросил. В начале своей литературной деятельности завязал дружеские отношения с Т. Готье, В. Гюго и др. Среди его корреспондентов были Жорж Санд и Ф. Лист. С 16 лет сочинял стихи и публиковал их, пытался писать пьесы. В 1828 году он издал перевод первой части «Фауста», восхитивший самого Гёте. Одно время Нерваль был членом «бригады», писавшей для А. Дюма-отца приключенческие романы. Словом, Нерваль был весьма одаренный человек, заслуженно принятый в парижские литературные круги.
Однако довольно рано в поведении Нерваля стали отмечаться странности и неадекватность, которые резко проявились к 33 годам, когда начались его многолетние скитания по психиатрическим лечебницам. Причем в его окружении одни не замечали ранние признаки заболевания, а другие не расценивали их как проявления болезни. Он производил на людей впечатление беззащитного человека, которого легко обидеть, потому писателя нередко называли «наш нежный Жерар». Когда в 26 лет он влюбился в актрису комической оперы Женни Колон, поначалу никто не догадывался о его любви, в том числе и объект чувств. После того как об этом стало известно, многие не могли понять поведения поэта и его высказываний по этому поводу. Любовь была платонической: каждый вечер Нерваль стоял за кулисами только за тем, чтобы взглянуть на свою возлюбленную, которую он позднее в своей незаконченной повести назвал Аврелией. Иногда на улице он принимал посторонних женщин за свою любимую. Когда же между ними возникла короткая связь, выяснилось, что предмет любви вовсе не соответствует представлениям поэта – Нерваль «любил монахиню в лице актрисы». Как уже упоминалось, в 33 года у писателя возникли явные психические расстройства. Вот как он сам описывает один из приступов болезни: «Однажды вечером около полуночи я возвращался в часть города, где жил, когда, случайно подняв глаза, я заметил номер одного дома, освещенный фонарем. Это число равнялось числу моих лет. Опустив глаза, я увидел перед собой женщину с бледным лицом, глубоко запавшими глазами. Мне показалось, что она имела черты Аврелии. Я сказал себе: „Это предсказание ее смерти или моей“. И не знаю почему, я остановился на последнем предположении; я был осенен мыслью, что это должно произойти завтра в тот же час». Ночью Нерваль видел вещий сон на ту же тему. На следующий день вечером, когда приближался «роковой час», он «стал искать на небесах звезду, которую… знал и о которой думал, что она имеет какое-то влияние» (на него. — Прим. авт.). Дальше Нерваль пишет: «Отыскав ее (звезду. — Прим. авт.), я продолжил мой путь по тем улицам и в том направлении, чтобы она была мне видна, идя, так сказать, за своей судьбой и желая видеть звезду до той минуты, когда смерть поразит меня. Дойдя, однако, до соединения трех улиц, я не хотел идти дальше. Мне казалось, что мой друг (действительно шедший с ним. — Прим. авт.) употреблял сверхчеловеческие усилия, чтобы заставить меня сдвинуться с места; он увеличивался на моих глазах и принимал черты апостола. Мне казалось, что место, где мы стояли, поднимается и теряет городской вид; на холме, окруженном безграничными пустынями, эта сцена делалась сценой борьбы двух духов, образом библейского искушения. „Нет, – говорил я, – янепринадлежу к твоему царству небесному. На этой звезде живут те, кто существовал еще до возвещенного тобою откровения. Оставь меня соединиться с ними, потому что среди них та, кого я люблю, и там мы снова должны найти друг друга“».
В этом описании, взятом из повести «Аврелия», мы находим множество признаков психоза, который время от времени возникал у писателя. В первую очередь это галлюцинации (превращение неизвестной женщины в Аврелию, друга – в апостола; изменение окружающего, потерявшего «городской облик»). Отмечаются также идеи воздействия — ощущение влияния посторонней силы (апостол через друга Нерваля старается сдвинуть его с места). Писатель добавляет, что ощущает свое тело наэлектризованным, «способным опрокидывать все». В описании присутствуют элементы манихейского бреда: борьба двух духов, доброго и злого, а в центре этой борьбы обычно находится сам больной. В мышлении Нерваля в это время присутствует своеобразная символика, выражающаяся, например, в оценке цифр, имеющих «определенный смысл»: апостол привел его к соединению трех улиц, борьбу ведут два духа. Эти расстройства, сопровождаемые переживанием экстаза или ужаса, характерны для онейроидного (сновидного) помрачения сознания. Все это в совокупности – признаки острого шизофренического психоза, периодически возникавшего у писателя.
Между приступами болезни он путешествовал, чувствуя себя вначале практически здоровым, хотя прекращение болезненных ощущений воспринималось им как утрата какого-то творческого импульса: «Впрочем, выздоравливая, я утратил это мимолетное озарение, которое позволяло мне понять моих товарищей по несчастью (пациентов психиатрической клиники. — Прим. авт.); идеи, которые обуревали меня, почти все исчезли прочь вместе с горячкой и унесли с собой ту малую толику поэзии, которая проснулась было в моей голове».
Страсть к путешествиям он объяснял желанием избавиться от тревоги, прийти в состояние душевного равновесия. Некоторые больные с этой целью начинают злоупотреблять алкоголем. Нерваль в конце жизни тоже часто пил. Оценивая свои переживания, писатель не может полностью признать их болезненными – явление, постоянно наблюдаемое у больных хроническими бредовыми психозами, которое в психиатрии называется потерей способности критического осмысления болезненных переживаний. «Я был в безумии, это точно, если, однако, полностью сохраненная память и определенная логика мышления, не покидавшие меня ни на минуту, не позволяют охарактеризовать мою болезнь иначе, как этим горьким словом: безумие! Несомненно, для врача это было именно оно, хотя для меня всегда находили более вежливый синоним; для друзей это не могло значить ничего другого; для одного меня это было преображением моих обычных мыслей, сном наяву, чередой гротескных или возвышенных иллюзий, в которых было столько очарования, что мне лишь хотелось снова и снова погружаться в них, ибо физически я не страдал ни минуты, за исключением моментов лечения, которое почитали долгом мне навязывать».
После прекращения наиболее острых проявлений болезни поэт старался скрыть их и «оправдать». Это особенно заметно в его письмах к друзьям и врачам. С первыми он более откровенен. «Я всегда такой же, какой я был, какой я есть, странно только, что меня находили другим в те несколько дней, прошлой весной. Иллюзии, софизмы, самомнение – вот враги здравого смысла, в котором у меня никогда не было недостатка. В сущности, мне снился занятный сон, ияонемжалею. Я даже иной раз задаюсь вопросом, не был ли он реальнее, чем то, что кажется единственно объяснимым и естественным сегодня. Но поскольку здесь (в психиатрической лечебнице. — Прим. авт.) есть врачи и комиссары полиции, которые следят за тем, чтобы поле поэзии не расширили за счет общественных мест, то мне не давали выйти и жить среди нормальных людей, пока я формально не признаю себя больным, что дорого обошлось моему самолюбию и моей честности. Сознайся! Сознайся! – кричали мне, как прежде кричали колдунам и еретикам, и, чтобы с этим покончить, я дал приписать себе недуг, которому врачи нашли определение и который в медицинском словаре называют без разбору то теоманией, то демономанией», – писал поэт еще в начале болезни жене А. Дюма – Иде. Несмотря на некоторые противоречия, из письма ясно, что свои «грезы» Нерваль не считает болезнью и, признавая болезнь, он лишь делает уступку «врачам и комиссарам полиции».
В письме же к лечащему его психиатру Эмилю Бланшу он пишет: «Встреча с отцом могла бы восстановить мои душевные силы и придать мне энергии для продолжения работы, которая, как мне кажется, должна приносить пользу и делать честь вашему заведению. Благодаря ей мне удается освободить голову от видений, которые так долго ее наполняли. На смену болезненным фантасмагориям придут более здравые мысли, и я смогу вернуться в мир живым доказательством ваших забот и вашего таланта». Вопреки внутреннему несогласию, он «соблюдает правила игры» – льстит врачам, благодарит их, несмотря на то что методы, которые применялись в лечении, были малоприятными, а подчас мучительными. Хотя эпоха Филиппа Пинеля уже наступила (освобождение душевнобольных от цепей и придание сумасшедшим домам вида учреждений, напоминающих больницы), в психиатрии еще были в ходу смирительные рубашки, «лед на голову» и другие подобные мероприятия. Однако уже тогда (в середине XIX века) принимались меры по гуманизации отношения к пациентам психиатрических больниц. Об этом свидетельствует и пример самого Нерваля, который, несмотря на пометку в истории болезни «неизлечим», при улучшении состояния выписывался и жил вне стен больницы, пока обострение болезни, выражавшееся в неправильном поведении (возбуждение, нелепые поступки) не приводило его обратно. В конечном итоге «гуманное отношение» врачей (преждевременная выписка), успокоенных заверениями больного, сыграло роковую роль.
Судьба Нерваля подтвердила психиатрический диагноз шизофрении. Болезнь протекала приступообразно, однако полностью поэт в себя никогда не приходил. Он постепенно терял связи с друзьями, которые перестали его понимать. Поэт надолго куда-то исчезал, превратившись в сумасшедшего бродягу, писал на обрывках бумаги «загадочные» тексты. В его состоянии постоянно присутствовал определенный аффективный компонент, часто это было депрессивное настроение: «Мне казалось, что я сам Бог, и заключен при этом в довольно жалком воплощении (смесь идей величия и низкой самооценки. — Прим. авт.)». Или: «Ты видишь, я рассуждаю уверенней, чем прежде. Это потому, что болезнь и порожденная ею меланхолия укрепили меня в моих помыслах».
Видимо, эти элементы депрессии, сознание болезни и ощущение полной беспомощности перед ней и толкнули Жерара де Нерваля на самоубийство. Накануне он бегал по Парижу, просил одолжить ему какую-то конкретную ничтожную сумму (причем больше не брал).
Ночью он постучал в ночлежку на улице Старого Фонаря. Хозяйка не пустила его, стала ругать. Он затих. А утром его нашли повесившимся на решетке отопления у той самой ночлежки. Это случилось 26 января 1855 года. Так закончил свою жизнь один из талантливых французских поэтов. Несмотря на болезнь, Нерваль сохранил творческие способности, о чем свидетельствуют хотя бы его яркие описания собственных болезненных переживаний.
Шарль Бодлер писал в 1856 году о Нервале: «Сегодня, 26 января, ровно год – с тех пор, как один писатель восхитительной честности, высокого ума, который всегда был в ясном сознании, тихо ушел, никого не потревожив… чтобы выпустить свою душу на волю, на самой темной улице, какую сумел найти…»
Его причудливая проза – повесть «Аврелия», в которой грезы неотделимы от реальности, пользовалась большим успехом у французских сюрреалистов в 1920-е годы.
АВГУСТ СТРИНДБЕРГ
Мой пылающий мозг бешено работал
Август Стриндберг
Фото
«Великим шведом» по праву называют Августа Стриндберга, писателя, классика шведской литературы и драматурга, предопределившего пути развития театра ХХ века, реалиста, исповедовавшего принцип «абсолютной верности действительности». Он был исследователем глубин человеческой души и тончайших психологических оттенков отношений между людьми, обнажая самые сокровенные стороны людских переживаний и изобличая негативные социальные процессы. При всей своей творческой активности, продолжавшейся до конца жизни (он оставил после себя 55 томов разных произведений), Стриндберг всю жизнь страдал психическим расстройством, то затихающим, то вспыхивающим с новой силой. В творчестве писателя тесно переплелись болезненные переживания и реалистические наблюдения, философские размышления и гротеск. Первой русской читательницей писателя была Софья Ковалевская, являвшаяся в то время профессором Стокгольмского университета. Ей очень нравилась проза Стриндберга, и она рекомендовала его русским издателям. Юхан Август Стриндберг родился 22 января 1849 года в Стокгольме. Он происходил из старинной аристократической династии. Прадед его служил королю Карлу XII и получил дворянство. Отец писателя, Карл Оскар Стриндберг, был инспектором пароходства; мать, Элеонора Ульрика Норлинг, очень набожная женщина «из простых», в юности работала служанкой. В семье было шесть детей.
Мать умерла от туберкулеза, когда Августу было 13 лет. С мачехой у него не складывались отношения. Анализируя свои детские переживания, Стриндберг, уже будучи взрослым и отождествляя их с переживаниями литературного героя, писал: «Он пришел в мир испуганным и жил в постоянном страхе перед жизнью и людьми». Писатель всячески подчеркивает свою незащищенность, ранимость, как говорят психиатры, «мимозоподобность». По-детски влюбляясь, он глубоко страдал, иногда до такой степени, что собирался покончить с собой. Эти «любовные страсти» будут преследовать его всю жизнь. Учился он много и охотно – в школе, лицее, гимназии, а в 1867 году поступил в университет в городе Упсала. За отличную учебу получил королевскую стипендию, но из университета ушел, проучившись три года. Недолго работал учителем в средней школе, затем эмоциональная тонкость и чувствительность привели его на театральные подмостки, где, однако, как актер он не добился успеха. Потом был телеграфистом, работал в газете. Свое образование он систематизировал, пополнил и завершил, работая в течение семи лет в Королевской библиотеке. Август Стриндберг изучал химию, медицину, историю культуры, китайский язык и историю Востока, занимался фотографией и живописью. Его знания были поистине энциклопедическими.
Примерно в 22 года он пишет свои первые пьесы. Впечатление от их постановки у автора было тяжелым. Позднее он писал об этом в одном из рассказов: «У Иоганна (так Стриндберг назвал в рассказе самого себя. — Прим. авт.) было такое чувство, что он присоединен к какой-то электризующей машине. Каждый нерв его дрожал, нервы его тряслись (исключительно от нервности), и во все время действия по лицу его текли слезы. Он видел несовершенство своей работы и стыдился своих горящих ушей; он убежал раньше, чем упал занавес. Он был совершенство уничтожен… Все было хорошо, все, кроме пьесы. Он ходил внизу, у воды, взад и вперед; он хотел утопиться». Так переживал Стриндберг многие трудности и неприятности: убегал в лес и, давая волю накопившейся в нем агрессии, «рубил» палкой траву, давил грибы, карабкался по скалам, бросался в почти ледяную воду. «Я бросился в чащу, высокие деревья становились все мощнее, и их шелест приобретал все более низкий тон. На краю отчаяния, в пароксизмах боли я взвывал в голос, и слезы катились у меня из глаз. Словно лось в гоне, я растаптывал каблуками грибы и мхи, вырывал молодые побеги можжевельника, налетал на деревья! Чего я хотел? Я не мог бы этого сказать! Какой-то неукротимый огонь пылал в моей крови…», – описывает писатель свои переживания во время вынужденной разлуки со своей будущей женой. Даже если это описание немного усилено авторской фантазией, впечатление оно оставляет сильное. Стриндбергу, как натуре артистической, было свойственно стремление к драматизации ситуации, театрализации, нагнетанию страстей – то, что психиатры называют истерическими проявлениями характера. А если внимательно присмотреться к его поведению, то оно напомнит нам поведение сумасшедшего в представлении обывателя.
Что же это было и когда писатель заболел психически? Немецкий философ, психолог и психиатр К. Ясперс считал, что Стриндберг «старался убедить себя, что он психически больной», так как с душевнобольного нет спроса, он ни за что не в ответе. Трудно полностью согласиться с этим тезисом, уж очень он «психологически красивый». Видимо, это было все же проявлением своеобразного характера писателя, не имело такой «рациональной» подоплеки и явно выходило за рамки обычных психологических реакций. Скорее всего, это были предвестники будущей болезни.
Писателю было свойственно углубление в собственные переживания, самокопание. В моменты таких страданий он ни с кем не делился своими чувствами, оставаясь один на один со страстями. Такая отгороженность, называемая аутизмом, свидетельствует о шизоидных чертах характера и вводит человека в группу риска по заболеванию хроническим психозом. Еще одной чертой шизоидности у Стриндберга было сочетание фанатичности и твердости с мягкостью и податливостью, так называемый феномен стекла и железа. «В родительском доме, твердый, как лед, он часто бывал чувствителен до сентиментальности. Мог зайти в подворотню и снять с себя рубашку, чтобы отдать кому-нибудь, мог заплакать при виде какой-нибудь несправедливости», – писал Стриндберг об одном из своих героев, имея в виду самого себя. И еще: «Он размышлял о самом себе и, как все мечтатели, пришел к окончательному выводу, что он ненормальный. Что было с этим делать? Если бы его посадили под замок, он сошел бы с ума, в этом он был уверен». Здесь уже не желание казаться психически больным, а страх заболеть психозом.
Надо сказать, что Стриндберг, имея тяжелые психотические переживания, никогда не лечился в психиатрической больнице, «ходил среди здоровых». Однако, несмотря на его отгороженность (аутизм), ряд окружающих видели явные странности в поведении писателя, слышали не соответствующие действительности высказывания (бред), которые врачами толкуются как выраженные психические отклонения.
Начало болезни, как это часто бывает, проявлялось приступами физических расстройств («головные боли, нервная раздражительность, расстройство желудка»). Впервые подобные симптомы возникли у него в 1882 году, тогда же мелькнула мысль о том, что его хотят отравить: «Подавленный и разбитый лежал я на софе, смотрел на моих играющих детей, вспоминал счастливые минувшие дни и готовился к смерти. Никаких записок я не оставлю, потому что не могу открыть ни причину моей смерти, ни моих мрачных подозрений». Стриндберг описывает это состояние (ему в то время было 33 года, и уже 5 лет он состоял в первом браке с баронессой фон Эссен-Врангель) в произведении «Исповедь глупца», датируемом 1888 годом. Несмотря на разницу во времени, нет основания сомневаться в правдивости автора, пишущего о своих переживаниях, так как критики, историки литературы и психиатры, изучавшие творчество Стриндберга, подчеркивают почти полную автобиографичность его произведений. И знакомство с ними действительно дает объяснение многим противоречиям и несуразностям в жизни писателя.
Такие приступы, хотя и менее выраженные, повторялись ежегодно до 1887 года. А в 1887 году возникает очередной, но довольно сильный приступ: «Меня опрокинуло назад, когда я сидел за столом с пером в руке: лихорадочный припадок швырнул меня на пол… Лихорадка трясла меня, как трясут перину, перехватила мне горло, стараясь задушить, давила мне коленом на грудь, жгла мне голову так, что мои глаза, кажется, вылезали из орбит. В моей мансарде я был один на один со смертью… Мой мозг трепыхался, как полип, брошенный в уксус. Вдруг я уверился, что на меня напала эта пресловутая пляска смерти; я обмяк, упал на спину и отдал себя в жуткие объятия чудовищного». Вот такие необычные и неприятные переживания. Даже если сделать скидку на «художественность» описания, ощущения эти весьма болезненные. К. Ясперс так пишет о состоянии Стриндберга: «Человек может быть долгие годы в целом здоров, и лишь изредка, словно зарница на горизонте, мелькнет в нем проблеск того, что позднее захватит его целиком».
В годы, о которых здесь идет речь, Стриндберг выступает как противник женской эмансипации и в то же время института брака как явлений ханжеских и калечащих отношения между полами, «уродующих» жизнь. В 1884 году, после публикации сборника рассказов, он был обвинен в богохульстве и вызван в суд, но суд его оправдал. И после этого, на фоне сложных семейных коллизий (его жена будто бы вступила в интимные отношения с одной актрисой), писатель стал чрезвычайно субъективно оценивать происходящие вокруг события. К. Ясперс пишет о том, что появившуюся у него подозрительность почти невозможно отличить от нормальных, психологически понятных переживаний обманутого и обманываемого человека. Здесь встает вопрос: может ли человек, столкнувшийся с бесспорной супружеской неверностью, заболеть бредом ревности? В понятиях обывателей обманутый супруг всегда прав, подозрения и реакции его понятны, особенно когда речь идет об относительно молодых (в репродуктивном возрасте) субъектах. Психиатры же знают, что хотя бред ревности – это, как правило, огульные и нелепые обвинения супруги в измене, бывают случаи, когда болезненные состояния могут быть реакцией и на истинную супружескую неверность. Это тоже бред ревности, или бред супружеской неверности. Он и наблюдается в случае Стриндберга. Трудность в диагностике состояния заключается в том, что нелепости в поведении и высказываниях больного становятся очевидными иногда через довольно длительный срок после начала болезни.
Почему же многие психиатры, изучавшие болезнь писателя, уверенно говорят о том, что он страдал бредовым психозом?
Во-первых, по характеру поведения писателя и его постоянных мыслей об измене супруги, по уверенности в том, что его обманывают. Все строится на догадках, которые в основном питаются случайными совпадениями, а иногда просто вымыслом. Вернувшись домой, жена как-то по-особому одергивает свои юбки, разговаривает с нарочито беспечным выражением лица, тайком поправляет прическу, проявляет холодность в интимных отношениях, не интересуется делами мужа, о чем-то тоскует («не о любовнике ли?»). При попытке мужа выяснить некоторые обстоятельства поведения супруги «на ее губах застывает бесстыжая улыбка». О своем отношении ко всему этому Стриндберг говорит: «Это не доказательства, которые можно представить в суд, но мне их достаточно, потому что я точно знаю их суть». Вот эта непоколебимая уверенность в собственных выводах и является основной характеристикой бреда. Разубеждения при этом совершенно бесполезны.
Во-вторых, монотематичность (построение на одной идее) бреда постепенно растворяется в других бредовых идеях, в первую очередь в идеях отравления и дурного обращения (желание скомпрометировать, опозорить, осмеять). Стриндберг считает, что все украдкой усмехаются, стараются помочь его жене, специально задерживают его во Франции. Увидев во французском журнале серию карикатур знаменитых шведов, он заметил, что его изобразили с завитком волос, очень похожим на рог (явный намек на то, что он рогоносец). В это время писатель «проводит разыскания», то есть старается разоблачить жену: подсматривает, проверяет переписку, задает провокационные вопросы. Наконец он решает, что его «потомство сфальсифицировано», то есть трое детей – не от него. Стриндберг очень тяжело это переживает и подчеркивает, что для него главное – узнать правду, и тогда он вместе со всеми над этим посмеется.
В-третьих, динамика болезни выражается в утяжелении бредовых идей ревности, в их нарастающей нелепости и, наконец, в формировании выраженного бредового синдрома (бред преследования). Постепенно Стриндберг доходит в своей уверенности до того, что считает жену проституткой, готовой отдаться любому встречному. Болезнь писателя явилась причиной развода. Позднее он еще дважды состоял в браке, но там идеи ревности не проявлялись. Это было обусловлено тем, что паранойяльный (ограничивающийся одной идеей и не сопровождающийся галлюцинациями) бред сменяется более сложным параноидным бредом. Возникают слуховые галлюцинации, сенестопатии (неприятные причудливые болезненные ощущения, не имеющие органического субстрата, то есть не подтверждающиеся никакими объективными исследованиями). Болезнь протекала приступами, давая возможность художнику проявить его гениальные творческие способности и снабжая его темами для произведений. Во время ухудшений у него возникали теперь идеи отравления и страх, что его посадят в сумасшедший дом. «Тут подали на стол что-то напоминающее вываренный свиной корм… Все было поддельно, даже пиво», – пишет Стриндберг о посещении одного ресторана.
Вот как сам он описывает свое состояние во время одного из приступов: «…Я опускаюсь на кресло, необычная тяжесть угнетает мой дух, мне кажется, что какая-то магическая сила струится из стены, сон сковывает мои члены. Я собираюсь с силами и встаю, чтобы выйти. Когда я прохожу через коридор, то слышу голоса, шепчущиеся рядом с моим столом. Почему они шепчутся? Они хотят скрыться от меня. Я иду по улице и вхожу в Люксембургский сад. Я едва волочу мои ноги, они отнялись от самых бедер до пяток. Приходится сесть на скамью. Я отравлен. Это первая мысль, которая приходит мне в голову. И как раз сюда прибыл Поповский, который убил свою жену и ребенка ядовитыми газами. Это он, согласно эксперименту Петтенгофера, провел ток газа сквозь стену. Вечером из страха перед новым покушением на меня я не осмеливаюсь более оставаться за моим столом. Я ложусь в постель, не решаясь, однако, заснуть».
Навязчивым страхом того, что его хотят поместить в сумасшедший дом или могут уничтожить, объясняются бесконечные скитания Стриндберга по Европе.
Помимо идей преследования отмечаются другие варианты бредовых идей. Бред значения: в саду он видит специальным образом уложенные ветки, они обозначают инициалы человека, который приехал из Парижа убить Стриндберга. Потом писатель делает такое наблюдение: «То, что он (мнимый преследователь. — Прим. авт.) отодвинул свой стул, когда я двинул свой, это во всяком случае странно – странно, что он повторяет мои движения, словно хочет своим подражанием поддразнить меня». Еще один вариант бреда – бред воздействия. «Тут начинает ощущаться какой-то словно бы электрический флюид, поначалу слабый. Я смотрю на магнитную стрелку, которую я установил там для свидетельствования; она, однако, не дает ни малейшего отклонения: следовательно, это не электричество. Но напряжение растет, мое сердце сильно бьется; я сопротивляюсь, но какой-то флюид с быстротой молнии наполняет мое тело, душит меня, высасывает мое сердце…».
Писатель ссорится с друзьями, ссорит их между собой, устраивает скандалы, причину которых не могут понять окружающие. На самом деле он «убегает от врагов», старается их разоблачить, показать, что разгадал их козни, нанести первый удар. Таким образом, его поступки укладываются в поведение преследуемого преследователя, явления, часто наблюдаемого при хронических бредовых психозах. Но, видимо, ему действительно намекают, что он не в своем уме, потому что Стриндберг все-таки дважды обращается к психиатру за справкой, что он психически здоров. Однако услышав, что выдача такой справки требует обследования в психиатрической больнице, он категорически отказывается от пребывания там. Больше никаких контактов с психиатрами у него не было.
Но не будем забывать, что душевнобольной писатель «ввел шведскую литературу (а в известной степени и культуру) в Европу». Такова сила его таланта, который не могла победить болезнь. Классик норвежской литературы и младший современник Стриндберга
Кнут Гамсун писал: «Вы говорите, он что-то имеет против вас. Ах, я не знаю такого человека, против которого он чего-нибудь не имел бы… Сомневаюсь, что с ним вообще можно иметь какие-то отношения… Меня это не задевает. Несмотря ни на что, он все же Август Стриндберг». Цитата показывает, насколько терпимо и с каким уважением, а подчас и восхищением относились к писателю те современники, которые могли оценить его творчество.
Был в деятельности шведского гения еще один момент, который напрямую демонстрировал наличие у него психических отклонений. Он увлекался химией, при этом производил опыты, подобные экспериментам средневековых алхимиков. Хотя он высказывал верные соображения о превращении химических элементов, сами его опыты никуда не годились. Здесь мы сталкиваемся со спецификой мышления А. Стриндберга. К. Ясперс писал, что в постановке вопросов Стриндберг – философ, так как пытается решить «проклятые вопросы»: доказать возможность превращения элементов, единство всего живого (вопросы, неоднократно ставившиеся и по-разному решавшиеся другими). Однако его доказательства были фантастическими, поскольку страдал процесс обобщения. Как это часто бывает у больных хроническими психозами, обобщение производится у него по необычным, иногда случайным признакам. Результаты экспериментов критически не оцениваются, ни с чем не сравниваются, а предлагаются как неопровержимые откровения. Все это напоминает бредовые умозаключения.
Стриндберг считал, что изобрел способ получения золота из других химических элементов и что это открытие у него хотят украсть. В конце концов это привело его к мысли, что он великий ученый, но непонятый и непризнанный.
Такое количество признаков ненормальности Стриндберга вполне достаточно, чтобы признать наличие у него психической болезни. Тем не менее симптомы заболевания этим не ограничиваются. Можно сказать, что здесь «присутствует вся психиатрия». Описание данных признаков, во многом почерпнутое из произведений самого писателя, необычайно ценно для изучения картин и течения психических расстройств. То, что мы описываем, не должно быть использовано для удовлетворения праздного любопытства, оно служит для понимания поступков и высказываний душевнобольных и, соответственно, для правильного выбора поведения с ними, а также для представления о дальнейшем течении болезни и планирования соответствующей реабилитационной работы, в которую вовлекаются все близкие больного человека. Для профессионалов случай Стриндберга уникален тем, что заболевание текло «естественно», то есть писатель никогда не лечился – не обращался к врачам, да и лечиться, собственно, было нечем. Тем не менее творчество его было чрезвычайно глубоким и оригинальным. Переплетение реального и болезненного формирует уникальную форму и содержание его произведений. Потрясает сочетание продуктивности и глубины творчества с частыми и тяжелыми приступами психического расстройства.
Мы привели, однако, не все характеристики мышления великого шведского писателя. Речь идет о мистических моментах в его творчестве. Мистическое наиболее тесно переплетается с болезненными ощущениями: «Город словно заколдован: все или в деревне, или повыехали куда-то еще». «Тут он почувствовал себя так, словно его заманили в ловушку… Постоянная ярость против кого-то невидимого, но, кажется, питавшего к нему неизбывную злобу, обессилевала, он был парализован и не пытался даже пальцем пошевелить, чтобы изменить свою судьбу». «Тут по моему телу скользнул этот невидимый призрак, и я поднялся». «Возвратитесь в свою комнату ночью, и вы обнаружите, что в ней кто-то есть; вы его не увидите, но вы ясно почувствуете его присутствие». «Бывают такие вечера, когда я убежден, что в моей комнате есть кто-то еще. И тогда от невыносимого страха у меня начинается лихорадка и выступает холодный пот».
Все это отрывки из произведений Стриндберга. Он изучает религиозные и мистические труды прошлого. Особенно привлекает его творчество шведского религиозного мистика Сведенборга: «Сведенборг, открыв мне глаза на природу тех страхов, которые я пережил в последние годы, освободил меня от электризовщиков, чернокнижников, волшебников, завистливых алхимиков, он освободил меня от безумия. Он указал мне единственный путь, ведущий к излечению: отыскивать демонов в их убежище, во мне самом, и убивать их раскаянием». Однако такое критическое отношение к своим переживаниям посещает Стриндберга, видимо, только в периоды улучшения состояния.
Идеи же преследования, которые по-прежнему вынуждают искать преследователей не в себе, а извне, периодически усиливаются: «Я совершенно уверен, что никто меня не преследует, и, тем не менее, я принужден мучительно возвращаться в круг старых мыслей и думать: кто-то это делает». Таким образом, у Стриндберга нет истинного понимания, что он болен, то есть постоянно отсутствует критика. «Какая-то болезнь? Невозможно, поскольку все у меня было хорошо, пока я не раскрыл мое инкогнито. Покушение? Очевидно, поскольку я своими глазами видел приготовления. К тому же здесь, в этом саду, где я вне досягаемости моих врагов, я вновь прихожу в себя…» – рассуждает писатель в Париже и на следующий день бежит в другой город.
В последние годы жизни болезнь протекала менее бурно. Однако изменения личности, которые она повлекла за собой, стали более заметными. Доживает свои дни писатель фактически один, он никого не принимает, не выходит к людям, приходящим засвидетельствовать ему почтение. Один из посетителей Стриндберга в 1911 году пишет: «Он жил совершенно один, почти прячась от людей, и отворял дверь лишь нескольким близким друзьям… Собственно, почти никто не знал, где он живет; одни полагали, что он серьезно болен, другие – и таких было большинство – что он страдает манией преследования и к нему не следует приближаться… На следующий день я его разыскал. На двери не было никакой таблички, шнурок звонка был снят. Я трижды – словно по уговору – постучал в стену возле дверной рамы и стал ждать. По прошествии некого времени планка на щели почтового ящика, прорезанной всего в каком-нибудь метре от пола, осторожно приподнимается сизоватым пальцем, и в щели появились глаза и седая бровь. „Я пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение одному из могущественнейших шведов“, – говорю и просовываю в щель свою визитную карточку. Снова проходит много времени. За дверью – мертвая тишина… Я чувствую, что этот одинокий поэт стоит по ту сторону двери, прикидывает так и этак и колеблется… Наконец дверь тихонько отворяется, и появляется Стриндберг. Он пристально на меня смотрит. „Я болен, – говорит он шепотом. – Я вообще-то никого не принимаю“… Он так и стоял в проеме дверей, словно загораживая мне дорогу в дом, и испытующе смотрел на меня со смешанным выражением глубокого недоверия и любопытства».
По этому отрывку видно, что до конца жизни Стриндберг сохранил бредовую настроенность, которая с годами потеряла аффективный накал и стереотипизировалась (как бы застыла), но не исчезла вовсе. Она-то и придавала поведению драматурга аутистический рисунок, выражавшийся в замкнутости и отгороженности. Говоря о том, что он болен, писатель имел в виду не психическое расстройство, а физическое страдание (в то время он уже был болен раком). Психическая болезнь Стриндберга демонстрирует еще один известный в психиатрии феномен, описанный французским психиатром Маньяном, выражающийся в характерном для хронических бредовых психозов переходе одного вида бреда в другой. Началась болезнь с паранойяльного бреда (бред ревности), который постепенно превратился в параноидный (бред преследования, воздействия, значения, с сенестопатиями, слуховыми галлюцинациями), и, наконец, появились элементы парафренного бреда (фантастический бред величия, мистические бредовые моменты). Последний вариант бреда не развернут, так же как и «конечное состояние» (выраженного распада личности не случилось). До конца жизни он писал. В последние годы все меньше, но создал свой театр – Стокгольмский интимный театр, – где были поставлены все его пьесы. Это был новаторский театр, работавший как единый организм. Этот принцип стал одним из основных в театральном искусстве ХХ века.