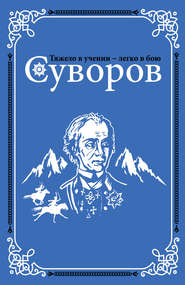По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь Бунина. Лишь слову жизнь дана…
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2001
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика? – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой продолжал, пока усаживались за столик: – Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать: до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили! Ты и представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…
Он перебил, шутя:
– Как же это – с колоколами? Ведь они у вас запрещены.
Толстой забормотал сердито, но с горячей сердечностью:
– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил! Ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что же, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?
Он поспешил тогда переменить разговор.
Да, трудно жить в эмигрантской неустроенности, бедности. Но самое тяжкое – остаться без родины. Жить только писанием, творчеством? Даже для него, мученика, подвижника литературы, это трагически тяжело. Снова чертит перо знаки на листе, сплетаются буквы в слова, слова в строчки, несущие его боль, его муку:
«Две трети всех сил своей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил все-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере, где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. На постаменте: «такому-то», а к чему все это? Кто об этом «таком-то» думает? Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому не ведомая жизнь «такого-то»… как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашедшего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью – и вечной, вовеки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печалями и радостями человека, тайной его рождения, существования и смерти»…
…Литература стоит на царях. Державин – царь. Пушкин – царь. И Гоголь – царь. И Лев Толстой – царь. А вот Бунин – царевич. Иван-царевич русской литературы.
Его творчество завершает золотой век отечественной изящной словесности – кто будет спорить с этим! От Пушкина, Лермонтова, конечно, Тургенева, Фета, Алексея Константиновича Толстого и Толстого Льва, наконец, Чехова тянутся родники, питавшие прозу и поэзию Бунина.
Правда, надобно тут же внести коррективы в эту готовую стать олеографией картину. Два великих писателя – Гоголь и Достоевский – как будто бы не только не оказали воздействия на Бунина, но вызвали род отталкивания: Гоголя он считал гениальным, но «лубочным» художником, а о Достоевском говорил, что его герои выдуманы, а в его сочинениях собраны все запрещенные приемы в литературе. Но вот признание, опровергающее тезу – хотя бы в отношении Гоголя: «У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно они звучат для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав».
Противоречие? Но подобных противоречий мы найдем у Бунина во множестве, и их мнимость объясняется страстностью его художнической натуры. Пусть это сказано о Гоголе Алексеем Арсеньевым («Жизнь Арсеньева»), но ведь он «alter ego» Бунина.
Впрочем, и силовые линии этих писателей, пусть порой и парадоксально возникавшие, ощущались. Например, гоголевская – в рассказе «Жилет пана Михальского» или достоевская – в «Петлистых ушах» и «Казимире Станиславовиче». А в своей горькой и неуютной старости (о чем говорит, например, А. Бахрах – книга «Бунин в халате») Бунин с неудовольствием и даже отчаянием обнаружил «достоевщинку» в себе самом, в изломанных и болезненных отношениях, царивших в пору Второй мировой войны в «грасской коммуналке», – с «девицами», жившими «наверху», певицей Марго Степун и ее «подругой», бывшей любовью писателя Галиной Кузнецовой, и в яростной вражде с «усыновленным» Верой Николаевной Леонидом Зуровым.
– Никто из русских классиков не имел такой ужасной старости, как Бунин, – сказал как-то мне профессор С. А. Макашин, знаток XIX века и творчества Щедрина, вернувшись из очередного вояжа в Париж, когда мы готовили том бунинского «Наследства»…
Что и говорить, «освобождение Бунина» не походило на «освобождение Толстого», да и итоги по отношению к классике были уже иными, с поправкой на новый, жестокий век. Если Пушкин завершил все блестящее восемнадцатое столетие, то Бунину, понятно, было не под силу осуществить это по отношению к столетию девятнадцатому. В самом деле, найдем ли мы у него эпохальные типы, соразмерные Онегину, Печорину, Базарову, Обломову, Безухову, Болконскому, Нехлюдову, Раскольникову, Мышкину? Встретим ли мы пафос пророка – «глаголом жги сердца людей», – питавший гений Пушкина, Достоевского, Льва Толстого? Ощутим ли сострадание – глубинное сострадание к униженным и оскорбленным – Вырину, Башмачкину, Герасиму, Макару Девушкину, Поликушке? Бунин постоянно сохранял четкую дистанцию между собой и героями.
Это было связано и с масштабом дарования, и с характером, личностью, степенью эгоцентризма. При всем обилии разнообразных героев у Бунина господствует лирический монотип, что с наибольшей чистотой выразилось в «Жизни Арсеньева». Однако и тогда, когда мы встречаемся с братьями Красовыми («Деревня»), с Захаром Воробьевым, лирником Родионом, Иоанном Рыдальцем, корнетом Елагиным, Митей («Митина любовь»), – надо всем господствует авторский монолог.
Правда, то монолог о России.
«Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу, поблизости от нее – и пели.
Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.
Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им…»
Великая, всеобъемлющая любовь к отчизне, к России, стократ усиленная вынужденным изгнанием, передана здесь, в маленьком рассказе «Косцы», тем словом, музыка которого, пожалуй, еще никогда не звучала так чисто и пленительно во всей великой нашей литературе. Здесь, в слове, Бунин по праву был завершителем классической традиции и тут не знал себе равных. И русский язык, тот самый, который поддерживал «в дни тяжких сомнений о судьбах родины» Тургенева, оставался и продолжал быть лучшим проявлением бунинского таланта.
Необыкновенная жажда жизни и чувство восторга от мира природы, ее первозданной красоты соединялись у Бунина с острым, никогда не проходящим ощущением земного конца. В отличие от своего младшего современника Б. Зайцева, кротко провозгласившего: «Бессмысленного нет», его неотступно терзали сомнения и колебания: «Земля полна истлевшими гробами, несметными костями, черепами… А что над ней? Бог весть. Бессмысленно всю жизнь живу мечтами, что «что-то есть»!»
Но, не являясь православным писателем в том смысле, в каком были поздний Борис Зайцев или Иван Шмелев (как бы жившие при свете Евангелия), Бунин нес в себе такую память о смерти, каковая приближала его к отцам церкви и пустынникам, один из которых на вопрос, как лучше приготовиться к смерти, отвечал: «Каждое утро думай, что наступивший день есть последний день твоей жизни; и каждый вечер – что наступающая ночь есть последняя ночь в твоей жизни». Однако, понятно, пустынником Бунин быть не мог: религиозное восхищение миром подменялось у него главным образом восхищением эстетическим. «Еще одно мое утро на земле…», «Еще одну весну узнать!..» – повторял он, словно утро это – последнее и последняя весна, но восторгала его красота равнодушной природы и тайна, загадка земной, плотской любви.
Вечный юноша, он, кажется, до конца своих дней пребывал в ожидании любви, описывал любовь во всех ее состояниях, умел найти ее там, где ее еще нет, и там, где она едва брезжит, и где томится неузнанная, и где кротко служит чему-то ей бесконечно чужому, переходит в страсть или в изумлении не обнаруживает своего прошлого, подвластного разрушительному времени. В нашей литературе никто еще не изображал любовь так пристально и сосредоточенно, как Бунин. И это, конечно, шло от его горячего, пылкого темперамента. «Он был очень страстный человек», – писал мне друживший с Буниным в течение многих лет Борис Зайцев.
Необъяснимость, непонятность женской натуры, женского естества мучила и волновала его. Он восклицал: «Ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятые, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них». Но в «поединке роковом», в любви, женщина, героиня у Бунина, чаще всего выше, одухотвореннее героя. Вспомним хотя бы его рассказы «Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Руся», «Галя Ганская». И в понимании и трактовке любви Бунин, с его духовным здоровьем, также продолжал и завершал традицию, идущую от Тургенева и Толстого, и не поддался искусам модернизма.
Как наследник классических заветов, он был верен, говоря словами Ходасевича, своему «контрсимволизму». Бунин противостоял декадансу одиноко и самоотверженно – с младых ногтей: «Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но природа жестоко мстит за это» (статья 1894 года об Иване Никитине «Памяти сильного человека»). К новой литературе и ее веяниям у Бунина была своего рода идиосинкразия, хотя как раз со стороны «новых» писателей он встречал сочувственную поддержку. Недаром так высоко оценил его стихи Александр Блок. Полагаю, что поэзия Бунина еще не понята по достоинству, что Бунин-прозаик и по сию пору часто и несправедливо заслоняет Бунина-поэта.
За все Тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали.
Я одинок и ныне – как всегда.
Но вот закат разлил свой пышный пламень,
И тает в нем Вечерняя Звезда,
Дрожа насквозь, как самоцветный камень.
И счастлив я печальною судьбой,
И есть отрада сладкая в сознанье,
Что я один в безмолвном созерцанье,
Что всем я чужд и говорю – с Тобой.
Бунин последовательно отвергал весь так называемый «серебряный век» – Мережковского и Гиппиус, Брюсова, Бальмонта, Федора Сологуба, Блока, Гумилева, Ремизова, Хлебникова – всех. Между его программной речью 1913 года на юбилее газеты «Русские ведомости» и «воспоминаниями», выпущенными в 1950 году, – на удивление, никаких принципиальных отличий в оценках, за исключением, понятно, тех, какие были навеяны событиями 1917 года. За гребнем гигантских тектонических потрясений он предал анафеме литературу советскую – от Маяковского и Есенина до Бабеля и Олеши.
Однако был ли Бунин архаистом-старовером? Нет, он открыл в литературе новую страницу – страницу новореализма, замечательным проявлением которого можно считать книгу «Темные аллеи». «Называть меня реалистом, значит ‹…› не знать меня как художника», – говорил он на склоне лет критику Л. Ржевскому. Это преодоление традиций и расширение художественной изобразительности сказывается и в неожиданном сближении Бунина с писателями «потока сознания», когда сам он в своей «Жизни Арсеньева» обнаружил немало страниц «совсем прустовских». Не менее характерна его дружба с Андре Жидом, притяжения и отталкивания, которые он испытывал по отношению к Флоберу (стремление написать «книгу ни о чем»), к Мопассану (в изображении любви и женщины), его переводы – из Лонгфелло, Петрарки, Байрона, Теннисона, Мюссе, Леконта де Лиля, Коппе, Шевченко, Мицкевича, Адама Асныка, Цатуриана, Исаакяна, Бялика. Бунину, последнему классику золотого века, этого потерянного рая русской литературы, был, кстати, многим обязан Владимир Набоков.
Немалое значение имел художественный опыт Бунина для советской литературы (которую мы сегодня стыдливо именуем «литературой метрополии»). И. Соколов-Микитов, Н. Никандров, молодой Б. Пильняк, В. Лидин, В. Катаев, К. Федин, а в поэзии, конечно, А. Твардовский ощутили благотворное воздействие бунинской традиции. В 1933 году (год получения Буниным Нобелевской премии) своим учителем – что было по тем временам весьма небезопасно – назвал его Михаил Шолохов[1 - Известны и другие, уже трагические последствия увлечения Буниным. Так, поэт и прозаик В. Т. Шаламов рассказывал мне, что был осужден в 1943 году, находясь в заключении на Колыме, за утверждение, что Бунин – классик русской литературы. (Здесь и далее примеч. автора.)]. Если говорить о последних десятилетиях, то слово Бунина и пластика его внешней изобразительности сказалась на творчестве таких писателей, как Юрий Нагибин, Юрий Казаков, Виктор Лихоносов, Василий Белов.
Однако нужно учесть и другое.
Своим авторитетом и своей позицией Бунин спас в пору тоталитарных режимов, удушения свободы достоинство русской литературы.
«В мире должны существовать области полнейшей независимости, – говорил он в своей речи при получении Нобелевской премии. – Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизации. Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него догмат, аксиома».
Мы, уже по своему евразийскому темпераменту, склонны шарахаться из крайности в крайность, часто предавая анафеме то, чему только вчера поклонялись, и молиться недавно поверженным идолам. Была пора, когда Бунин находился под запретом; случалось, из него делали икону. Наступило, кажется, время спокойного и объективного анализа огромного художественного и духовного мира Бунина. Что означает Россия для мира? Что значит русская культура, русская литература для человечества? Сегодня, когда вечные ценности отступают под бешеным натиском торгашества, культа насилия, пропаганды секса.
Подобно Байкалу, творчество Бунина хранит в себе свежайшую воду – то Слово, которое несет воистину божественное начало. Если Лермонтов – утренняя заря литературы, занявшая полнеба, то Бунин – заря вечерняя, прекрасный вечерний закат накануне долгой, но не вечной ночи.
«Истоки дней»
Сухощавый, синеглазый, изящный, с боковым пробором русо-каштановой головы и своей знаменитой эспаньолкой, он казался современникам верхом сдержанности, холодной насмешливости, строгости и самолюбивой чопорности. С людьми сходился непросто; оставаясь у какой-то границы, обозначавшей доверительную интимность, не переходил ее (как это было, скажем, в отношениях с Куприным или Шаляпиным) или даже делил дружбу с некоей потаенной внутренней неприязнью (такие противоречивые отношения сложились у него с Горьким).
Сдержанность и холодность Бунина были, однако, внешним защитным покровом. В откровенности, особенно при домашних, он был не в меру вспыльчив, ядовито резок, за что в семье его называли Судорожным.
Остроумный, неистощимый на выдумку, он был столь одарен артистически, что Станиславский уговаривал его войти в труппу Художественного театра и сыграть роль Гамлета. О его феноменальной наблюдательности в литературных кругах ходили легенды: всего три минуты понадобилось ему, по свидетельству Горького, чтобы не только запомнить и описать внешность, костюм, приметы, вплоть до неправильного ногтя у незнакомца, но и определить его жизненное положение и профессию.
Талант его, огромный, бесспорный, был оценен современниками по достоинству не сразу, зато потом, с годами, все более упрочивался, утверждался в сознании читающей публики. Его уподобляли «матовому серебру», язык именовали «ледяной бритвой». Чехов незадолго до смерти просил Телешова передать Бунину, что из него «большой писатель выйдет». Лев Толстой сказал о его изобразительном мастерстве: «Так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего». Горький назвал его «первейшим мастером в современной литературе русской».
Он родился 10 (22) октября 1870 года, в Воронеже, в глубинной России, рос в ее плодородном орловском и елецком подстепье, и поздняя осень осталась навсегда его самой любимой темой, заветной песнью:
Не видно птиц. Покорно чахнет
Лес, опустевший и больной,
Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной.
Глушь стала ниже и светлее,