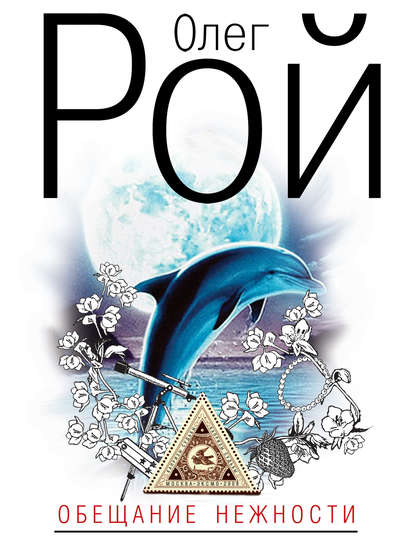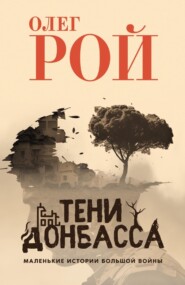По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обещание нежности
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет. На Черном море.
– На Черном море?! – непритворно изумился спаситель. – Так как же тебя сюда-то занесло? Не ближний ведь свет!
Бомж молчал, привалившись к стене и уставясь в одну точку. Сотни ног шаркали мимо него по подземному переходу, и их равнодушный шелест напоминал ему какое-то давнее, хорошо знакомое, даже любимое ощущение. Ну да, конечно! Вот точно так же шелестели и шумели, накатываясь на него и снова убегая прочь, волны… Так же однотонно гудело море… Так же скучно и долго шуршали страницы большой тетради, которую листал тогда этот хмурый доктор, пока не закричал вдруг страшным голосом на женщину: «Вот только погорельцев без паспорта мне тут не хватало! Ты что, не знаешь, что это была за лаборатория?! Убери его отсюда!..»
Да, в лаборатории ему жилось хорошо. Много интересной работы, и хорошей еды, и отличных друзей… А потом случился пожар. И дельфины, его дельфины… они все погибли! Задыхаясь, впервые вспомнив об этом с такой непреложной болью и ясностью, он беззвучно заплакал, и одноногий нищий, все это время внимательно наблюдавший за ним, похлопал его по плечу и сказал:
– Ладно, хватит. Поешь вот пока.
Оказывается, перед бомжем уже лежали на картонной тарелке сочные, аппетитные куски мяса, распространявшие упоительный аромат. Судя по всему, одноногий был здесь кем-то вроде предводителя; во всяком случае, неведомый Заур приготовил для него и его гостя кушанье по первому разряду. А бомж даже и не заметил, когда ему принесли еду; голод, как ни странно, отступил перед внезапно нахлынувшими воспоминаниями, и, торопясь и перебивая сам себя, он вдруг заговорил, глотая слова:
– Там выгорело все дотла. Многие погибли. Меня обожгло, поранило… Мне было плохо.
– Так ты не заразный?
– Нет. Правда, в больницу меня не взяли, но медсестра дала мне одежду и проводила на вокзал. Сказала, что теперь я могу ехать домой, в Москву, к своим родным.
– Ты москвич?
– Наверное, был когда-то. Я не помню, – отмахнулся бомж. Эти подробности казались ему сейчас совсем несущественными; гораздо важнее было выговориться до конца, раз уж он сумел вспомнить все это. – Денег у меня не было, и я залез в какой-то почтовый вагон. Я слышал еще раньше, что так можно путешествовать… Грузчики, наверное, отлучились на время; меня никто не остановил, и я устроился на мешках с письмами. Там были и посылки. Я вскрыл одну, взял конфеты и печенье. Было вкусно… – наивно, почти по-детски, похвастался он. Потом вновь замолчал, и нищий больше ни о чем не стал расспрашивать. Закурив новую папиросу, он уставился в одну точку и задумался о чем-то своем. Еще одна поломанная судьба, еще один потерянный человек. Сколько видел их одноногий на своем веку! Одной трагедией больше, одной меньше, какая разница? Все они давно перестали интересовать старика, потому что ничего нового не было для него ни в человеческих страданиях, ни в человеческой подлости.
А обожженный, покрытый язвами человек, неожиданно деликатно и осторожно принявшийся за еду, отчего-то совсем не чувствовал вкуса мяса. Он вспоминал те конфеты, которые стащил из открытой посылки, – какие они были вкусные и как быстро они кончились. Почти такие же вкусные, как те, которыми в детстве угощала его мама… Был такой же мартовский полдень, когда они вчетвером сидели за празднично накрытым столом (какой же это праздник отмечают в начале марта? Вот ни за что не вспомнить!), и отец кормил шоколадками из коробки младшего сына. Старший тоже потянулся за конфетой, но отец шлепнул его по руке и строгим голосом сказал: «А тебе уже довольно. Ты и так много съел». Интересно, почему отец не любил его?.. Бомж подумал сейчас об этом без всякой горечи, потому что его очень любила мама, и этого было довольно. Вот и тогда она протянула ему под столом целую горсть замечательных нежно-коричневых, округлых и квадратных, с разными начинками конфет…
А в поезде он, должно быть, потерял сознание от боли и пришел в себя только в Москве, на вокзале, – кто-то грубо тряс его за плечи, изрыгая потоки отборнейшего мата. «Вышвырните его отсюда, – как сквозь сон, звучал в ушах чей-то голос. – Посылку списать на потерю, в вагоне навести порядок. И чтобы больше такого не повторялось…»
Он дня три бродил по Москве, то узнавая, то не узнавая кривые привокзальные улочки и переулки. Отсыпался в незапертых подъездах, рылся в помойках, надеясь найти хоть что-нибудь съестное, мерз под весенним дождем… Потом вдруг вышел к Кремлю, но на Красную площадь зайти не решился, хотя ему почему-то этого очень хотелось. Это была площадь его детства, и он еще помнил, как их класс водили на экскурсию в музеи Кремля… Но теперь он поспешно свернул на Тверскую, которая показалась ему понятней и безопасней других центральных улиц. Впрочем, и это, как выяснилось, было ошибкой – как будто что-нибудь еще, кроме ошибок, могло оставаться в его жизни…
Одноногий нищий давно уже уковылял прочь из перехода, на прощание снова похлопав его по плечу, а бомж все сидел, привалясь к стене. Голод больше не мучил его, но слабость была такая, что он почти не мог пошевелиться и только ждал теперь, пока какая-нибудь неведомая посторонняя сила не настигнет его и не заставит подняться на ноги. И потому он совсем не испугался и не расстроился, когда перед ним вновь появился драчливый парень в камуфляже, сопровождаемый на сей раз уже знакомым старшиной из патрульной машины.
– Смотри, Борисыч, – пожаловался парень, кивая на сгорбленную фигуру у стены. – Расселся тут, будто у него место купленное. А оно мое, я за него сам знаешь сколько отстегиваю… Забери его, Борисыч, от греха подальше, а то ребята на него уже зуб точат. Противный он больно, грязный, заразный, наверное…
– Да, – вздохнул усатый старшина. – Я это чучело уже видел. Ну, давай, урод, подымайся. Не убрался с Тверской по своей воле, выгоним силой. Насидишься теперь у меня в «обезьяннике», пожалеешь, что добром не ушел…
В отделении было тесно и шумно. Запах сигаретного дыма, мужского пота, немытого тела, казалось, намертво въелся в стены; душное помещение заполоняли сочная брань и истерическое, опасливое настроение несвободы. За решеткой копошились и вяло огрызались друг на друга люди, почти такие же грязные и оборванные, как он. Но не товарищи по несчастью сейчас интересовали его. Как ни странно, самая напряженная, нервная волна шла здесь не от запертых на замок бродяг и преступников, а от высокого, подтянутого, хорошо выбритого милиционера в ловко сидящей форме, то и дело возобновлявшего какие-то долгие переговоры по телефону за стеклом дежурной части.
«Подполковник…» – мельком бросив взгляд на его погоны, определил бомж. Он хорошо разбирался в звездочках: там, в его лаборатории, было много военных. Все они были такими же стройными и подтянутыми, как этот милицейский чин; от них всегда пахло хорошим одеколоном, веяло уверенностью в себе и страстью к своей работе… Но сейчас бомж почти явственно ощущал, как улетучивалась, испарялась всегдашняя уверенность, обычно свойственная людям, подобным этому подполковнику; как нервничал он, закуривая сигарету за сигаретой, и так же последовательно, не докурив, тушил их в темной стеклянной пепельнице; как все более раздраженно барабанил по столу пальцами, убеждая в чем-то своего невидимого собеседника.
И тогда с бомжем вновь случилось это. Он не любил этого чувства, но оно часто накатывало на него помимо воли, когда его сопереживание кому-нибудь, желание помочь, его вчувствование в чужую боль были слишком сильными, они захлестывали его бурным потоком и переставали подчиняться трезвому рассудку. Бомж знал, что ему достаточно одного только небольшого усилия воображения – и он увидит и услышит то, чего на самом деле ни увидеть, ни услышать физически невозможно… И, беззвучно обозвав себя дураком за то, что не может оставить этот враждебный мир в покое, он мысленно поднялся с места и шагнул сначала сквозь решетку, а потом и сквозь толстое стекло с надписью «Дежурная часть».
В пепельнице, стоявшей перед подполковником, скопилось уже полтора десятка окурков, а голос его почти охрип, пропитавшись безнадежностью. Он говорил с женой – об этом можно было догадаться по чуть интимным, чуть раздраженным интонациям – и, похоже, в сотый раз повторял ей одни и те же слова:
– Позвони еще раз Вере Федоровне… Нет, но она могла с ней связаться. Морги? Не говори глупостей! Ну хорошо, хорошо, не плачь. Честно говоря, я и сам уже… я все обзвонил – больницы, морги, бюро несчастных случаев. Нет, я думаю, все будет в порядке. Она у нас взрослая, разумная девочка. Держись.
Телефонная трубка была брошена на рычаг так, словно она только что укусила державшую ее руку. А подполковник, снова и снова повторяя «Черт!.. Вот черт!», принялся рыться в ящиках стола, извлекая на свет божий фотографии единственной, любимой, не вернувшейся в этот день из института домой дочери. На нее это было совсем не похоже – не позвонить, не предупредить… И, снова растерянно повторив «Вот черт!», подполковник застыл на месте, сосредоточив взгляд на одном из снимков.
Сознанию бомжа, тело которого до сих пор, неудобно скорчившись, сидело в «обезьяннике», достаточно было один раз взглянуть на все эти цветные снимки, чтобы картина, уже смутно маячившая в мозгу, приобрела четкие и яркие очертания. Девушка стояла сейчас у открытого окна, гневно и судорожно размахивая руками; темный вечер почти уже перешел в ночь, но в небе не было ни одной звездочки – какие там звезды в Москве? Промозглый мартовский ветер трепал один конец длинного шарфа, накинутого ей на шею, а другой небрежно мял и растягивал в своих руках юнец с неприятной усмешкой, смотревший на нее слишком уж пристально. Из окна едва виднелся в темноте огромный, подавляющий своими размерами памятник какому-то царю на фоне корабля с парусами, а внизу еще копошился народ, торопясь домой и вовсе не замечая опасности, которой так и веяло от распахнутых оконных створок на высоком этаже.
Тревога сдавила сердце обожженного человека, и какое-то седьмое чувство подсказало ему так же точно, как это не раз бывало и прежде, что медлить нельзя. А потому бомж, словно очнувшись от недолгого сна, принялся сквозь решетку делать странные знаки подполковнику из дежурной части, с непостижимой уверенностью подзывая его к себе и как будто даже не сомневаясь в том, что высокий милицейский чин захочет снизойти до разговора с таким получеловеком. Подполковник непостижимым образом внял этому зову, подчинился нелепому призыву и минуту спустя отрывисто и беспокойно спрашивал человека за решеткой:
– Ну? Чего надо?..
– Мне – ничего, – спокойно и очень внятно ответил бомж. – Но ваша дочь в опасности. С ней рядом человек, который не должен быть там. А из окна виден памятник… большой и, кажется, под парусами. Я не помню, как он называется.
Лицо усатого подполковника посерело, задергалось, и, не говоря ни слова, он быстро отошел в сторону, выхватывая из кармана записную книжку. Один звонок – и подруга дочери, заливаясь слезами, что-то бормочет о приятеле, которого пару недель назад увела у нее Ленка. Ну и пусть, пусть забирает на здоровье: все равно он давно уже на игле, говорила она ей, дуре стоеросовой… Еще один звонок – и адрес этого приятеля накрепко, на всю жизнь впечатался в мозг отца. Это рядом с Октябрьской, и, действительно, из окна виден грозный, огромный, безумный памятник Петру… Следующий звонок – и машина с мигалкой ждет подполковника, потому что медлить нельзя. Он успеет и вовремя ворвется в квартиру как раз тогда, когда длинный шарф слишком туго обмотается вокруг шеи его дочери и до мгновения, которое могло бы стать последним в ее жизни, останется всего ничего…
А когда через несколько часов подполковник вернется в отделение, он уже не увидит за решеткой длинную, нелепую фигуру обезображенного человека. И тогда он спросит подчиненных очень тихо, но так, что тем и в голову не придет долго соображать, о ком именно он спрашивает:
– Где?.. Где, я вас спрашиваю?
– Страшный такой? Да не беспокойтесь, товарищ подполковник, никуда он не делся. Мы его в общую перевели.
– Ко мне. Немедленно.
Наташа
Глава 1
Этим летом погода как будто сошла с ума. Уже в июне под Москвой горели торфяники, в классах было душно и маетно, воздух слоился от несвойственной нашим местам почти южной жары, а люди страдали от перегрева и получали тепловые удары… Вот и сейчас Наташа вздохнула, невольно прижав руку к пылающему лбу, словно старалась унять головную боль, и тут же улыбнулась, подметив точно такой же неосознанный жест у Марии Ильиничны.
Классная руководительница говорила сегодня с ними по-особому – тихо, позабыв о привычных чеканно-педагогических нотках, уже никуда не торопясь и даже не пытаясь скрыть набегавшие время от времени слезы. Да и день был особенный: в последний раз они в классе, последний раз слушают свою Марьяшу. Экзамены кончились, оценки выставлены, будущее почти определено. Вечером – выпускной… И, вспомнив о бале, при мысли о котором начинает сладко биться любое девчачье сердце, Наташа опять вздохнула, загадав: «Вот если Володька пригласит меня сегодня – все будет в жизни точно так, как я хочу!»
Володька Некрасов не пригласит ее этим вечером. И в жизни, конечно же, все сложится совсем иначе, чем планирует она сейчас, в последний раз присев за школьную парту. У кого из нас хоть что-нибудь получается так, как мы мечтаем в семнадцать лет?.. Но девушка пока еще ничего не знает об этом. Она молчит и рассеянно щурится из-за солнечных зайчиков, мерцающих в большом школьном окне. Она наблюдает за пылинками, пляшущими в столбе света перед ее глазами. Она слушает свою учительницу.
А Мария Ильинична тем временем произносила слова, которые говорила каждому своему выпуску – не замечая, впрочем, что в очередной раз безбожно повторяется. Она повторялась оттого, что каждый из классов заставлял ее не то чтобы забыть о предыдущем, но делался для нее дорогим, по-настоящему единственным. И она говорила и говорила, меняя только имена и обращая их к другим лицам, и никто из замерших перед нею ребят даже и не догадывался, что слова эти уже звучали в стенах школы неоднократно.
– Ты можешь по-прежнему присылать мне свои стихи, Катя. Я уверена, что тебе стоит попробовать опубликоваться, – я ведь уже не раз беседовала с тобой об этом. Твои рисунки, Алеша, я храню и буду хранить всегда. Ты ведь знаешь мою большую синюю папку, да? Там собрано лучшее из того, что вы отдавали на конкурсы, дарили мне к праздникам, готовили для стенгазеты… А ты, Наташа, пожалуйста, не вздумай забросить химию. Вера Семеновна говорила мне, что у тебя настоящий талант, да и неудивительно при таком-то отце!.. Тебе прямая дорога в химико-технологический.
Девушка вздрогнула, услышав эту фразу, но не потому, что классная руководительница произнесла ее имя, а потому, что та заподозрила, будто Наташа может забросить химию. Отказаться от своей мечты? С какой стати?! Она будет ученым, большим ученым. Таким же, как ее отец, Николай Иванович Нестеров. И вот когда она защитит докторскую и во всеуслышание объявит, как он учил ее, как помогал ей во всем, как много сделал для науки, – вот тогда все поймут свою вину перед ее отцом и вернут ему то, что было у него отнято.
Домой Наташа летела как на крыльях. Директор, встретившись с ней в коридоре, поздравил ее с отличными результатами и сказал, что она среди лучших учеников. Конечно, не золотая медаль, но все же… И еще он сказал, что о ее ответе на экзамене по химии уже ходят легенды и что он советует девушке серьезно подумать об этой профессии, ведь сейчас, в начале семидесятых, это одно из самых перспективных направлений науки. Чудак! Разве Наташа сама не знает об этом? Разве у нее есть сомнения? И разве Николай Нестеров позволил бы дочери даже думать в жизни о чем-то еще, кроме химии?
– Мам, я пришла! – звонко крикнула она, хлопнув дверью, и влетела в тесную кухню. По неискоренимой детской привычке схватила прямо со сковородки горячую котлету, потянулась за куском хлеба и… мигом была остановлена укоризненным взглядом матери, появившейся на пороге.
– Положи хлеб, Наташа, – очень ровно проговорила та. – Вымой руки и садись за стол. Никак не научу тебя порядку. А ведь не маленькая уже!
– Ну ты чего, мам? – с набитым ртом заныла девушка, предусмотрительно отодвигаясь подальше в сторону с надкусанной котлетой в руке. – Знаешь, как есть хочется! Я ведь столько экзаменов сдала, отощала, ослабела…
– Ну-ну, – засмеялась мать. – Ладно уж, доедай, отощавшая. Только, чур, уговор: следующая котлета – не сразу, а только после того, как умоешься, переоденешься и все мне расскажешь.
Глаза у нее из холодновато-отстраненных сделались теплыми, и Наташа в который уж раз поразилась их немыслимой ясности, прозрачности, почти озерной глубине. Какая все же мама красивая! Ей, Наташе, никогда такой не стать. А руки!.. Она перехватила на полдороге мамину руку, потянувшуюся было, чтобы поправить дочери растрепавшуюся прядь волос, и прижала ее к щеке. Длинные, тонкие пальцы, нервные и чувственные, такой чудесной формы, такие искусные… Как жаль, что теперь они загрубели, потрескались, покрылись цыпками. Мама работала на фабрике эмалированной посуды, имела дело с химическими растворами (опять эта химия!) и, конечно же, не смогла сохранить руки бывшей пианистки такими ухоженными, как прежде. И все равно они были красивы, в них чувствовалась порода, в них было природное изящество, которое невозможно вытравить никакой тяжелой работой.
– Ты давно дома? – тихо спросила Наташа, чтобы прервать затянувшуюся паузу, во время которой они обе, кажется, думали об одном и том же.
– Давно, – спокойно ответила мать, аккуратно высвобождая руку из ладоней дочери. – У меня сегодня была утренняя смена. Посмотри, сколько я успела сделать к твоему приходу. По-моему, вышло чудесно…
И девушка, забыв об еще не утоленном до конца голоде, рванулась в комнату, где на большом столе в живописном беспорядке были развалены лоскуты светлой ткани, тесьма, кружева, над которыми гордо возвышалась старенькая швейная машинка. Мама уже несколько недель колдовала над своим свадебным платьем, пытаясь превратить его в выпускной наряд для дочери, и, кажется, преуспела в этом: получилось действительно неплохо…
Наташа знала, что вряд ли произведет фурор среди одноклассников, появившись на балу в перешитом из старья платье. Это не было, разумеется, ни модно, ни престижно. Ее подругам выпускные наряды шились на заказ, в дорогих ателье, кому-то родители сумели купить их по чекам в «Березке», а самой обеспеченной девочке в классе платье, по слухам, даже привезли из-за границы. И все равно: то, что лежало сейчас перед ней на столе, было очень красиво! А потому она не собиралась горевать из-за того, что в семье нет денег и ей придется из-за этого выглядеть на балу скромнее и незаметнее собственных одноклассниц. «Пусть, пусть! – упрямо думала Наташа, прикидывая на себя готовое платье перед большим зеркалом их платяного шкафа. – Я не настолько глупа, чтобы переживать из-за всякой ерунды. Это платье сшила мама, и оно замечательное!»