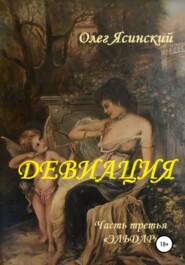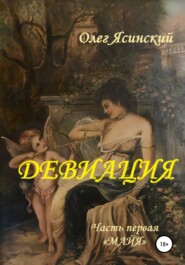По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Девиация. Часть вторая «Аня»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Табу – это НЕЛЬЗЯ. Без объяснения причин. Потому, что так нужно. Кому-то… Ты должна стать частью системы, быть гражданином, патриотом, хорошо учиться. В общем, так заведено – ИМ до всего есть дело. А личной жизни у тебя быть не может, потому, что ты ещё маленькая.
– Я что – не человек?!
– Человек, но маленький. Ты ещё не понимаешь…
– Я всё понимаю! Не надо меня считать дурочкой! Пионеры-герои в мои годы подвиги совершали, жизнь для родины не жалели – вы сами рассказывали.
– Подвиги совершать можно, и жизнью жертвовать, а дружить ПО-НАСТОЯЩЕМУ – нельзя. Такие законы.
– Глупые законы, – сказала девочка, глянула на меня с вызовом. – И вы глупый, если им верите.
Соскочила со стула, села возле меня, взяла мою руку своими ледяными.
– Ой, какой горячий! Вам лечиться надо, – защебетала. – Моя бабушка рецепты разные знала, а я в тетрадку записывала, про травки, как заваривать. Я завтра приду, возьму тетрадку…
– Не нужно завтра! А что маме скажешь?
– Мама понимает. Я рассказывала, как вы меня спасали. Она ничего плохого не ответила, только удивилась, что именно вы. Она вас знает – вы раньше к ней часто ходили.
– Я? К ней ходил?
– Ну да. К ней в библиотеку. Городскую. Она там заведующей.
– Как маму зовут?
– Аля… Алевтина Фёдоровна.
– Да, знаю… Ты её дочка?!
– Что-то не так?
– Наоборот…
1981 – 1989, Городок
Алевтину Фёдоровну, или АФ – как обозначал её в дневниках (а в Леанде называл по имени – Алевтиной), знал давно, с шестого класса, когда получил допуск во взрослую городскую библиотеку и прочитал «Рассказ о любви» Рэя Брэдбери. Мне тогда тринадцатый шёл.
Похожа на Аню – маленькая, хрупкая. «Предпервая Муза» – как называл её в дневниках последующих – объект отроческих желаний, где главным фетишом служили книги и всё, с ними связанное: оттопыренный вырез кофточки, в котором открывалась бретелька лифчика, когда Алевтина каллиграфическим почерком заполняла формуляр; её ноги, когда наклонялась к нижней полке, чтобы достать книгу; и я, заворожёно следящий, как поднимается край юбки, открывает углубление с обратной стороны колена.
В предсонных выдумках я не раз подходил, дотрагивался до того углубления, а потом осторожно, медленно запускал руку выше. Затем рифмовал эти стыдные желания, возбуждаясь до поллюций, заучивал наизусть и рвал, потому что показать никому не мог.
Я представлял, как попрошу разрешить мне дотронуться, хоть через одежду (и она разрешит!), но конечно, этого не делал. Зато она сама, чувствуя мои тайные желания, порой подходила ко мне, читающему за столом в отведённом уголке библиотеки, наклонялась, приобнимала за плечи, спрашивала, нравиться ли книга, или ещё что-то, и я впитывал её запах, лёгкое дыхание на своих волосах, угадывал плечами близость маленьких округлостей под тоненьким свитерком.
Однажды, будто ненароком, я прижался плечом к её грудям. Алевтина не сразу отстранилась, даже поцеловала меня в макушку. Последнее я для себя выдумал, а возможно, так было наяву.
Вычислив обусловленность подходов библиотекарши с моими уединениями, намеренно шёл в угол читального зала, садился, раскрывал книгу и спиной ждал приглушенного ковровой дорожкой цокота каблучков. Порой не дожидался. Но если посетители расходились, у нас начиналось тайное свидание (я так считал!). Не знаю, что думала при этом Алевтина – я тогда о книгах не думал.
Порой она садилась возле меня на соседний стул, и я мог украдкой разглядывать её колени, похожие на детское лицо с чёлкой, щёчками, ямочками для глаз и подбородка. Я очень хотел к ним дотронуться наяву и даже гладил в стыдных мечтах. Я всегда любил зиму, уютную для чтения, но в ту пору её разлюбил, поскольку Алевтина прятала коленки под тёплые колготы, сквозь которые личико не проступало.
Разлучаемые редкими посетителями, мы обсуждали писателей и мои стихи «для всех», которые я читал Алевтине. Она внимательно слушала, порою делала замечания, но больше восторгалась и говорила о великом будущем, если займусь поэзией.
Большая часть тогдашних стихов были тайными признаниями в любви, но Алевтина, как мудрая женщина, лишь улыбалась, не отвечала на признания странного мальчика, и дарила в дни рождений редкие поэтические сборники, подписанные лимериками. Я их вычитывал по буковкам, ища в бессмыслице сокрытый смысл. И находил. Но не более того: мне было тринадцать, ей – двадцать восемь.
Зато книжные новинки оставались безраздельно моими. Я допускался до распаковки бандеролей с новыми поступлениями и единолично овладевал нетронутыми страницами, пользуясь правом первого перелистывания.
Тогда, в благословенном начале восьмидесятых, я мечтал жениться на Алевтине, лишь бы подождала, пока закончу школу. Мне было совершенно безразлично, что она старше меня на пятнадцать лет и замужем.
Длился мой тайный роман, названный в дневниках «Библиотечным», четыре отроческих года, до «первой любви» в шестнадцать. После знакомства с Зиной я продолжал ходить в библиотеку, но реже – книги уступили место вздохам на скамейке, стихи поменяли адресата, как и предсонные фантазии.
Алевтина Фёдоровна поняла мои поредевшие визиты. Мы общались во время заполнения карточек, обсуждали новинки, доступ к которым у меня остался, но она чувствовала перемену, не расспрашивала.
Затем была армейская служба, которая напрочь выветрила детские стыдные мечты. По возвращению домой о библиотеке не вспомнил – столько книг в продаже появилось. Былая властительница мальчишеских грёз растворилась в счастливом прошлом. Всё проходит.
Однако возвращается самым неожиданным образом.
21 октября 1989, Городок
– … если поместить зубчик чеснока за щёку и не разжевывать, то можно выздороветь за час, – лепетала Аня, не обращая внимания на моё отсутствие, – а густой отвар плодов сушеной черники хорошо использовать при ангине для полоскания горла.
– Она меня помнит?
– Что? – не поняла Аня.
– Алевтина Фёдоровна меня помнит?
– Конечно! Говорила, что вы были самым лучшим её читателем. Вас даже грамотой общества книголюбов наградили.
– Наградили… Как она?
– Мама?
– Да.
– Никак. Вернее – всё так же: работает в библиотеке, нас воспитывает.
– Вас двое – ты и Сашка?
– Уже трое: два года как Галя родилась.
– И она ничего не говорила, когда узнала о вчерашнем вечере?
– Ничего плохого. Лишь улыбалась и головой качала, – утешала девочка. – Не переживайте, она на вас нисколечки не обиделась. Только расспрашивала, какой вы стали. И отпустила свитер занести. Так что вы не бойтесь: если мы подружимся – мама ругать не станет.
– Это она сказала?
– Ми ещё об этом не говорили… Я же не знала, согласитесь ли вы. Но чувствую – запрещать не станет. Вы согласны?
Ничего не ответил – что я могу ответить? Страшный грех обидеть эту женщину, обидеть её дочку. Гораздо страшнее, чем нарушить лицемерные законы, придуманные людьми.