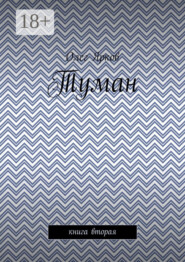По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Туман. Книга третья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Убил. Вернее, думал, что убил.
– Как это?
– Случилась во мне решительность положить конец тому, что творилось в Логе. И пришла в час ставшего обыденным ночного бдения за Мишуткой в кузне. Найти и принести сухого сена, было делом простым. А когда огонь стал разгораться, я подпёр дверь бревном. Опосля отошёл в сторонку и стал глядеть. Кузня занялась скоро, однако горела она странно. В серёдку огонь не попадал вовсе, а только дым. Да…. Кричал он, шибко кричал, но как-то не понятно. На подмогу никого не звал, да и крик был без понятных слов. А голос был не его….
– Вам померещился ещё чей-то голос?
– Нет, голос был от одного человека, вот походил он на… рёв быка, что ли, только со странными звуками. Нет, люди так кричать не сподобятся. Да…. Когда пламя унялось, увидал я, что, почитай, все, кого горе коснулось, стояли невдалеке, и молчком глазели на пожар. И тушить никто не шёл. А из облагодетельствованных не явился никто.
– Странно, право слово странно.
– Странным вышло иное. Когда уж занялся рассвет, и удалось разглядеть то, что было в серёдке кузни… никто не поверил своим глазам. На маленьком табурете, у самого верстака, сидел старик. В рваном рубище, со спутанными волосами… и бездыханный. Видать по всему, что он задохся от угара, а огонь его так и не тронул.
– А малец, малец-то, куда запропастился? И узнали ли вы того старца?
– Куда он подевался – не ведаю по сей день. Да, что я-то? Говорил уж, что и односельцы собрались на зарево пожарное поглазеть. Они, как и я, не увидали, чтобы Мишутка-то из кузни сбечь смог. Окрест горевшего проклятого места светло было. И крик из кузни они тож слыхали. А старик… то был, вестимо, не из нашенских. Никто из односельцев его припомнить не смог. По правде сказать, глядели его одни только наши мужики. А бабы забоялись не то, что поглядеть, а и близко к кузне подойти. Разве только… нет, ничего.
– Никифор Авдеевич, вы это прекратите! Уж начавши говорить, не обрывайтесь на недосказанность! «Разве только» что?
– Как пожелаете, скажу. Один из Мишуткиных одногодков Стёпка, подьячего Макара сын сказывал, будто заприметил он у Мишутки пятно на руке, малость ниже локтя и формы такой… странной, словно голова человеческая, только не прямо, а, вроде, сбоку. И лоб видать, и нос, и уста, и… да что мальца-то слушать? Сорванец, одно слово.
– Вас постоянно предупреждать надобно, что говорить следует всё, как есть?
– Сказывал, что окромя лица, возможно было разглядеть и рог. Но не ото лба, а от темени. Сказывал, будто готов повторить то под присягой хоть и перед самим царём. Вот… и такое же пятно оказалось на руке старца.
Никифор Авдеевич хотел уж на себе, не предумышленно, разумеется, показать место, на коем и у мальца, и у старца были однообразные пятна. Да вовремя спохватился.
– И мать Мишуткина, вдовица Ольга, тож про пятно удивление высказала. Не было, говорит, ничегошеньки на ём. А Стёпка… да, что с мальца взять-то?
– Про пятно понятно. А мать его, Ольга, как погибель сына перенесла? Поди, сильно горевала?
– Я перед ней не стал таиться, и поведал ей правду про сотворённое мной прошлой ночью. Она же мне ответила, что чего не то похожего и ожидала, хоть и явно не желала. И ещё сказала, что устала она от такого сына, устала людей сторониться, да реветь ночами. Коли ея сын таковых бед наворотил промеж людей, с которыми бок о бок свои годки прожил, так и не сын он ей боле. Меня она не виноватит, да и греха не стыдится, признаваясь в том, что угомонить Мишутку надобно было ранее. Такие дела.
– Да-а-а…, – только и выдавил из себя Кирилла Антонович. А вослед добавил, – а как же жандармы? Ведь было натуральное смертоубийство? Как же вы не под арестом? Сбежали?
– На сей счёт можете быть спокойными. В то утро, когда сгорела кузня, я собрал всех, кто ещё оставался в Логе, и крепко накрепко велел запомнить такое – когда прибудут жандармы для розыскного дела, все и каждый, под страхом суда Божия и моей личной кары, говорить обязаны только то, что видали, либо знают самолично. Никаких придумок, и никаких «соседка сказывала». Говорить надобно только правду. Так и случилось. Убивец Мишутки – я, а убиенного нету. Кузня опалилась до пеплу, а серёдка годна для жандармского следствия. Есть старец, но никому не ведом. Да и свидетелей тому, что это я кузню поджёг, нету. В том я признался сам. Начальство голову почесало, да и оставило меня дома, взяв слово, что явиться должон по первому вызову. И явлюсь, скрывать мне нечего.
– Так старца схоронили у вас, в Логе? – Отметился вопросом Модест Павлович.
– А книга-то где? Нашли?
– Старца увезли жандармы. Они не смогли распрямить его. Тело, навроде, как и мягкое, а из сидячей позы в лёжку не распрямляется. Так и погрузили его на подводу. Попонкой старенькой прикрыли, и увезли. Книгу не отыскали ни мы, с односельцами, ни жандармы. Сказывают, будто листы в той книге не бумажные, и не пергаментные, а из человечьей кожи, прости, Господи!
– Очень интересная история, очень! Поучительная, трогательная и драматическая одночасно. Но вы, Никифор Авдеевич, к нам прибыли не для рассказа о нашем Логе, верно? Рассказанное вами имеет продолжение? И каково оно?
– А продолжение таково. Думается мне, что уездное, либо губернское начальство доложилось в столицу. Кому доложилось – не ведаю, а только на пятый день прибыл к нам, самолично, господин Толмачёв. Тогда он мне о поведал о вас. Сказывал, что есть у него два товарища, могущих уразуметь сие дело, да и помощь оказать. Вот я и прибыл.
– Да, уж, способных уразуметь, – откинувшись на спинку плетёного кресла, протянул Кирилла Антонович. – Ну, что же….
– Постойте, постойте, – подался вперёд Модест Павлович, а лицо его приняло такой вид, каковой бывал у него в минуты трудного военного боя. – Как это – уразуметь? Малец – да Бог с ним! То ли угорел, то ли убёг, то ли состарился. Той страшной Библии нет. Односельцы ваши перемирятся, да и заживут лучше прежнего! Какое такое дело нам надо уразуметь, коли у вас всё налаживается жизнь? Что стряслось такого, что по финалу вашей драмы вы предприняли поездку в Тамбов? Ну-ка, выкладывайте без утайки!
Кирилла Антонович встрепенулся на слова друга, и принялся бранить себя. Разумеется, мысленно. Как же он так ловко попал на подобную льстивую приманку? Возомнил о себе! А вот Модест Павлович – молодцом! Эк он ухватил то звено в повествовании, которого так недоставало до полноты картины! Он-то ухватил, а я? Надобно внимательность воспитывать в себе, непременно надобно воспитывать!
А в голос молвил иное.
– Да, милейший, не сходятся концы с концами. Как говаривает Циклида – два сапога пара, да на левую ногу надеты, – не совсем к месту закончил свою реплику помещик. Для правды сказать, ничего подобного кухарка никогда не говорила, а сказано подобное было с таковой целью – уж коли ты приехал к помещику, который способен «уразуметь» такое сложное дело, так и кухарка у него многому обучена, не лыком шита. Вот такое, или что-то подобное, имел за цель помещик, говоря вышеупомянутое.
– Очень прав оказался господин Толмачёв, говоря такие слова про вас. Всё вы ухватили верно. На третий день, опосля его прибытия, из Устюга Великого пришла весть, которая не стала доброй. Нечто подобное стряслось в посёлке Путятинском, нечто, схожее с нашей бедой. Ихнего мальца кличут Васькой, а в остальном полная похожесть. Человек, который доставил новость, краешком упомянул и о пятне на руке ихнего мальца, тож малость пониже локтя.
И сызнова Никифор Авдеевич вознамерился указать на своей собственной руке местоположение пятна, и сызнова, спохватившись, не стал того делать.
– Господин Толмачёв велел приехать к вам и всё в деталях изложить.
– И?
– И в том разе, коли у вас к тому случится охота, поехать со мною в Лог. А там уж господин Толмачёв вас встретит. На сей раз я всё вам поведал. Без утайки.
– Да-а-а, – вторично за этот день протянул Кирилла Антонович. Он уж вознамерился добавить что-то ещё, приличествующее моменту, но не смог. Со стороны дороги послышался вопль первобытного охотника. Этот вопль нарастал, пока резко не оборвался прямо за домом. А малость погодя, из-за угла веранды появился Прошка, степенно вышагивая, словно старая цапля.
Не спросясь (он и раньше ничем подобным себя не обременял), мальчишка поднялся по ступенькам и протянул Кирилле Антоновичу конверт. Решив, что для полноты созданной им картины, не достаёт ещё одного, но весьма весомого мазка, он произнёс со всей серьёзностью, на какую только было способно это белобрысое существо.
– Доставлена почта. Извольте отыметь!
Первой рассмеялась Циклида, вышедшая на веранду услыхавши вопль родного дитяти. По её щекам потекли слёзы, но остановиться она не могла.
К её веселью присоединились и друзья. Только Никифор Авдеевич, впервые за всё время сидения за столом, позволил себе улыбнуться. При том, он показал, что под былой суровостью сокрыто довольно приятное лицо.
– Послушай, Прохор, Владимиров сын, это я могу иметь радость, горе и всё остальное в таком же духе. А что касается предметов то, передавая их, говорят «получить». Понятно? Ладно, спасибо тебе. Ступай уж, камердинер.
А что? Прошке понравилась бы любая реакция на его поведение. А эта, со смехом, чем она была хуже остальных?
И в удовлетворении от произведённого впечатления он, глубокомысленно произнеся «Завсегда пожалуйте», удалился с высоко поднятой головой. Не преминув споткнуться на предпоследней ступеньке. Чем и вызвал новый смех.
– Что тут у нас? О! Смотрите, Модест Павлович, как всё кстати! Это от господина Толмачёва. И что же он пишет?
Кирилла Антонович принялся читать вслух. Но оказалось, что в письме описывались события, известные друзьям от их гостя. Поэтому помещик перешёл на молчаливое чтение.
Окончание последнего, третьего, листа, было прочитано с иным, более строгим выражением на лице.
– Циклида! А, ты тут…. Будь добра, подай нам ещё винца. А гостю завари… сама знаешь чего. Модест Павлович, ознакомьтесь с письмом. Особливо с финалом.
Штаб-ротмистр глазами отыскал нужное место. Прочёл, поглядел на Кириллу Антоновича, и прочёл сызнова.
А в письме было вот что:
«По приезде моём в Великий Устюг, я навёл нужные справки о Путятине. Это посёлок в двух верстах от уезда. А уж на следующий день моего пребывания в этом поселении, это было вчера, кто-то похитил все мои деньги, важные бумаги и мой револьвер. И, к тому же, изрезал всё моё сменное платье. Уж не Васькины ли то проделки? Пребывая тут, начинаешь верить в то, что ранее представлялось жульнической мистификацией.
А посему, милостивые государи, имею уведомить вас об том, что переданную через Никифора Авдеева Зарецкого просьбу прибыть сюда – аннулирую, за полнейшей ненадобностию. Извольте сие принять, как приказ, недопустимый к ослушанию.»