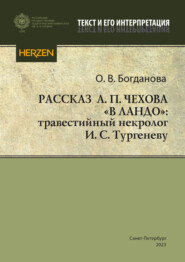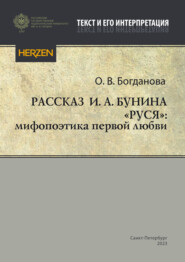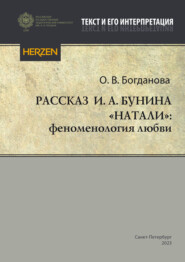По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Эпох скрещенье… Русская проза второй половины ХХ – начала ХХI в.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сражаться за своего героя создателям «деревенской прозы» приходилось на два фронта: с литературно – критическим официозом и с тогдашними либералами. Либералы отказывали во внимании мужику по двум причинам. Первая из них проявлена в дневниковой записи Ф. Абрамова, зафиксировавшей взволновавшее темпераментного литератора высказывание товарища, однокашника, впоследствии известнейшего ленинградского – петербургского культуролога: «В основе всего у Микки – эгоизм, чудовищный эгоизм <…> Мерзавец, даже возмущался, что у нас слишком много пишут о деревне, о мужике. "Не так – то уж они плохо живут, как расписывают разные сочувствователи"»[36 - Коняев Н. Житие Федора Абрамова // Двина. 2010. № 1. С. 7.]. Вторая со всей очевидностью проявилась во время дискуссии о влиянии века науки и техники на человека, которую осенью 1959 года провела «Комсомольская правда». Понятно, что противостояние такого рода было значительнее серьезнее, чем публичные выступления против наскучивших к тому времени почти всем своими унылыми нотациями ортодоксов соцреализма.
Правда, в 1972 году увидит свет знаменитое ироничное посвящение Ю. Даниэля организаторам «бескровных боев» «либералам», «сибаритам», «кипевшим, как боржом»:
И мы, шипя, ползли под лавки,
Плюясь, гнусавили псалмы,
Дерьмо на розовой подкладке —
Герои, либералы, мы!
И вновь тоскуем по России
Пастеризованной тоской,
О, либералы – паразиты
На гноище беды людской[37 - Даниэль Ю. Либералам // Строфы века. Антология русской поэзии. Минск – М.: Полифакт, 1995. С. 701.].
Десятки лет потребовались для того, чтобы отраженные в стихотворении Даниэля смыслы оказались востребованными общественным сознанием, чтобы голос «вагнеровско – ницшеанско – ибсеновской эпохи» (определение С. Аверинцева), предложившей человечеству рационалистические ценности, романтику дорог и поэзию «всемирного» чувства, перестал звучать как единственно возвышающий человека и человечество, чтобы принципиальная новизна выведенного «деревенщиками» на авансцену русской прозы героя, сложного, неоднозначного, противоречивого, но сохраняющего национальные духовно – нравственные, этические и эстетические представления человека – труженика была осознана в полной мере.
В 1980 – е годы самыми ярыми разоблачителями «деревенщиков» стали бывшие лидеры «молодежной прозы». В опубликованном эпистолярном диалоге А. Борщаговского и В. Курбатова приведены воспоминания о том, как В. Аксенов пытался объявить «деревенщиков» «опорой режима» в литературе. Правда, хорошо знающий ситуацию и честный А. Борщаговский замечает, что намерение это объясняется двумя обстоятельствами. Первое из них – «Аксенову в высшей степени безразличен сам народ, а особенно деревенский, он еще мог когда – то увлечься экзотикой, какой – нибудь эксцентричной фигурой бородатого сторожа, но проникнуться драмой стомиллионной деревни не мог никогда <…>. И тут еще другое – "им почти все позволено", "их печатают", "к ним милостива цензура и комитет по госпремиям", – значит, они нужны начальству, они – любимые дети, а он, Аксенов, гений, но в пасынках»[38 - Борщаговский А., Курбатов В. Уходящие острова. Эпистолярные беседы в контексте времени и судьбы. Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. С. 227.].
Сейчас уже позади хула новых «неистовых ревнителей» (метафора С. И. Шешукова), бушевавших в начале столетия. Современное литературоведение вспомнило, как легко, естественно и свободно «деревенская проза» перешагнула в 1970 – е проблемно – тематические границы, в результате у В. Астафьева появилась великая повесть «Пастух и пастушка», у В. Распутина – сложнейший по транслируемым философским смыслам текст «Живи и помни». Теперь понятно, что по характеру обращенности к вечной, общечеловеческой проблематике с «деревенщиками» могли соперничать только создатели новой прозы о Великой Отечественной войне. Понятно, что вершинные явления, презентующие этот историко – литературный феномен, вполне соотносимы с высокой классикой, и не только отечественной. В 1996 году на конференции в австралийском городе Канберра известный канадский филолог, накануне впервые прочитавший повесть В. Г. Распутина «Живи и помни», с восторгом сравнивал его с А. Камю.
И пусть до сих пор литературоведение при анализе феноменальности «деревенской прозы», часто ограничивается терминологическим обновлением описательных аналитических методик. Но в одном из гламурных журналов, например, во время недавнего празднования девяностолетнего юбилея Фёдора Абрамова появилась статья В. Новодворской, в которой есть такой фрагмент: «Один маленький предел нашего Храма оформлен под часовенку. Скромную беленую белоснежную часовенку с милой черной головкой. В духе Покрова на Нерли, суздальских и новгородских храмов. ХII век. Ни украшений, ни позолоты. Смирение, молитвенно сложенные руки, склоненная русая голова. Истовая, не показная вера, усердие в тяжком труде, более чем скромное воздаяние за труды, совесть. Тихие свечки на скудной северной траве… Это писатели – деревенщики, это их негромкий и неяркий до горечи мир. От праведника Федора Абрамова до полудиссидента Владимира Тендрякова, от юродивого и блаженного Василия Шукшина до яростного Виктора Астафьева.
Писатели – деревенщики – это вовсе не сельская пастораль. И они лаптем щи не хлебали, все были честными народниками, стихийными земскими подвижниками»[39 - Новодворская В. Семейный портрет в интерьере // Медведь. 2010. № 3. С. 79.]. В этой развернутой, возможно, излишне сентиментальной метафоре, естественно, есть неточности. Но ее появление можно рассматривать как проявление перемен в общественном сознании, меняющегося отношения к одному из сложнейших фактов в истории советской литературы.
Наступило время, когда неповторимость «деревенской прозы» должна мотивироваться уникальностью художественной философии, созданной картины мира, выражающейся в его неподчиненности символам и образам филологической науки, агрессивно претендующей примерно с середины двадцатого века на некую универсальность. Так, «деревенщики» абсолютно бесспорно отменяют «чесоточно» (выражение С. Небольсина) искомый в любом более или менее значительном литературном явлении образ карнавала, раскрепостительной силе которого они явно предпочитают праздничность и объединительную силу хоровода. Эта мысль впервые прозвучала в статье С. Небольсина, посвященной учению М. М. Бахтина о слове, культуре и искусстве[40 - Небольсин С. Карнавал или хоровод? // Литературная газета. 2004. 4 – 10 августа. № 31. С. 13.]. Именно эта идея подспудно присутствовала в давней статье Г. Цветова о «цирковых» мотивах в поздних произведениях Распутина и рассказах Шукшина. Художественным аргументом в пользу литературоведческих наблюдений С. Небольсина и литературно – критических наблюдений Г. Цветова можно считать строчки А. Ахматовой из «Поэмы без героя» об иссушавшем душу Серебряного века «вое» «адской арлекинады».
Видимо, историки литературы и специалисты по стилистике художественного текста должны будут осмыслить специфику текстовой репрезентации категории авторства, которая обусловлена тем, что именно «деревенская проза» стала единственной реализацией полноценного права русского крестьянина на высокое литературное самовыражение. Причем, первое образованное поколение крестьянских детей использовало отнюдь не для настойчивого напоминания о себе, даже не для собственной социальной реабилитации. Смехотворны утверждения об их закомплексованности. Ко времени возникновения «деревенской прозы» было забыто даже давнее презрительное отношение Л. Троцкого к «мужиковствующим» писателям. В резюмирующем по семантике знаменитом вопросе «Что с нами происходит?», сформулированном Шукшиным, в шукшинском «мы», «с нами» проявление принципиально новой позиций писателя по отношения к своему читателю, по отношению к адресату. Здесь есть отдаленное напоминание о древнем культурном зрелище, в котором не разделялись «производители» и «потребители» действа, ибо они сопереживали происходящее вместе. К такому сопереживанию внутренне, генетически, по присутствию родовой памяти были готовы авторы «деревенской прозы», возможно именно поэтому они получили от читателя огромный кредит доверия и право на самую жесткую и жестокую, самую горькую правду о России.
Правда, академическая теория литературы вплоть до начала нового столетия все – таки ограничивалась формально – тематическим подходом к одному из наиболее значительных историко – литературных явлений ХХ века, игнорируя всю сложность процесса перехода жизненного материала в художественное произведение, ограничивается главой «Крестьянский реализм» в новой четырехтомной теории литературы, подготовленной ИМЛИ РАН[41 - Теория литературы. Т. VI. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН. 2001. С. 18–420.]. Возможно, этот раздел можно воспринимать как своеобразное подведение черты под определенным этапом литературно – критического, литературно – исследовательского процесса, на котором новаторство «деревенской прозы» резюмирующе опять же сводится к созданию нового героя, неповторимость, исключительность, особость которого ограничивается социальными характеристиками («люмпен – крестьянин»).
Изменения в эволюции общественного сознания, обозначившиеся в последние годы, позволяют надеяться на актуализацию читательского и исследовательского интереса к тем явлениям нашей литературной жизни, которые свидетельствуют о неистребимости национальной традиции, о непрерывности истории и национального бытия, дают материал для постижения сложнейшей семантической и ассоциативной структуры констант русской и российской культуры, следовательно, провоцируют интерес к «деревенской прозе», феноменальность и особая ценность которой определяется, в первую очередь, институциональной верностью идее преемственности, отнюдь не рациональным стремлением к репрезентации в художественных текстах философии традиционализма или какими – то иными отрефлексированными программными установками. Прошедших десятилетий не хватило, чтобы в полной мере осмыслить неоднородность, глубину и сложность, эволюционность, особую укорененность в историко – литературном процессе литературного явления, обозначенного многострадальным термином «деревенская проза».
Глава 2. Прозаики – «деревенщики» в постижении смысла национального бытия
Социальный пафос литературных опытов В. М. Шукшина
В самом начале века нынешнего в большой моде были разного рода анкеты, авторы которых пытались найти основания для нового «табеля о рангах» – ранжира для писателей только что завершившегося в муках столетия. Претендентов на звание классиков было много, но чаще других упоминалось имя Василия Шукшина (1929–1974). А почти два десятилетия спустя участники Шукшинского «круглого стола» в рамках Петербургского международного культурного форума, уже безоговорочно признавая лидерство прозаика, это признание мотивировали: Шукшин – феноменальная природная одарённость; самоотверженная любовь к родному; неповторимая духовная свобода самоопределения; острейшее, трагическое переживание кризиса всех систем – государства, общества, семьи, культуры – переживание, к которому мировая культура в наиболее значительных своих проявлениях и образцах только приближается; наконец, неповторимая поэтика простоты, совмещенная с непостижимой глубиной понимания человека, открывающейся со временем[42 - Цветова Н. С. Василий Шукшин – актуальный классик? // Филологический класс. 2020. Т. 25. № 1. С. 214–219.].
Алгоритмы декодирования шукшинских текстов за прошедшие десятилетия изменились: открывалось шукшиноведение попытками постижения социально – исторического пафоса текстов писателя, сегодня в научном дискурсе наибольшее внимание привлекают работы знатоков постмодерных литературных техник. С освоения, постижения Шукшина как носителя нового типа сознания, творческого и индивидуального, может начаться иная эпоха нашей общей жизни – эпоха возвращения к исконным значениям русских слов, эпоха возвращения в сферу индивидуальной и общественной рефлексии огромного опыта национальной исторической жизни, эпоха экзистенциального переживания нашего природного пространства, осмысления тех коммуникативных матриц, на которых создавалась наша культура во всех ее проявлениях. Сегодня, наверное, подавляющему большинству ясно, Шукшин – самый глубокий исследователь русской (российской) цивилизации как особого «типа организации общества и культуры» (Н. Я. Данилевский, Ю. С. Степанов), художник, которому удалось выявить компоненты повседневности, контролируемые сакральной сферой, если использовать терминологию В. Н. Топорова, «предфилософией», «предисторией», «предправом», интуитивным, «эстетическим» православием, невыводимым за пределы национальной культуры.
Тут я могу опереться на собственный читательский опыт. Десять лет назад была опубликована статья «Василий Шукшин. Опыт социального моделирования»[43 - Цветова Н. С. Василий Шукшин: опыт «социального моделирования» //Шукшинский вестник. Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. С. 214–221.]. В статье речь шла об умопостроениях главного героя одного из наиболее сложных шукшинских рассказов, провинциального Спинозы Николая Николаевича Князева. Деревенский философ мучился над идеями, генетически близкими классической теории «идеального государства» в том ее виде, в каком она начала складываться еще во времена Платона, включающими основные компоненты классической европейской «Нигдейи» и т. п. Но тогда открывалась только часть транслируемых писателем смыслов.
Нынешнее время персонализировало проблему власти – с особой остротой поставило на повестку дня проблему истинного предназначения «государевых людей», от которых сегодня требуют, как сказал социолог В. Потуремский, выполнения сервисной функции. Эпоха провозгласила своим открытием проблему отбора тех персон, которым будет вручена судьба Отечества и народа, предложила определить качества, позволяющие пробиться во власть (не будем останавливаться на содержании конкурсов для управленцев нового типа). Шукшин зазвучал по – новому. И сегодняшним мыслителям все еще далеко до писателя, который десятилетия назад трансформировал сегодняшние вопросы в проблему цивилизационного ресурса, которая организует сложнейший дискурс власти.
В творчестве Шукшина этот дискурс получил сложнейшую персонализацию. Верхняя часть огромного айсберга – чудики Князевы, маленькие люди, выполняющие функции больших. Кстати говоря, персонажи этого типа – напоминание о давних временах, когда даже крестьяне могли выступать со своим толкованием Соборного уложения (1649), петровского законодательства. Князевым противостоит властная элита – управленцы, «аппаратная власть» «крепкие мужики» (от городского главного инженера в рассказе «Два письма» до совхозного бригадира), которые с невероятных вдохновением и напором способны выполнять команды на разрушение, главный их ресурс – администрирование. Это те, кто у Шукшина поименован как «идолы лупоглазые». К ним пытаются примкнуть продавщица из рассказа «Обида», страшная больничная привратница из «Кляузы». А за ними те, кому доверено осуществлять надзор над государственной властью, за управленцами прежде всего – не случайно в произведениях несколько прокуроров (обидчик Веньки Малышева из рассказа «Мой зять украл машину дров», женщина – прокурор в «Калине красной»).
Шукшин обращает внимание и на то, что в новой форме, в новых вариантах, но все же сохраняется власть авторитета, базирующаяся на разных качествах и способностях человека. На такую власть претендуют парадно именовавшиеся в советскую эпоху «народной» интеллигенцией интеллектуалы и художники (от совхозного счетовода Синельникова – «средней жирности человека» из рассказа «Ноль – ноль целых» до известного писателя из «Мастера»). Особый представитель этой группы Глеб Капустин.
Может быть, самое печальное, что в ряду властителей оказался Губошлеп, стремившийся уничтожить волю Егора Прокудина, разорвать его связи с миром просветления; «энергичные люди» – созидатели и легитимизаторы новых принципов социального доминирования. Если приглядеться, то в этом персонажном ряду отражается смысловая структура концепта «власть», описанная в соответствующей словарной статье В. И. Далем. Что такое власть? По Далю, это «право, сила, воля…»[44 - Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. М.: Госиздат, 1955. С. 213.] Что значит властвовать? Современный толковый словарь: «оказывать воздействие, подчинять своему влиянию, распоряжаться, управлять кем – либо»[45 - Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С А. Кузнецов. СПб: Норинт, 2001. С. 81.].
Естественно, кульминационным этапом художественного освоения темы власти принято считать роман «Я пришел дать вам волю», созданный для проверки идеальной для национального самосознания модели государства как «орудия народной воли» (Ф. Энгельс), по сути славянофильской концепции власти, в соответствии с которой жизнь должна строиться на началах выше правовых – на доверии и любви к свободе. По прочтении романа становится ясно, что Шукшин был знаком и с анархической доктриной П. А. Кропоткина, и с евразийским вариантом идеи соборности.