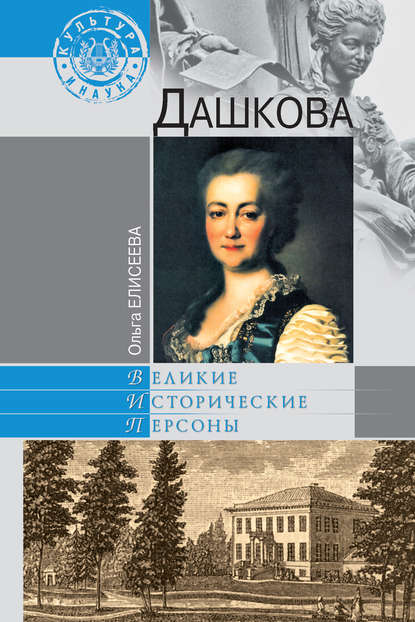По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дашкова
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Воронцов прискакал в свой полк. Преображенцы уже выстроились перед казармами и готовились выступать. Возле своей роты он встретил несколько офицеров, среди которых были Бредихин, Баскаков и князь Федор Барятинский. «Я… высказываю им о поступке мятежников все, что крайняя раздражительность моего характера внушает мне в эту минуту, при чем выражаю уверенность, что они, и вместе с ними весь наш полк, мы подадим пример верности прочим войскам». Трое заговорщиков ничего не ответили ему, «бледные, расстроенные».
«Я принял их только за трусов… Отвернувшись от них, я поспешил обнять моего капитана, Петра Ивановича Измайлова, одного из храбрейших и вернейших слуг нашего несчастного государя… Он надеялся, так же как и я, что полк не увлечется». Вместе они начали обходить ряды гренадер, увещевая тех, «что лучше умереть честно, верным подданным воином, чем присоединиться к изменникам, которые будут побеждены». Им навстречу проскакал секунд-майор Петр Петрович Воейков, восклицая: «Ребята, не забывайте вашу присягу!» Вместе они склонили гренадер на сторону императора, и те даже закричали: «Умрем за него!»
Воейков повел солдат к Казанскому собору, чтобы воспротивиться приносимой там присяге. «Мы надеялись… что, по первом выстреле на нас со стороны мятежников… ударим на них в штыки всей тяжестью нашей колонны, сомнем их и уничтожим: ибо они толпились в расстройстве, без рядов и линий, как мужики, собранные случайно и большей частью в пьяном виде; мы же были в стройном порядке».
Если бы преображенцы послушались офицеров, приверженцев Петра III, произошло бы кровопролитие. Но, на счастье заговорщиков, сзади к колонне гренадер присоединился премьер-майор князь А.А. Меншиков и крикнул им в спины: «Vivat императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот призыв. «Это было электрическим ударом». Воейков бросил шпагу со словами: «Ступайте к черту, канальи, е. м., изменники! Я с вами не буду!» – повернул лошадь и ускакал. «Я не знаю, как и почему случилось, что нас не убили», – признавал Воронцов. Он кинулся к реке искать лодку, чтобы плыть в Ораниенбаум, предупредить императора, но был схвачен. «Я вынул шпагу из ножен, обернулся и нанес удар, который скользнул по шляпе и по плечу моего дерзкого противника… Меня окружили и задержали». Схваченных офицеров преображенцы притащили к собору в числе других арестованных, как доказательство своей преданности новой самодержице. Об этом позоре Семен Романович умолчал.
Затем пленных посадили на гауптвахту Зимнего дворца. «Я не упал духом и начал говорить унтер-офицеру и шести мушкетерам, как человек, уверенный в том, что их предприятие окончится дурно, и что законный государь останется победителем». Но эта агитация не удалась, и арестанта перевели в дом дворцового ведомства «напротив старого деревянного дворца». Семен оставался под арестом 11 дней и был выпущен только 8 июля, спустя несколько суток «после кончины императора».
Как Екатерина Романовна не упомянула о брате, так и Семен Романович не назвал имени сестры. С «ужасного и мерзостного дня» их отношения были испорчены. Почему Дашкова не попросила за младшего брата – в сущности, еще мальчишку? Забыла? Закрутилась в вихре событий? Не захотела выслушивать упреки? «Прибывши в наш дом, – заключал Воронцов, – я нашел в нем множество солдат, ибо мой отец и моя сестра [Елизавета] были тоже арестованы»[267 - Воронцов С.Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1. № 1. С. 34–38.].
Мундир
Дашкова не поехала навстречу императрице под веским дамским предлогом – неготовности мужского платья, в котором юная мятежница хотела явиться среди повстанцев. Этот незначительный эпизод проводит четкую грань между реальными заговорщиками и теми, кто играл в заговор. Наверное, пыльный и усталый Алексей Орлов, полночи скакавший туда и обратно по Петергофской дороге, выглядел не слишком привлекательно.
Сама Екатерина поднялась в шесть часов утра с постели, «даже не сделав толком туалет, села в карету»[268 - Понятовский С.А. Указ. соч. С. 163.]. Шаг достойный удивления. Императрица, всю жизнь так много внимания уделявшая театрализации своих жестов, в решающий момент умела отодвинуть второстепенное, ради важного, бутафорское, ради настоящего. Только в середине дня 28 июня, оказавшись в Летнем дворце, государыня, которой уже присягнули гвардейские полки и Сенат, сумела умыться, переодеться и причесаться как следует.
Дашкова же попала во дворец очень поздно, когда присяга уже совершилась. Курьезно, что этот приезд один из биографов княгини – А.И. Воронцов-Дашков – назвал «смелым решением» и подчеркнул, что наша героиня «рисковала жизнью»[269 - Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. М., 2010. С. 65.]. Переворот фактически совершился, и Екатерину Романовну могли разве что раздавить ликующие толпы. Княгиня едва пробилась через них, изрядно помяв платье. Однако в глазах Екатерины Романовны, даже этот эпизод стал триумфом. «Перо мое бессильно описать, как я до нее (до императрицы. – О.Е.) добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардии, окружили дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пойти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умилением, трогательными словами и провожали меня благословениями… вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»[270 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 43.].
Дамы кинулись «друг другу в объятья» со словами: «Слава Богу! Слава Богу!» И рассказали, как провели разделявшие их часы: бегство императрицы из Петергофа, тоскливое бездействие Дашковой. «Мы еще раз обнялись, и я никогда так искренно, так полно не была счастлива, как в этот момент!» Признание в любви? Прямое и пылкое. Огромный спектакль переворота сузился до одной сцены, где осталось место только для двоих. Но уже в следующую минуту декорации снова раздвинулись. Императрица нужна была всем. Подругу смывало прибойной волной царедворцев и заговорщиков.
Если обратить внимание, сколько раз за день 28 июня Дашкова переезжала из дворца домой и обратно, возвращалась к Екатерине II, напоминала о себе яркими театральными жестами, то становится ясно: княгиня нарочно старалась заполнить чем-то время. «Заметив, что императрица была украшена лентой Св. Екатерины и еще не надела Андреевской – высшего государственного отличия – … я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а ее Екатерининскую, согласно с желанием ее, положила в свой карман». Этой алой ленте, надетой на черное платье, в котором в дни траура по Елизавете Петровне петербуржцы привыкли видеть новую императрицу, вскоре суждено было сыграть важную роль.
«Государыня предложила двинуться во главе войск на Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей, – продолжает рассказ Екатерина Романовна. – …Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, у лейтенанта Пушкина»[271 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.] На эти мундиры стоит обратить внимание. Императрица облачилась в семеновский. Если бы преображенцы поспешили с присягой, она непременно предпочла бы форму первого из русских гвардейских полков. Но служивые промедлили, в том числе и благодаря стараниям брата Дашковой. Его поведение, с точки зрения княгини, не могло считаться патриотичным. И Екатерина Романовна как бы исправляет ситуацию, одеваясь в форму поручика Преображенского полка Михаила Ивановича Пушкина, близкого друга семьи. Она точно подменяет собой брата, как прежде подменяла мужа. Слабая женщина выполняет их, мужские, функции.
Самой княгине такой поступок казался едва ли не геройством. Но для традиционного сознания он был поруганием военной формы. Чин следовало заслужить. В мундире приносили присягу. Все его атрибуты от офицерского знака на шее до шпаги с темляком и трехцветного пояса-шарфа были в глазах дворянина овеяны святостью религиозного ритуала и повседневного ратного риска. Мундир не мог фигурировать на театральной сцене, также как и церковное облачение. Его, в отличие от простой мужской одежды, не использовали в маскарадах. Срывая с новых «прусских» мундиров Петра III офицерские знаки и нацепляя их на собак, участники переворота, уже облаченные в старые «елизаветинские» кафтаны, совершали осознанный акт глумления над «вражеской» формой.
Надев такой же, как у брата мундир, сестра попыталась символически занять его место среди офицеров. Этого унижения и этого издевательства щепетильный Семен не смог ей простить. В 1764 г., сожалея о смерти зятя, Семен Романович напишет, что князь Дашков не участвовал в «бешенствах и неистовствах жены своей»[272 - Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой М., 2002. С. 101.]. Публичное облачение в гвардейский мундир и ношение его, подобно маскарадному костюму, были в глазах тогдашних офицеров именно «неистовством». Перед походом на Петергоф Екатерина Романовна попросила одного из своих родственников В.С. Нарышкина, служившего в Измайловском полку, одолжить ей шляпу. Но тот отказал со словами: «Ишь, бабе вздумалось нарядиться шутихой, да давай ей еще и шляпу, а сам стой с открытой головой!»[273 - Бутурлин М.Д. Княгиня Е.Р. Дашкова // Русская старина. 1877. № 18. С. 575.]
Этот эпизод показывает, что наша героиня не понимала знаковую недопустимость собственных действий: ей все казалось, что она на маскараде, ведь офицерская шляпа Измайловского полка не могла быть надета с мундиром Преображенского. Окружающие чувствовали театральную подмену и сердились на Дашкову.
Казалось бы, подруги совершали одно и то же кощунство. Но действия одной приветствовались, а второй осуждались. Значит, имелись важные различия. Участники переворота жаждали увидеть Екатерину II в гвардейской форме – облачение в мундир означало, что государыня принимает одну из важных функций императора – командование полками. Ни о каком шутовстве речи идти не могло. Действие было сугубо сакральным. Но в отношении княгини начинал работать принцип: что позволено Юпитеру, не позволено быку Юпитера.
Объявив себя самодержицей и приняв крестное целование, а затем миропомазание, Екатерина II выпадала из круга обычных людей, становилась монархом. Отныне она не совсем принадлежала миру сему. Когда блаженная Ксения Петербургская надела форму покойного мужа, она в глазах современников начала подвиг юродства – тоже выпала из «мира». И государь, и святой стояли вне общества, над ним. Их шаги были иными по сути и оценивались иначе, чем шаги простых смертных. Дашкова же оставалась «бабой», «шутихой», а не юродивой, и не царицей. Образование в просвещенческом ключе размывало для нее строгие рамки традиции. Отсюда вытекало не просто недопонимание знаковости собственных действий, а другая знаковость. Если Дашкова смотрела на себя «с оттенком восхищения», то окружающие – с оттенком осуждения. Эти взгляды не могли быть примирены, поскольку подразумевали разные изначальные ценности.
«Я уехала домой переодеться, – вспоминала княгиня, – а по возвращении моем я застала ее [Екатерину II] в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. Так как известие о бегстве императрицы из Петергофа… уже могло дойти до Петра III, то я думала, что он двинется к Петербургу… Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, советуя принять всевозможные меры… Мое нечаянное появление в совете изумило почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня… Екатерина сказала им мое имя… Сенаторы единодушно встали со своих мест… Я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире»[274 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.].
Если бы Екатерина II нуждалась в Дашковой в момент составления манифеста, она бы ее позвала. Но, видимо, княгиня боялась, что о ней забудут, и потому постоянно вращалась возле обожаемого кумира. Цитируя сообщения о восторженных толпах, носивших юную мятежницу на руках, или о «почтенных сенаторах», как по команде вставших приветствовать Дашкову, мы хотим на время отвлечь читателя от вопроса о достоверности приведенных фактов. Важно показать, как чисто сценическими средствами Екатерина Романовна подчеркивала свое значение для переворота.
Был еще один фарсовый момент, связанный с именем княгини. «Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»[275 - Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 281.], – сообщал датский посол Андреас Шумахер. Его сведения подтверждал Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы… Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: “Мы хорошо приняли свои меры”. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы между чернию и рабами распространить весть о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»[276 - Рюльер К.К. Указ. соч. С. 83.].
Старый учитель Петра III Якоб Штелин приводил слова гусарских офицеров, обращенные 29 июня к арестованным голштинским солдатам: «Нас обманули и сказали, что император умер»[277 - Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 42.]. Казацкая свита при гробе как будто указывает на гетмана Кирилла Разумовского. Отзыв Дашковой – на ее осведомленность о фальшивых похоронах. Вельможная группировка не предполагала, что после переворота свергнутый государь останется жив. Расчет делался на быструю смерть в ходе возмущения.
Амазонки
Столица признала Екатерину II. Но оставалось еще захватить свергнутого императора и принудить его к отречению. «Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом… выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»[278 - Там же.], – писала императрица Понятовскому.
Поход на Петергоф был яркой, но уже не опасной страницей истории. Голштинские войска в десять раз уступали по численности тем полкам, которые двинулись против них. Массовое действо, красочное зрелище – этот поход концентрировал в себе все театральное, что было в перевороте. Поэтому здесь Дашкова оказалась на месте.
При чтении записок Екатерины Романовны создается впечатление, что на фоне гвардейских полков должны были явственно виднеться две женские фигуры в мундирах. «Мы сели на коней и поехали во главе двенадцатитысячного войска»[279 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.], – сказано в одной редакции. Несколько иначе эта фраза звучит в другой: «Мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели двенадцать тысяч войска»[280 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 59.]. Однако ехать во главе армии или осматривать растянувшиеся вдоль дороги полки – не одно и то же.
Если сопоставить рассказ Дашковой с другими известиями о перевороте, то привычная картина изменится. Рюльер писал о Екатерине II: «Она села верхом… и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляя войскам, как будто хочет быть их генералом… Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять вошла во дворец и обедала у окна… потом села опять на лошадь и поехала перед своею армией»[281 - Рюльер К.К. Указ. соч. С. 86.]. А Дашкова? Сопутствовала ли она Екатерине? Ехала ли с нею рядом? Сама государыня и в письме к Понятовскому, и позднее в автобиографических записках ни слова не говорит о совместном путешествии: «Я… поместилась во главе войск, и мы всю ночь продвигались к Петергофу»[282 - Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 336.].
Кажется, пары бок о бок скакавших амазонок все-таки не было. Никто не имел права затенять императрицу. Очень немногие из солдат знали Екатерину II в лицо. Для того и понадобился символ – женщина в гвардейской форме, скачущая верхом – чтобы всем стало ясно: вот государыня. Это был намек на покойную императрицу Елизавету Петровну. М.В. Ломоносов писал:
Внемлите все пределы света
И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церковь и чертог,
Елизавета – Катерина,
Она из обоих едина.
Дама на коне с обнаженной шпагой в руках – вот государыня для огромной массы гвардейцев. К ней направлялись волны ликования. Чтобы поддерживать в войсках восторг, воодушевление, любовь, нужно было постоянно показываться им. Один человек физически не мог быть сразу в нескольких местах. Поэтому появляется «вторая» Екатерина – дублер в той же форме, на такой же лошади. И, вероятно, с алой орденской лентой через плечо, которую так недавно сняла с себя настоящая государыня.
Недаром мемуаристы не отметили совместного пути Екатерины и Дашковой, они обращали внимание только на «государыню», но на какую?
Явление двух Екатерин во главе полков было смелым и опасным режиссерским решением. Оно могло стать как триумфом постановки, так и ее провалом. Может ли царица двоиться в глазах подданных? Конечно, нет. Поэтому подруги и не ехали в Петергоф бок о бок. Одна из них скакала впереди полков, другая появлялась то там, то здесь, вызывая крики ура и ликование. Конечно, подобная картина могла вскружить голову молодой Дашковой. Недаром впоследствии она называла день 28 июня – самым счастливым днем своей жизни. Екатерина Романовна купалась в выплеснувшихся на нее восторгах, в грозном реве приветствий, и относила их на свой счет.
Было бы справедливо предположить, что постановка «Две Екатерины», как и большая часть сценических находок переворота 28 июня, принадлежала выдающемуся русскому актеру и режиссеру Ф.В. Волкову, одному из участников заговора 1762 г. Ему выпало высшее режиссерское счастье – поставить не театральное, а собственно историческое действо, в котором исполнителями стали реальные люди: вельможи, солдаты, толпа, поверженный государь… и одна императрица в двух лицах.
Мы уже говорили, что Дашкова обожала гиперболы. Утверждение в мемуарах, будто накануне переворота она не сомкнула глаз 15 ночей подряд («Я сильно устала и не спала вот уже пятнадцать дней»; «Вы не спали две недели, вам восемнадцать лет, и ваше воображение усиленно работает»), стоит в одном ряду с 60 градусными морозами под Новгородом и щедрыми кредитами иностранных дипломатов, якобы предложенными княгине. В письме Кейзерлингу сказано просто: «Первые три дня постоянно была я на ногах и на коне и ложилась всего на два часа времени». Вероятно, это и следует считать правдой
Утомленные дорогой, наши амазонки оказались в местечке под названием Красный Кабак и переночевали на одном, брошенном на кровать плаще. Это тоже деталь куртуазной игры, незаметно для читателя вплетенная в мемуарное повествование. «Нам необходим был покой, особенно мне, – писала Дашкова, – ибо последние пятнадцать ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была роскошью для моих измученных членов. Едва мы расположились на постели, завешенной шинелью… я заметила маленькую дверь позади изголовья императрицы… Я поставила у нее двух часовых, приказав им не трогаться с места без моего позволения»[283 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.]. Никакой опасности не было, кругом на много верст до Петербурга растянулись войска заговорщиков, но все же княгиня проявляла заметные предосторожности, сама осматривала «тесный и темный коридор, соединявшийся с внешнем двором». Снова жест, и снова на глазах у государыни, которая, надо полагать, уже начала уставать от навязчивой распорядительности подруги.
«Мы не могли уснуть, и ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город», – сообщала Дашкова. Многие биографы, начиная с Герцена, принимают на веру эти слова. Две подруги, будущие преобразовательницы, лежат «под одним одеялом»[284 - Герцен А. И. Княгиня Е.Р. Дашкова // А.И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1957. С. 394.] и обсуждают реформы. Жаль, что их мечты не сбылись!
Перед читателями снова сугубо литературный ход – третья и главная подмена, на которую претендовала Екатерина Романовна. В этом эпизоде она предъявляет права на первенствующее место рядом с монархом. Место наперсника, даже канцлера – своего оставшегося под арестом дяди. Чтобы подчеркнуть подобные претензии, и понадобились черновики указов.
Сама Екатерина, тоже описавшая ночлег в Красном Кабаке, ни словом не упомянула обсуждение с подругой государственных бумаг. Да и было бы странно везти с собой в кратковременный поход материалы для будущих законодательных актов.
«Здесь все имело вид настоящего военного предприятия, – вспоминала императрица, – солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, – вошло туда». Екатерина «бросилась на минуту в кровать, но, не будучи в состоянии закрыть глаза, лежала неподвижно, чтобы не разбудить княгиню Дашкову, спавшую возле нее, но, повернув нечаянно голову, она увидела, что ее большие голубые глаза открыты и обращены на нее, что заставило их громко расхохотаться, потому что они считали одна другую заснувшею и взаимно одна другой оберегали сон»[285 - Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1725. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 344–345.].
После отъезда из Петергофа в обратный путь, Екатерина и Дашкова, согласно запискам княгини, провели еще одну ночь вместе: «Мы… остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме»[286 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.]. Можно предположить, что на даче богатого вельможи кроватей было также мало, как в заурядном кабаке, но главное здесь уже не куртуазная сторона событий, а способ, которым княгиня подчеркивала близость к государыне, нераздельность с ней во время всего похода. Она ни на минуту не покидала подругу, и ела и спала с ней, охраняя свое сокровище от посягательств.
Совсем иначе возвращение из Петергофа описано Екатериной II в послании к Понятовскому. По словам императрицы, первый отдых она позволила себе лишь на следующий день после десяти часов вечера: «Я отправилась вместе с войсками, но на полпути свернула на дачу Куракина, где бросилась одетой на кровать. Один из офицеров снял с меня сапоги. Я проспала два часа с половиной»[287 - Понятовский С. А. Указ. соч. С. 166.]. Дашкова в качестве спутницы не упомянута.
Подобная предосторожность объяснима: Екатерина обращалась к бывшему возлюбленному, хорошо понимавшему особенности взаимоотношений при дворе. Она не желала лишних вопросов со стороны Понятовского о роли Дашковой не столько в перевороте, сколько в ее личной жизни. Тем более осторожно императрица должна была вести себя с Орловыми. Их недовольство казалось куда более опасным.
Соперник
В Петергофе Дашкову ждало самое горькое разочарование в дружбе с Екатериной II. Именно тогда, согласно «Запискам», между двумя амазонками впервые пролегла разделяющая тень. Мужчины. Соперника.
Княгине казалось, что именно она распоряжается всем и вся. «Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выход». В реальности управлять разбушевавшейся, уже отчасти хмельной гвардейской массой было нелегко даже офицерам. Молоденькой же Екатерине Романовне представлялось, будто гвардейцы относятся к ней с детским доверием и готовы выполнять ее приказы: «Я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино… Мне удалось уговорить солдат вылить вино… и послать за водой; я была поражена этим доказательством их привязанности… ко мне, тем более что их офицеры до меня безуспешно останавливали их. Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше… Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты»[288 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.].
«Я принял их только за трусов… Отвернувшись от них, я поспешил обнять моего капитана, Петра Ивановича Измайлова, одного из храбрейших и вернейших слуг нашего несчастного государя… Он надеялся, так же как и я, что полк не увлечется». Вместе они начали обходить ряды гренадер, увещевая тех, «что лучше умереть честно, верным подданным воином, чем присоединиться к изменникам, которые будут побеждены». Им навстречу проскакал секунд-майор Петр Петрович Воейков, восклицая: «Ребята, не забывайте вашу присягу!» Вместе они склонили гренадер на сторону императора, и те даже закричали: «Умрем за него!»
Воейков повел солдат к Казанскому собору, чтобы воспротивиться приносимой там присяге. «Мы надеялись… что, по первом выстреле на нас со стороны мятежников… ударим на них в штыки всей тяжестью нашей колонны, сомнем их и уничтожим: ибо они толпились в расстройстве, без рядов и линий, как мужики, собранные случайно и большей частью в пьяном виде; мы же были в стройном порядке».
Если бы преображенцы послушались офицеров, приверженцев Петра III, произошло бы кровопролитие. Но, на счастье заговорщиков, сзади к колонне гренадер присоединился премьер-майор князь А.А. Меншиков и крикнул им в спины: «Vivat императрица Екатерина Алексеевна, наша самодержица!» И вдруг вся колонна повторила этот призыв. «Это было электрическим ударом». Воейков бросил шпагу со словами: «Ступайте к черту, канальи, е. м., изменники! Я с вами не буду!» – повернул лошадь и ускакал. «Я не знаю, как и почему случилось, что нас не убили», – признавал Воронцов. Он кинулся к реке искать лодку, чтобы плыть в Ораниенбаум, предупредить императора, но был схвачен. «Я вынул шпагу из ножен, обернулся и нанес удар, который скользнул по шляпе и по плечу моего дерзкого противника… Меня окружили и задержали». Схваченных офицеров преображенцы притащили к собору в числе других арестованных, как доказательство своей преданности новой самодержице. Об этом позоре Семен Романович умолчал.
Затем пленных посадили на гауптвахту Зимнего дворца. «Я не упал духом и начал говорить унтер-офицеру и шести мушкетерам, как человек, уверенный в том, что их предприятие окончится дурно, и что законный государь останется победителем». Но эта агитация не удалась, и арестанта перевели в дом дворцового ведомства «напротив старого деревянного дворца». Семен оставался под арестом 11 дней и был выпущен только 8 июля, спустя несколько суток «после кончины императора».
Как Екатерина Романовна не упомянула о брате, так и Семен Романович не назвал имени сестры. С «ужасного и мерзостного дня» их отношения были испорчены. Почему Дашкова не попросила за младшего брата – в сущности, еще мальчишку? Забыла? Закрутилась в вихре событий? Не захотела выслушивать упреки? «Прибывши в наш дом, – заключал Воронцов, – я нашел в нем множество солдат, ибо мой отец и моя сестра [Елизавета] были тоже арестованы»[267 - Воронцов С.Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1. № 1. С. 34–38.].
Мундир
Дашкова не поехала навстречу императрице под веским дамским предлогом – неготовности мужского платья, в котором юная мятежница хотела явиться среди повстанцев. Этот незначительный эпизод проводит четкую грань между реальными заговорщиками и теми, кто играл в заговор. Наверное, пыльный и усталый Алексей Орлов, полночи скакавший туда и обратно по Петергофской дороге, выглядел не слишком привлекательно.
Сама Екатерина поднялась в шесть часов утра с постели, «даже не сделав толком туалет, села в карету»[268 - Понятовский С.А. Указ. соч. С. 163.]. Шаг достойный удивления. Императрица, всю жизнь так много внимания уделявшая театрализации своих жестов, в решающий момент умела отодвинуть второстепенное, ради важного, бутафорское, ради настоящего. Только в середине дня 28 июня, оказавшись в Летнем дворце, государыня, которой уже присягнули гвардейские полки и Сенат, сумела умыться, переодеться и причесаться как следует.
Дашкова же попала во дворец очень поздно, когда присяга уже совершилась. Курьезно, что этот приезд один из биографов княгини – А.И. Воронцов-Дашков – назвал «смелым решением» и подчеркнул, что наша героиня «рисковала жизнью»[269 - Воронцов-Дашков А.И. Указ. соч. М., 2010. С. 65.]. Переворот фактически совершился, и Екатерину Романовну могли разве что раздавить ликующие толпы. Княгиня едва пробилась через них, изрядно помяв платье. Однако в глазах Екатерины Романовны, даже этот эпизод стал триумфом. «Перо мое бессильно описать, как я до нее (до императрицы. – О.Е.) добралась. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардии, окружили дворец, запрудив площадь и все прилегающие улицы. Я вышла из кареты и хотела пешком пойти через площадь; но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ меня понес через площадь высоко над головами. Меня называли самыми лестными именами, обращались ко мне с умилением, трогательными словами и провожали меня благословениями… вплоть до приемной императрицы, где и оставили меня, как потерянную манжету. Платье мое было помято, прическа растрепалась, но своим кипучим воображением я видела в беспорядке моей одежды только лишнее доказательство моего триумфа»[270 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 43.].
Дамы кинулись «друг другу в объятья» со словами: «Слава Богу! Слава Богу!» И рассказали, как провели разделявшие их часы: бегство императрицы из Петергофа, тоскливое бездействие Дашковой. «Мы еще раз обнялись, и я никогда так искренно, так полно не была счастлива, как в этот момент!» Признание в любви? Прямое и пылкое. Огромный спектакль переворота сузился до одной сцены, где осталось место только для двоих. Но уже в следующую минуту декорации снова раздвинулись. Императрица нужна была всем. Подругу смывало прибойной волной царедворцев и заговорщиков.
Если обратить внимание, сколько раз за день 28 июня Дашкова переезжала из дворца домой и обратно, возвращалась к Екатерине II, напоминала о себе яркими театральными жестами, то становится ясно: княгиня нарочно старалась заполнить чем-то время. «Заметив, что императрица была украшена лентой Св. Екатерины и еще не надела Андреевской – высшего государственного отличия – … я подбежала к Панину, сняла с его плеч голубую ленту и надела ее на императрицу, а ее Екатерининскую, согласно с желанием ее, положила в свой карман». Этой алой ленте, надетой на черное платье, в котором в дни траура по Елизавете Петровне петербуржцы привыкли видеть новую императрицу, вскоре суждено было сыграть важную роль.
«Государыня предложила двинуться во главе войск на Петергоф и пригласила меня сопутствовать ей, – продолжает рассказ Екатерина Романовна. – …Желая переодеться в гвардейский мундир, она взяла его у капитана Талызина, а я, следуя ее примеру, у лейтенанта Пушкина»[271 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.] На эти мундиры стоит обратить внимание. Императрица облачилась в семеновский. Если бы преображенцы поспешили с присягой, она непременно предпочла бы форму первого из русских гвардейских полков. Но служивые промедлили, в том числе и благодаря стараниям брата Дашковой. Его поведение, с точки зрения княгини, не могло считаться патриотичным. И Екатерина Романовна как бы исправляет ситуацию, одеваясь в форму поручика Преображенского полка Михаила Ивановича Пушкина, близкого друга семьи. Она точно подменяет собой брата, как прежде подменяла мужа. Слабая женщина выполняет их, мужские, функции.
Самой княгине такой поступок казался едва ли не геройством. Но для традиционного сознания он был поруганием военной формы. Чин следовало заслужить. В мундире приносили присягу. Все его атрибуты от офицерского знака на шее до шпаги с темляком и трехцветного пояса-шарфа были в глазах дворянина овеяны святостью религиозного ритуала и повседневного ратного риска. Мундир не мог фигурировать на театральной сцене, также как и церковное облачение. Его, в отличие от простой мужской одежды, не использовали в маскарадах. Срывая с новых «прусских» мундиров Петра III офицерские знаки и нацепляя их на собак, участники переворота, уже облаченные в старые «елизаветинские» кафтаны, совершали осознанный акт глумления над «вражеской» формой.
Надев такой же, как у брата мундир, сестра попыталась символически занять его место среди офицеров. Этого унижения и этого издевательства щепетильный Семен не смог ей простить. В 1764 г., сожалея о смерти зятя, Семен Романович напишет, что князь Дашков не участвовал в «бешенствах и неистовствах жены своей»[272 - Веселая Г.А. Фирсова Е.Н. Москва в судьбе княгини Дашковой М., 2002. С. 101.]. Публичное облачение в гвардейский мундир и ношение его, подобно маскарадному костюму, были в глазах тогдашних офицеров именно «неистовством». Перед походом на Петергоф Екатерина Романовна попросила одного из своих родственников В.С. Нарышкина, служившего в Измайловском полку, одолжить ей шляпу. Но тот отказал со словами: «Ишь, бабе вздумалось нарядиться шутихой, да давай ей еще и шляпу, а сам стой с открытой головой!»[273 - Бутурлин М.Д. Княгиня Е.Р. Дашкова // Русская старина. 1877. № 18. С. 575.]
Этот эпизод показывает, что наша героиня не понимала знаковую недопустимость собственных действий: ей все казалось, что она на маскараде, ведь офицерская шляпа Измайловского полка не могла быть надета с мундиром Преображенского. Окружающие чувствовали театральную подмену и сердились на Дашкову.
Казалось бы, подруги совершали одно и то же кощунство. Но действия одной приветствовались, а второй осуждались. Значит, имелись важные различия. Участники переворота жаждали увидеть Екатерину II в гвардейской форме – облачение в мундир означало, что государыня принимает одну из важных функций императора – командование полками. Ни о каком шутовстве речи идти не могло. Действие было сугубо сакральным. Но в отношении княгини начинал работать принцип: что позволено Юпитеру, не позволено быку Юпитера.
Объявив себя самодержицей и приняв крестное целование, а затем миропомазание, Екатерина II выпадала из круга обычных людей, становилась монархом. Отныне она не совсем принадлежала миру сему. Когда блаженная Ксения Петербургская надела форму покойного мужа, она в глазах современников начала подвиг юродства – тоже выпала из «мира». И государь, и святой стояли вне общества, над ним. Их шаги были иными по сути и оценивались иначе, чем шаги простых смертных. Дашкова же оставалась «бабой», «шутихой», а не юродивой, и не царицей. Образование в просвещенческом ключе размывало для нее строгие рамки традиции. Отсюда вытекало не просто недопонимание знаковости собственных действий, а другая знаковость. Если Дашкова смотрела на себя «с оттенком восхищения», то окружающие – с оттенком осуждения. Эти взгляды не могли быть примирены, поскольку подразумевали разные изначальные ценности.
«Я уехала домой переодеться, – вспоминала княгиня, – а по возвращении моем я застала ее [Екатерину II] в совете, рассуждавшем о будущем манифесте. Так как известие о бегстве императрицы из Петергофа… уже могло дойти до Петра III, то я думала, что он двинется к Петербургу… Я подошла к государыне и на ухо сообщила ей свою мысль, советуя принять всевозможные меры… Мое нечаянное появление в совете изумило почтенных сенаторов, из которых никто не узнал меня… Екатерина сказала им мое имя… Сенаторы единодушно встали со своих мест… Я покраснела и отклонила от себя честь, которая так мало шла мальчику в военном мундире»[274 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 58–59.].
Если бы Екатерина II нуждалась в Дашковой в момент составления манифеста, она бы ее позвала. Но, видимо, княгиня боялась, что о ней забудут, и потому постоянно вращалась возле обожаемого кумира. Цитируя сообщения о восторженных толпах, носивших юную мятежницу на руках, или о «почтенных сенаторах», как по команде вставших приветствовать Дашкову, мы хотим на время отвлечь читателя от вопроса о достоверности приведенных фактов. Важно показать, как чисто сценическими средствами Екатерина Романовна подчеркивала свое значение для переворота.
Был еще один фарсовый момент, связанный с именем княгини. «Повсюду уже распускали слух, будто император накануне вечером упал с лошади и ударился грудью об острый камень, после чего в ту же секунду скончался»[275 - Шумахер А. История низложения и гибели Петра III. // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 281.], – сообщал датский посол Андреас Шумахер. Его сведения подтверждал Рюльер: «Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, во время которых гроб пронесли по главным улицам, и никто не знал, кого хоронят. Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы… Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: “Мы хорошо приняли свои меры”. Вероятно, эти похороны были предприняты, чтобы между чернию и рабами распространить весть о смерти императора, удалить на ту минуту всякую мысль о сопротивлении»[276 - Рюльер К.К. Указ. соч. С. 83.].
Старый учитель Петра III Якоб Штелин приводил слова гусарских офицеров, обращенные 29 июня к арестованным голштинским солдатам: «Нас обманули и сказали, что император умер»[277 - Штелин Я. Записки // Екатерина. Путь к власти. М., 2003. С. 42.]. Казацкая свита при гробе как будто указывает на гетмана Кирилла Разумовского. Отзыв Дашковой – на ее осведомленность о фальшивых похоронах. Вельможная группировка не предполагала, что после переворота свергнутый государь останется жив. Расчет делался на быструю смерть в ходе возмущения.
Амазонки
Столица признала Екатерину II. Но оставалось еще захватить свергнутого императора и принудить его к отречению. «Около 10 часов вечера я облеклась в гвардейский мундир, села верхом… выступила во главе войск, и мы всю ночь шли на Петергоф»[278 - Там же.], – писала императрица Понятовскому.
Поход на Петергоф был яркой, но уже не опасной страницей истории. Голштинские войска в десять раз уступали по численности тем полкам, которые двинулись против них. Массовое действо, красочное зрелище – этот поход концентрировал в себе все театральное, что было в перевороте. Поэтому здесь Дашкова оказалась на месте.
При чтении записок Екатерины Романовны создается впечатление, что на фоне гвардейских полков должны были явственно виднеться две женские фигуры в мундирах. «Мы сели на коней и поехали во главе двенадцатитысячного войска»[279 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.], – сказано в одной редакции. Несколько иначе эта фраза звучит в другой: «Мы сели на своих лошадей и по дороге в Петергоф осмотрели двенадцать тысяч войска»[280 - Записки княгини Е.Р. Дашковой. М., 1990. С. 59.]. Однако ехать во главе армии или осматривать растянувшиеся вдоль дороги полки – не одно и то же.
Если сопоставить рассказ Дашковой с другими известиями о перевороте, то привычная картина изменится. Рюльер писал о Екатерине II: «Она села верхом… и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляя войскам, как будто хочет быть их генералом… Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять вошла во дворец и обедала у окна… потом села опять на лошадь и поехала перед своею армией»[281 - Рюльер К.К. Указ. соч. С. 86.]. А Дашкова? Сопутствовала ли она Екатерине? Ехала ли с нею рядом? Сама государыня и в письме к Понятовскому, и позднее в автобиографических записках ни слова не говорит о совместном путешествии: «Я… поместилась во главе войск, и мы всю ночь продвигались к Петергофу»[282 - Екатерина II. Записки // Со шпагой и факелом. 1725–1825. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 336.].
Кажется, пары бок о бок скакавших амазонок все-таки не было. Никто не имел права затенять императрицу. Очень немногие из солдат знали Екатерину II в лицо. Для того и понадобился символ – женщина в гвардейской форме, скачущая верхом – чтобы всем стало ясно: вот государыня. Это был намек на покойную императрицу Елизавету Петровну. М.В. Ломоносов писал:
Внемлите все пределы света
И ведайте, что может Бог!
Воскресла нам Елисавета:
Ликует церковь и чертог,
Елизавета – Катерина,
Она из обоих едина.
Дама на коне с обнаженной шпагой в руках – вот государыня для огромной массы гвардейцев. К ней направлялись волны ликования. Чтобы поддерживать в войсках восторг, воодушевление, любовь, нужно было постоянно показываться им. Один человек физически не мог быть сразу в нескольких местах. Поэтому появляется «вторая» Екатерина – дублер в той же форме, на такой же лошади. И, вероятно, с алой орденской лентой через плечо, которую так недавно сняла с себя настоящая государыня.
Недаром мемуаристы не отметили совместного пути Екатерины и Дашковой, они обращали внимание только на «государыню», но на какую?
Явление двух Екатерин во главе полков было смелым и опасным режиссерским решением. Оно могло стать как триумфом постановки, так и ее провалом. Может ли царица двоиться в глазах подданных? Конечно, нет. Поэтому подруги и не ехали в Петергоф бок о бок. Одна из них скакала впереди полков, другая появлялась то там, то здесь, вызывая крики ура и ликование. Конечно, подобная картина могла вскружить голову молодой Дашковой. Недаром впоследствии она называла день 28 июня – самым счастливым днем своей жизни. Екатерина Романовна купалась в выплеснувшихся на нее восторгах, в грозном реве приветствий, и относила их на свой счет.
Было бы справедливо предположить, что постановка «Две Екатерины», как и большая часть сценических находок переворота 28 июня, принадлежала выдающемуся русскому актеру и режиссеру Ф.В. Волкову, одному из участников заговора 1762 г. Ему выпало высшее режиссерское счастье – поставить не театральное, а собственно историческое действо, в котором исполнителями стали реальные люди: вельможи, солдаты, толпа, поверженный государь… и одна императрица в двух лицах.
Мы уже говорили, что Дашкова обожала гиперболы. Утверждение в мемуарах, будто накануне переворота она не сомкнула глаз 15 ночей подряд («Я сильно устала и не спала вот уже пятнадцать дней»; «Вы не спали две недели, вам восемнадцать лет, и ваше воображение усиленно работает»), стоит в одном ряду с 60 градусными морозами под Новгородом и щедрыми кредитами иностранных дипломатов, якобы предложенными княгине. В письме Кейзерлингу сказано просто: «Первые три дня постоянно была я на ногах и на коне и ложилась всего на два часа времени». Вероятно, это и следует считать правдой
Утомленные дорогой, наши амазонки оказались в местечке под названием Красный Кабак и переночевали на одном, брошенном на кровать плаще. Это тоже деталь куртуазной игры, незаметно для читателя вплетенная в мемуарное повествование. «Нам необходим был покой, особенно мне, – писала Дашкова, – ибо последние пятнадцать ночей я едва смыкала глаза. Когда мы вошли в тесную и дурную комнату, государыня предложила не раздеваясь лечь на одну постель, которая при всей окружающей грязи была роскошью для моих измученных членов. Едва мы расположились на постели, завешенной шинелью… я заметила маленькую дверь позади изголовья императрицы… Я поставила у нее двух часовых, приказав им не трогаться с места без моего позволения»[283 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 45.]. Никакой опасности не было, кругом на много верст до Петербурга растянулись войска заговорщиков, но все же княгиня проявляла заметные предосторожности, сама осматривала «тесный и темный коридор, соединявшийся с внешнем двором». Снова жест, и снова на глазах у государыни, которая, надо полагать, уже начала уставать от навязчивой распорядительности подруги.
«Мы не могли уснуть, и ее величество начала читать мне целый ряд манифестов, которые подлежали опубликованию по нашем возвращении в город», – сообщала Дашкова. Многие биографы, начиная с Герцена, принимают на веру эти слова. Две подруги, будущие преобразовательницы, лежат «под одним одеялом»[284 - Герцен А. И. Княгиня Е.Р. Дашкова // А.И. Герцен. Собрание сочинений. Т. 12. М., 1957. С. 394.] и обсуждают реформы. Жаль, что их мечты не сбылись!
Перед читателями снова сугубо литературный ход – третья и главная подмена, на которую претендовала Екатерина Романовна. В этом эпизоде она предъявляет права на первенствующее место рядом с монархом. Место наперсника, даже канцлера – своего оставшегося под арестом дяди. Чтобы подчеркнуть подобные претензии, и понадобились черновики указов.
Сама Екатерина, тоже описавшая ночлег в Красном Кабаке, ни словом не упомянула обсуждение с подругой государственных бумаг. Да и было бы странно везти с собой в кратковременный поход материалы для будущих законодательных актов.
«Здесь все имело вид настоящего военного предприятия, – вспоминала императрица, – солдаты разлеглись на большой дороге, офицеры и множество горожан, следовавших из любопытства, и все, что могло поместиться в этом доме, – вошло туда». Екатерина «бросилась на минуту в кровать, но, не будучи в состоянии закрыть глаза, лежала неподвижно, чтобы не разбудить княгиню Дашкову, спавшую возле нее, но, повернув нечаянно голову, она увидела, что ее большие голубые глаза открыты и обращены на нее, что заставило их громко расхохотаться, потому что они считали одна другую заснувшею и взаимно одна другой оберегали сон»[285 - Екатерина II. Продолжение анекдотов // Со шпагой и факелом. 1725–1725. Дворцовые перевороты в России. М., 1991. С. 344–345.].
После отъезда из Петергофа в обратный путь, Екатерина и Дашкова, согласно запискам княгини, провели еще одну ночь вместе: «Мы… остановились на несколько часов на даче князя Куракина. Мы легли с императрицей вдвоем на единственную постель, которая нашлась в доме»[286 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.]. Можно предположить, что на даче богатого вельможи кроватей было также мало, как в заурядном кабаке, но главное здесь уже не куртуазная сторона событий, а способ, которым княгиня подчеркивала близость к государыне, нераздельность с ней во время всего похода. Она ни на минуту не покидала подругу, и ела и спала с ней, охраняя свое сокровище от посягательств.
Совсем иначе возвращение из Петергофа описано Екатериной II в послании к Понятовскому. По словам императрицы, первый отдых она позволила себе лишь на следующий день после десяти часов вечера: «Я отправилась вместе с войсками, но на полпути свернула на дачу Куракина, где бросилась одетой на кровать. Один из офицеров снял с меня сапоги. Я проспала два часа с половиной»[287 - Понятовский С. А. Указ. соч. С. 166.]. Дашкова в качестве спутницы не упомянута.
Подобная предосторожность объяснима: Екатерина обращалась к бывшему возлюбленному, хорошо понимавшему особенности взаимоотношений при дворе. Она не желала лишних вопросов со стороны Понятовского о роли Дашковой не столько в перевороте, сколько в ее личной жизни. Тем более осторожно императрица должна была вести себя с Орловыми. Их недовольство казалось куда более опасным.
Соперник
В Петергофе Дашкову ждало самое горькое разочарование в дружбе с Екатериной II. Именно тогда, согласно «Запискам», между двумя амазонками впервые пролегла разделяющая тень. Мужчины. Соперника.
Княгине казалось, что именно она распоряжается всем и вся. «Мне постоянно приходилось бегать с одного конца дворца в другой и спускаться к гвардейцам, охранявшим все входы и выход». В реальности управлять разбушевавшейся, уже отчасти хмельной гвардейской массой было нелегко даже офицерам. Молоденькой же Екатерине Романовне представлялось, будто гвардейцы относятся к ней с детским доверием и готовы выполнять ее приказы: «Я была принуждена выйти к солдатам, которые, изнемогая от жажды и усталости, взломали один погреб и своими киверами черпали венгерское вино… Мне удалось уговорить солдат вылить вино… и послать за водой; я была поражена этим доказательством их привязанности… ко мне, тем более что их офицеры до меня безуспешно останавливали их. Я раздала им остаток сохранившихся у меня денег и вывернула карманы, чтобы показать, что у меня нет больше… Я обещала, что по возвращении их в город им дадут водки на счет казны и что все кабаки будут открыты»[288 - Дашкова Е.Р. Записки 1743–1810. Л., 1985. С. 48.].