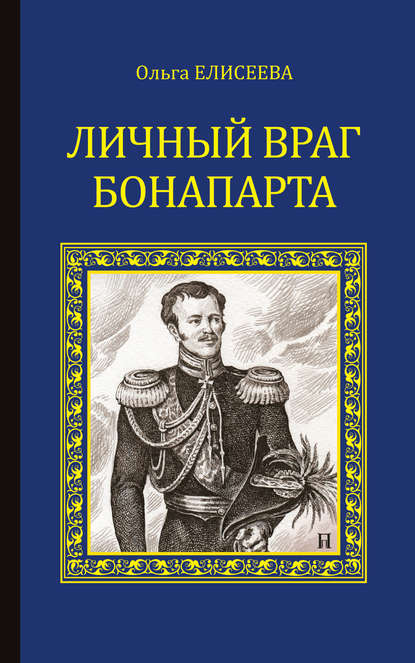По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Личный враг Бонапарта
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы бы уже скорее прибрали к рукам эту Яну, – проворчал граф. – Все бы и забылось.
– О, ни за что, – протянул Бенкендорф, предвкушая долгое – с чувством, с толком, с расстановкой – приключение.
Толстой махнул рукой, взял с камина табакерку и отправился на ежевечернюю прогулку с кастеляншей. Им было хорошо вместе: они ругали молодых и вспоминали свое «золотое время». Почему эти двое ухитрялись ладить, не задевая патриотических чувств друг друга? Может быть, потому что не хотели задеть?
Александра же Христофоровича национальные чувства маленькой принцессы интересовали постольку, поскольку позволяли вывести ее из равновесия. Но пора было переходить к чувствам вообще.
Еще пару дней он прилежно посещал все спектакли французской и итальянской трупп, дававшиеся в замке. Между прочим, актеров тоже среди челяди звали к столу после господ, и это их не смущало!
Полковник садился всегда в партере и голодными глазами взирал на ложу своей очаровательницы. Кавалер, который хочет остаться незаметным, выбирает место позади дамы. Но Бенкендорфу нужно было, чтобы его видели. В самых патетических местах он вздыхал и закатывал глаза к первому ярусу, дабы убедиться, пробрали ли картонные чувства исполнителей предмет его страсти.
Если ей угодно было хлопать, он тут же принимался рукоплескать. Если его одобрение касалось непонравившегося Яне места и смуглые руки, перехваченные у запястий нитями розового жемчуга, оставались бестрепетно лежать на малиновой обивке балкона, рыцарь демонстративно прекращал хлопки и делал растерянное лицо: «Как? Разве не здесь? Ну, да я ведь ничего не понимаю!»
К слову, понимал он великолепно. Шурку с детства невозможно было вытянуть из театров. Особенно с балетов, где актерки махали ногами перед самым носом у зрителей.
В четверг полковник набрался наглости и явился в домовую церковь во время мессы, где лютеранину делать было нечего. Впрочем, он был лихим лютеранином. Не чуждался причаститься перед боем у полкового батюшки. Раз дают, чего отказываться? А воспитание в католическом пансионе аббата Николя позволяло ему войти в костел, не нарушив ни одного правила.
Он крестился в обе стороны, а если потребовалось бы, то и двумя руками. Мог петь на латыни и очень любил орган. Все эти мощи – Бог бы с ними. От костей, ногтей и волос праведников, оправленных в золото и выставленных на всеобщее обозрение, его передергивало. А вот музыка у схизматиков была хорошая. Настоящая. Особенно если Моцарт. И если с горном. Плач души!
В церкви Бенкендорф расслабился и прослушал мессу, сидя на последнем ряду и улетая со звуками органа к осипшему от молитв небу.
Все кончилось. Он знал, как положено действовать по канону, и пробился к чаше. На него смотрели крайне неодобрительно. Плевать!
Яна приблизилась, оправляя наколку из черного кружева. На ее лице было написано: «Вы с ума сошли!»
«Донна Анна…» – он протянул ей горсть воды.
«Не бери, не бери, не трогай!» – стучало у графини в голове. «Вы дьявол!» – хотели выговорить губы.
«Одно прикосновение к руке бедного Гуана, – умоляли его глаза. – Ах, как скучно! Ведь мы ляжем под эти плиты, и ничто больше не согреет нас! Ни луч солнца, ни птичьи трели, ни трепет теплых пальцев…»
Она опустила руку и перекрестилась его водой, больше повинуясь сюжету, чем истинному желанию. А потом позволила себе негодовать, укорять, раскаиваться. Тоже по сюжету. Ее враг торжествовал, и оба знали заранее, каким будет следующий шаг.
Цветы, да цветы.
Причем розы. Ярко-алые. Разных сортов и запахов. От почти бордовых, широко раскрывших жаждущее естество. До нежно-розовых, собранных в твердый бутон девства. Их аромат – то мускусный, то анисовый – наполнял спальню маленькой принцессы по утрам. И никто не знал, как они туда попадали.
Даже допрос слуг, даже попытка не спать и караулить не дали результатов. Горничным было заплачено, а часового неизменно смаривает сон перед рассветом.
Сначала букет лежал на пороге. Потом в ногах кровати. У изголовья. Наконец, на одеяле. Бенкендорф нарочно выбрал откровенный, бесстыдный цветок. Он не хотел подчеркивать ни лилейной святости дамы, ни бесплотности своих притязаний. Отказывался баловать ее незабудками: помните обо мне. Будет помнить!
«Я хочу вас, – кричали розы. – И вы станете моей! Несмотря на строгость нравов! Благодаря им!»
* * *
«Она заставила меня приложить все силы для того, чтобы победить ее предубеждение по отношению к русским; наконец, патриотизм сдался».
А.Х. Бенкендорф
Новым шагом стало письмо.
«Взгляните на меня. И я буду вознагражден. Довольно и того страдания, что Вы считаете меня врагом, в то время как я – всего лишь смиренный раб вашей красоты».
Бенкендорф никогда не переписывал чужой любовной галиматьи из письмовников. Хватит и своей.
Три первых послания кряду Яна пропустила без ответа. Герой-любовник не отчаивался. Так положено. Лишь бы на четвертом не сорвалось.
Дама была строга. И пять, и десять эпистол канули в Лету. Тогда полковник явился после чая на узаконенное традицией семейное чтение, где французская эмигрантка мадемуазель Дюшен, лектриса кастелянши, два часа читала влсух газеты, романы, пьесы, трактаты естествоиспытателей и описания путешествий. На сей раз она оглашала малиновую гостиную «Новой Элоизой» Руссо. Бенкендорф вошел как раз в тот момент, когда несчастная Юлия изливала печаль опустевшей души. Дамы плакали.
Маленькая принцесса тоже несколько раз поднесла шелковый платочек к глазам. Какое счастье, что в мире есть женщины! Без их трогательного участия он обратился бы в ледяной хаос, где все слова грубы, а все движения сердца прагматичны!
Когда чтение закончилось, и размягченные описанием чужой скорби слушатели потянулись к выходу, полковник нарочно пошел благодарить лектрису за доставленное удовольствие и, поровнявшись с Яной, уронил записку на ковер у ее ног.
Смущенная графиня немедленно закрыла белый клочок бумаги краем платья. И, когда, как ей казалось, никто не видел, поспешно подняла цидулку. Сжав послание в кулаке, прекрасная дама поспешила к выходу. Стараясь не торопиться и со всеми раскланиваться. Она не видела, как предательски пылают ее щеки. Между тем остальные как раз примечали и были крайне довольны сделанными выводами. Бенкендорф добился того, что за ним с Анной всегда следовал десяток любопытных глаз, что уничтожало необходимость после победы трубить о ней.
Яна миновала кабинет, еще пару комнат, балюстраду, но не пошла к себе, где горничные могли стать свидетельницами ее замешательства. А вышла на крыльцо. Следовало углубиться в сад. Но ее разобрало любопытство, и она почти рывком развернула записку. «Жестокая», – гласил текст.
Улыбка расцвела на лице молодой графини. Она изорвала послание, положила клочки на ладонь и дунула на них, посылая к вечернему небу.
«Жестокая»! Он страдает!
Белые комочки попадали к ее башмачкам, и, попирая их, она отправилась домой. Писать ответ.
Можно было побиться об заклад, что сегодня графиня не заснет. А вот сможет ли взяться за перо? И решится ли передать? Другой вопрос. От этого зависело дальнейшее поведение кавалера. Или перейти к стихам. Или…
Яна не решилась. В самый неподходящий момент к ней постучалась кастелянша и прочла возвышенную проповедь о семейных добродетелях.
– Только когда Господь освободит вас от обязанностей супруги и матери, – сказала тетушка, – которыми вы более должны себе самой, чем людям, только тогда вы сможете считать себя свободной…
Ей, вдове, легко говорить!
Но полковник, не получив письма, сделал единственно возможный шаг. Жестокосердная дама должна была взревновать. И предмет был избран правильно – единственная женщина, которой Анна могла позавидовать.
В Белостоке нашло прибежище целое семейство французских эмигрантов – герцогов Бассомпьер. Глава, мужчина лет пятидесяти. Его двадцатилетняя жена. Их дети – Пьер и Лизетта – с бабушкой, непонятно по чьей линии. Оба супруга почтительно именовали ее «матушка», а та с не меньшим энтузиазмом отчитывала зятя, чем дочь, или сына, чем невестку. Молодая герцогиня не имела имени, все называли ее: «Ваша светлость». Это была миловидная кобылка, славившаяся среди обитателей замка великосветскими манерами.
Что-то в этих манерах смущало Бенкендорфа. Его с детства учили, что простота не роняет достоинства, а вот от чванства за версту несет выскочкой. На его взгляд, образчиком истинного аристократизма была все-таки кастелянша.
– Что ты о них думаешь? – спросил как-то Толстой. – Эти принцы в изгнании всегда смахивают на авантюристов.
Сам граф полжизни провел в полку и был простоват. К тому же москвич. Мнение воспитанника вдовствующей императрицы его очень интересовало.
– Нахлебники, – отрезал Бенкендорф. – Выдают себя не за тех.
– Кастелянша тоже так думает, – кивнул Толстой.
– Тогда почему же она их держит?
– Из деликатности. Надеется, что ее благодеяния разбудят в них совесть.
– О, ни за что, – протянул Бенкендорф, предвкушая долгое – с чувством, с толком, с расстановкой – приключение.
Толстой махнул рукой, взял с камина табакерку и отправился на ежевечернюю прогулку с кастеляншей. Им было хорошо вместе: они ругали молодых и вспоминали свое «золотое время». Почему эти двое ухитрялись ладить, не задевая патриотических чувств друг друга? Может быть, потому что не хотели задеть?
Александра же Христофоровича национальные чувства маленькой принцессы интересовали постольку, поскольку позволяли вывести ее из равновесия. Но пора было переходить к чувствам вообще.
Еще пару дней он прилежно посещал все спектакли французской и итальянской трупп, дававшиеся в замке. Между прочим, актеров тоже среди челяди звали к столу после господ, и это их не смущало!
Полковник садился всегда в партере и голодными глазами взирал на ложу своей очаровательницы. Кавалер, который хочет остаться незаметным, выбирает место позади дамы. Но Бенкендорфу нужно было, чтобы его видели. В самых патетических местах он вздыхал и закатывал глаза к первому ярусу, дабы убедиться, пробрали ли картонные чувства исполнителей предмет его страсти.
Если ей угодно было хлопать, он тут же принимался рукоплескать. Если его одобрение касалось непонравившегося Яне места и смуглые руки, перехваченные у запястий нитями розового жемчуга, оставались бестрепетно лежать на малиновой обивке балкона, рыцарь демонстративно прекращал хлопки и делал растерянное лицо: «Как? Разве не здесь? Ну, да я ведь ничего не понимаю!»
К слову, понимал он великолепно. Шурку с детства невозможно было вытянуть из театров. Особенно с балетов, где актерки махали ногами перед самым носом у зрителей.
В четверг полковник набрался наглости и явился в домовую церковь во время мессы, где лютеранину делать было нечего. Впрочем, он был лихим лютеранином. Не чуждался причаститься перед боем у полкового батюшки. Раз дают, чего отказываться? А воспитание в католическом пансионе аббата Николя позволяло ему войти в костел, не нарушив ни одного правила.
Он крестился в обе стороны, а если потребовалось бы, то и двумя руками. Мог петь на латыни и очень любил орган. Все эти мощи – Бог бы с ними. От костей, ногтей и волос праведников, оправленных в золото и выставленных на всеобщее обозрение, его передергивало. А вот музыка у схизматиков была хорошая. Настоящая. Особенно если Моцарт. И если с горном. Плач души!
В церкви Бенкендорф расслабился и прослушал мессу, сидя на последнем ряду и улетая со звуками органа к осипшему от молитв небу.
Все кончилось. Он знал, как положено действовать по канону, и пробился к чаше. На него смотрели крайне неодобрительно. Плевать!
Яна приблизилась, оправляя наколку из черного кружева. На ее лице было написано: «Вы с ума сошли!»
«Донна Анна…» – он протянул ей горсть воды.
«Не бери, не бери, не трогай!» – стучало у графини в голове. «Вы дьявол!» – хотели выговорить губы.
«Одно прикосновение к руке бедного Гуана, – умоляли его глаза. – Ах, как скучно! Ведь мы ляжем под эти плиты, и ничто больше не согреет нас! Ни луч солнца, ни птичьи трели, ни трепет теплых пальцев…»
Она опустила руку и перекрестилась его водой, больше повинуясь сюжету, чем истинному желанию. А потом позволила себе негодовать, укорять, раскаиваться. Тоже по сюжету. Ее враг торжествовал, и оба знали заранее, каким будет следующий шаг.
Цветы, да цветы.
Причем розы. Ярко-алые. Разных сортов и запахов. От почти бордовых, широко раскрывших жаждущее естество. До нежно-розовых, собранных в твердый бутон девства. Их аромат – то мускусный, то анисовый – наполнял спальню маленькой принцессы по утрам. И никто не знал, как они туда попадали.
Даже допрос слуг, даже попытка не спать и караулить не дали результатов. Горничным было заплачено, а часового неизменно смаривает сон перед рассветом.
Сначала букет лежал на пороге. Потом в ногах кровати. У изголовья. Наконец, на одеяле. Бенкендорф нарочно выбрал откровенный, бесстыдный цветок. Он не хотел подчеркивать ни лилейной святости дамы, ни бесплотности своих притязаний. Отказывался баловать ее незабудками: помните обо мне. Будет помнить!
«Я хочу вас, – кричали розы. – И вы станете моей! Несмотря на строгость нравов! Благодаря им!»
* * *
«Она заставила меня приложить все силы для того, чтобы победить ее предубеждение по отношению к русским; наконец, патриотизм сдался».
А.Х. Бенкендорф
Новым шагом стало письмо.
«Взгляните на меня. И я буду вознагражден. Довольно и того страдания, что Вы считаете меня врагом, в то время как я – всего лишь смиренный раб вашей красоты».
Бенкендорф никогда не переписывал чужой любовной галиматьи из письмовников. Хватит и своей.
Три первых послания кряду Яна пропустила без ответа. Герой-любовник не отчаивался. Так положено. Лишь бы на четвертом не сорвалось.
Дама была строга. И пять, и десять эпистол канули в Лету. Тогда полковник явился после чая на узаконенное традицией семейное чтение, где французская эмигрантка мадемуазель Дюшен, лектриса кастелянши, два часа читала влсух газеты, романы, пьесы, трактаты естествоиспытателей и описания путешествий. На сей раз она оглашала малиновую гостиную «Новой Элоизой» Руссо. Бенкендорф вошел как раз в тот момент, когда несчастная Юлия изливала печаль опустевшей души. Дамы плакали.
Маленькая принцесса тоже несколько раз поднесла шелковый платочек к глазам. Какое счастье, что в мире есть женщины! Без их трогательного участия он обратился бы в ледяной хаос, где все слова грубы, а все движения сердца прагматичны!
Когда чтение закончилось, и размягченные описанием чужой скорби слушатели потянулись к выходу, полковник нарочно пошел благодарить лектрису за доставленное удовольствие и, поровнявшись с Яной, уронил записку на ковер у ее ног.
Смущенная графиня немедленно закрыла белый клочок бумаги краем платья. И, когда, как ей казалось, никто не видел, поспешно подняла цидулку. Сжав послание в кулаке, прекрасная дама поспешила к выходу. Стараясь не торопиться и со всеми раскланиваться. Она не видела, как предательски пылают ее щеки. Между тем остальные как раз примечали и были крайне довольны сделанными выводами. Бенкендорф добился того, что за ним с Анной всегда следовал десяток любопытных глаз, что уничтожало необходимость после победы трубить о ней.
Яна миновала кабинет, еще пару комнат, балюстраду, но не пошла к себе, где горничные могли стать свидетельницами ее замешательства. А вышла на крыльцо. Следовало углубиться в сад. Но ее разобрало любопытство, и она почти рывком развернула записку. «Жестокая», – гласил текст.
Улыбка расцвела на лице молодой графини. Она изорвала послание, положила клочки на ладонь и дунула на них, посылая к вечернему небу.
«Жестокая»! Он страдает!
Белые комочки попадали к ее башмачкам, и, попирая их, она отправилась домой. Писать ответ.
Можно было побиться об заклад, что сегодня графиня не заснет. А вот сможет ли взяться за перо? И решится ли передать? Другой вопрос. От этого зависело дальнейшее поведение кавалера. Или перейти к стихам. Или…
Яна не решилась. В самый неподходящий момент к ней постучалась кастелянша и прочла возвышенную проповедь о семейных добродетелях.
– Только когда Господь освободит вас от обязанностей супруги и матери, – сказала тетушка, – которыми вы более должны себе самой, чем людям, только тогда вы сможете считать себя свободной…
Ей, вдове, легко говорить!
Но полковник, не получив письма, сделал единственно возможный шаг. Жестокосердная дама должна была взревновать. И предмет был избран правильно – единственная женщина, которой Анна могла позавидовать.
В Белостоке нашло прибежище целое семейство французских эмигрантов – герцогов Бассомпьер. Глава, мужчина лет пятидесяти. Его двадцатилетняя жена. Их дети – Пьер и Лизетта – с бабушкой, непонятно по чьей линии. Оба супруга почтительно именовали ее «матушка», а та с не меньшим энтузиазмом отчитывала зятя, чем дочь, или сына, чем невестку. Молодая герцогиня не имела имени, все называли ее: «Ваша светлость». Это была миловидная кобылка, славившаяся среди обитателей замка великосветскими манерами.
Что-то в этих манерах смущало Бенкендорфа. Его с детства учили, что простота не роняет достоинства, а вот от чванства за версту несет выскочкой. На его взгляд, образчиком истинного аристократизма была все-таки кастелянша.
– Что ты о них думаешь? – спросил как-то Толстой. – Эти принцы в изгнании всегда смахивают на авантюристов.
Сам граф полжизни провел в полку и был простоват. К тому же москвич. Мнение воспитанника вдовствующей императрицы его очень интересовало.
– Нахлебники, – отрезал Бенкендорф. – Выдают себя не за тех.
– Кастелянша тоже так думает, – кивнул Толстой.
– Тогда почему же она их держит?
– Из деликатности. Надеется, что ее благодеяния разбудят в них совесть.