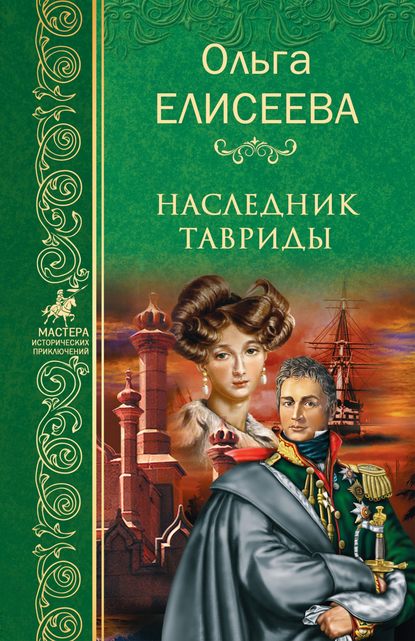По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наследник Тавриды
Автор
Год написания книги
2007
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы не доложили императору?
– Зачем? Судьба Бенкендорфа и Васильчикова кое-чему учит. Я не могу предсказать реакцию государя. Может статься, он вытрясет из армии последних боевых офицеров. А война на пороге. Ах, я только на нее и надеюсь!
Михаил его отлично понял. Как ни дико желать войны, но она одна способна была отвлечь на себя массу горючего материала. Тысячи буйных голов, сегодня готовых ринуться в заговор, устремились бы за крестами, подвигами, чинами. А там, глядишь, и остепенились… Но государь медлил.
Тирасполь. Штаб-квартира 1-го корпуса 2-й армии.
Крикун Сабанеев никогда не пропускал воскресной службы. На 56-м году от рождения ты или неисправимый атеист, или уже все понял. К первому пороку Иван Васильевич не был склонен даже в младые годы, когда учился в Московском университете. Глубину же упования на Бога обрел в первом бою, под Мачином. Мать честная, вот было дело! Теперь генерал смотрел вокруг себя с усталым спокойствием. Ни чума, ни турки, ни французы не могли его удивить. Изумляло лишь стремление людей все время буянить. Спасу нет, до чего неспокойный народ!
Сам Иван Васильевич уже отвоевался и откуражился. Хотел тишины. Милого хуторка в теплом краю. Дома – полной чаши. Хозяйства. И хозяйки. Денег на усадьбу хватало. Что же до жены, то первая супруга скончалась накануне нашествия Бонапарта. Новой он не завел. А возраст не позволял надеяться ни на что путное. Грустно человеку в одиночку встречать старость.
Впрочем, седина в бороду, бес в ребро. Вот уже третий месяц, стоя у обедни, Сабанеев, вместо того чтобы молиться, таращился в спину жене полкового фельдшера. Ух, и была же это спина! Полная, широкая, с округлыми выпуклостями там, где руки врастают в тело, с круто изогнутой, точно лебяжья шея, поясницей… Пульхерия Яковлевна – так звали небесное создание – воспитывала тучу детей и привечала в доме полковых сирот, для которых сам Иван Васильевич устроил школу.
Занозой всему был ее муж, под пьяную руку бивавший бабу. А коль скоро спирт у полкового фельдшера – первое лекарство, то бесстыжие зенки этого прохвоста всегда оказывались залиты. Маленький, тщедушный, он мог переломиться, стоило супруге опустить ему на хребет свою белую, тяжелую, как крыло усталой птицы, руку. Однако из робости Пульхерия Яковлевна защитить себя не могла. И это ее горестное положение вызывало у генерала особую жалость.
Школа, которую организовал Сабанеев, сблизила их. Фельдшерша привела туда своих обормотов. И стала каждый день носить в большущем узле пироги для всей голодной братии. Вздыхала, гладила детишек по головам, иной раз машинально наводила порядок – то смахнет пыль с доски, то поправит скатерть. Не нарочно, по привычке. Кого-то высморкает, кого-то причешет. И пойдет прочь по улице, колыхая боками под блестящим на солнце, застиранным сатином.
Далеко не с первого раза генерал осмелился заговорить с ней. Так, если встречал, кивал, мол, здравствуй, Пульхерия. А она кланялась, совсем по-деревенски. Будто он барин. Дел в дивизии прорва. В школу не наездишься. Но, приметив, что жена фельдшера забредает туда ближе к обеду, Иван Васильевич зачастил глянуть на подопечных. Как-то раз удостоился пирожка. Угостила его женщина так простодушно, что грех было отказываться.
– А отменно вы стряпаете, мадам, – сказал генерал.
Пульхерия Яковлевна залилась румянцем удовольствия.
– Да что ж, дело нехитрое. Сиротам нравится.
Тут Иван Васильевич подумал, что и он в каком-то смысле сирота, и, наверное, потому ему по вкусу домашняя еда. В первый раз они больше друг с другом слова не молвили. Но потом как-то освоились. Стали пускаться в разговоры.
– Вы откуда, позвольте полюбопытствовать, родом?
– С-под Ярославля мы. Мещанина Загосина дочь. Батюшка мой веревки плел.
– А мой батюшка, видать, этими веревками все перевязывал. Я ведь тоже ярославский уроженец.
Ну, тут, конечно, земляки весьма обрадовались обретенному знакомству. И принялись обходиться друг с другом попроще. Как-то Сабанеев заметил на скуле женщины ссадину. Пульхерия соврала, будто неловко опустила коромысло. Она не умела жаловаться. Но когда в следующий раз пришла с синяком на подбородке, генерал вызвал к себе фельдшера – небывалая честь – и устроил ему разнос.
– У тебя шестеро детей! Пьяная скотина! А ты при них бьешь мать. Если я еще раз увижу… только услышу, что ты посмел… пальцем тронуть жену! Я тебя прогоню с места без содержания.
Сабанеев едва совладал с собой. И чего людям не живется? При такой крале! При славных ребятишках! Более всего ему хотелось придушить засранца. Тот стоял, ухмылялся и очевидным образом не понимал, чего от него добиваются. Моя жена – хочу, с кашей ем!
Генерал все меньше и меньше хотел отпускать Пульхерию Яковлевну из школы домой. Тем более что она как-то обмолвилась:
– Так бы и осталась здесь. Я бы эту халупку прибрала, печку выбелила. Хорошо тут, как за каменной стеной. А у меня? Одно и то же. Где была? Где гуляла? Будто я гуляю.
Дело решилось само собой. Вечером в воскресенье, когда Иван Васильевич сидел у себя на квартире и дул чай с ромом, мимо окон по улице опрометью в сторону Днестра пронеслась Пульхерия, вереща благим матом. За ней гнался фельдшер с обухом в руках. Допился черт до белой горячки! Генерал вылетел во двор в одной рубашке. Даже форменный сюртук забыл накинуть. Сбил злодея с ног, отобрал «оружие» и только потом кликнул караульных.
– Под арест его. Суток на трое. Не хватало нам еще смертоубийства в корпусе!
Распоряжался, а сам думал о другом. Пульхерию Яковлевну он нашел на берегу реки. Она схоронилась в ивовых плавнях, залегла, как заяц, за пенек, ни жива ни мертва. Генерал извлек ее на свет божий, ободрял, утешал, а уж там, как водится, и обнимал. Наконец увел к себе. Там они поладили без всяких объяснений, словно давно знали, что так тому и быть. Утром Пульхерия Яковлевна засобиралась домой. Но Иван Васильевич удержал ее.
– Незачем тебе туда идти. Я за детьми. Здесь будете жить.
Фельдшерша ахнула. Мало ей позора на одну ночь, так теперь совсем в открытую слыви пропащей.
– Я на тебе женюсь, – собравшись с духом, заявил генерал. – Сегодня же выгоню твоего мужа, и венчаемся.
– Так нельзя, – испугалась женщина.
– Можно, – отрезал Сабанеев. – Я здесь начальство.
Он говорил правду. На сто верст вокруг главнее него не было.
Иван Васильевич пошел к дому фельдшера. Отворил дверь. Дети прятались на печке. Двое старших убежали на огород и там пересидели до рассвета. «Надо было еще вчера за ними сходить!» – укорил себя генерал. Но, с другой стороны, если бы он сделал это, вряд ли осмелился бы подступиться к их матери.
Ребята послушно пошли за ним и обосновались на его квартире. Протрезвевшему фельдшеру Сабанеев пригрозил сослать его в Сибирь за попытку убийства, и тот с перепугу канул в неизвестность. Больше генерал его не видел. Через неделю Иван Васильевич венчался с Пульхерией Яковлевной, причем священник тоже не осмелился ему перечить. Потом Сабанеев отвез семью на хутор и зажил там отменной жизнью, о которой мечтал.
Кишинев.
– Да что вы меня учите чести, Александр Сергеевич! – пылил Липранди. – Поединок поединку рознь. И здесь Киселев прав. А Мордвинов дурак! Упокой, Господи, его душу! Не понравится мне приказ командира, и я его – к барьеру?
– Вы меня не слышите или не хотите понять! – Поэт едва не хлопнул собеседника обеими руками по коленям. – Что такое Киселев? Царский любимец. Пусть он сто раз мил, образован и умен. Тем хуже! Я не выношу оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего святого! Меня восхитил Мордвинов. Слабый призывает к ответу сильного. Ценой собственной жизни. В этом истинная поэзия.
Кибитка встала. Друзья прибыли в Кишинев. Волей-неволей пришлось помириться.
Осень всегда благотворно действовала на Пушкина. Чуть только на дворе начинали кружиться желтые листья или дождь лупить по верхушкам деревьев, он запирался дома, носа не казал на улицу и погружался в себя. Но на юге осень тепла, как разогретый солнцем бок абрикоса. Вот вроде бы и пора писать, а за окном еще солнце, и люди, и соблазнительный мир без штормов. Поэт чувствовал себя кусочком железа, вокруг которого помещено несколько магнитов, тянущих его в разные стороны. Усилием воли он заставлял себя каждое утро, спозаранку, работать, лежа в постели. Потом вскакивал, одевался и возвращал занятое у дня время веселью. Так он жил одной ногой в осени, другой в лете, отдавая Богу богово, а кесарю кесарево.
Это не только не утомляло, но и будоражило нервы. Крайности выявляют суть вещей. Неожиданно в Одессу нагрянул Липранди, которого Воронцов взял на службу, и поэт сговорился с ним вместе съездить в Кишинев за вещами. Там они застали много перемен.
Город притих. Инзов на время отбыл в Петербург, сдав команду новому наместнику. Еще в июле граф не без содрогания наведался в сердце молдавских степей. Дом, где он остановился на ночь, по утру штурмом взяла толпа просителей. Они кричали все разом, жаловались на беззаконие и угрожали не выпустить генерал-губернатора из города, если тот сегодня же не раскроет тюрьму и не рассудит всех, кого туда посадили.
– Да у меня и Собрания Узаконений с собой нет! – опешил Воронцов.
– А ты суди по совести! – кричали ему из толпы. – Совесть-то у тебя есть?
Пришлось судить. Неделю кряду. Наместник устал, как будто на нем пахали. Но не считал время потраченным зря. Благодаря глупейшим делам, вроде похищения цыганами овец кишиневского уроженца Раича и продаже их в таборе беженцев на шапки, он узнал о нуждах края больше, чем мог выяснить за год, сидя в Одессе. Пришлось менять полицмейстера, частных и квартальных надзирателей, за взяточничество закрывать суды.
«Инзов, может быть, старик и добрый, но совсем не попечительный, – писал Михаил жене. – Не могу рассказать тебе всех мерзостей, которые тут нашел. Разбойники запросто разъезжают окрест, обирают целые деревни и наведываются в город. Люди живут скученно, отсюда грязь и пороки всякого рода. Детьми торгуют, как при турках. Содержат гаремы. И все на глазах у властей. Ух, дурно!»
За первый приезд удалось немного. Чуть разгрузить город от беженцев, отправив их караваны к другим местам – в Аккерман и Килию. Разогнать пару притонов – турецких бань и кофеен, – где продавали краденое и предлагали услуги самого извращенного восточного вкуса. Все это рассказал приятелям полковник Алексеев, которого Пушкин и Липранди первым делом нашли в Кишиневе.
– Да что же наш Инзушка? – расстроился Пушкин. – Неужели его сняли? – Он был крайне опечален судьбой доброго генерала. – Ведь это несправедливо. Его, должно быть, Воронцов обнес перед правительством.
– Сами вы несправедливы, сударь, – возразил Липранди. – Воронцов получил приказ сменить Инзова в Петербурге, задолго до того как приехал сюда.
Но неприятный осадок остался на сердце у поэта. Человека, который дал ему защиту и кров, выгнали с места, без всякого уважения. Ему на смену пришел другой – властный и энергичный, без малейшего снисхождения к слабостям. Он уже заранее не нравился Александру Сергеевичу. Да и причесанный Кишинев тоже.
Решено было наведаться к Варфоломею. Потанцевать вечером. Обменяться парой слов с прекрасной Пульхерицей. Пестрый дом, в котором она жила под Инзовой горой, собирал все приличное общество города. Егор Варфоломей некогда стоял с булавой на запятках кареты ясского господаря Мурузи, но потом разжился на хлебных поставках.
Время близилось к шести, уже съезжались гости. Огромная веранда, пристроенная к жилищу, заменяла зал. Резные деревянные столбы, поддерживавшие крышу, были увиты виноградом. Его шершавые листья жухли на ветру, но вечера все еще казались теплыми. По углам павильона стояли длинные столы, за которыми подавали угощение. Центр был освобожден для танцев.