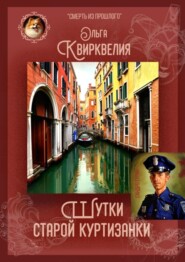По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Историческая наука и теория социальных эстафет М. А. Розова
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Традиция фиксировать внимание на уникальности исторических событий и, более того, только уникальные события считать историческими, идет из глубины веков. Н. И. Кузнецова отмечает, что «Геродот дал образец записи в социальную память неповторимого события гражданской жизни». Если учесть, что Геродот – отец истории, то можно сказать, что история с рождения связана с понятием неповторимости. Правда, в понятиях неповторимости и уникальности нет полной тождественности, однако значительная общность их семантических полей стимулирует осознанную или имплицитную тенденцию подмены первого вторым. Выше уже приведены рассуждения на этот счет В. В. Косолапова, и если в работах по методологии истории ему противостоят мнения М. А. Барга, различающего факты уникальные и массовые, и И. А. Гобозова, считающего, что «если в распоряжении ученого оказывается недостаточное количество материалов по исследуемому историческому факту, то он путем его сопоставления со сходным фактом может получить необходимое знание о данном факте. Допускается сравнение близких по времени и пространственному расположению событий и фактов, а не вообще любых фактов», в которых признается если не абсолютная, то относительная не-уникальность некоторых из них. Но декларативные утверждения в конкретных исследованиях более категоричны: Слово о полку Игореве – уникальный памятник древнерусской литературы, изобретение книгопечатанья, убийство Генриха IV – уникальные события…
Но может ли вообще быть историческое исследование, если его элементарные события уникальны? По всей вероятности, нет. По мнению П. Гардинера, «уникальные действия… не могут быть подведены под общие законы». Во всяком случае, все методики исторического исследования построены на сопоставимости и сопоставлении исторических событий. Авторство уникальной Повести временных лет устанавливается либо на основании сопоставления ее с Житием Феодосия, написанного Нестором, либо на сходстве идейных позиций автора Повести временных лет и первого киевского митрополита Илариона. Вопрос о подлинности уникального Слова о полку Игореве решается, в частности, на базе его сравнения с летописями, сохранившими аналогичные обороты и даже сходные ошибки переписчиков. И уж совершенно обычным является анализ влияния рассматриваемого исторического события на все последующие. Так, В. И. Вернадский пишет: «историк не может выдвинуть вперед изучение фактов или идей, по существу более важных, широких или глубоких даже в тех случаях, когда он может уловить их значение, если только эти факты не оказали еще соответствующего влияния на развитие научной мысли. Он должен явиться строгим наблюдателем происходивших процессов, он должен останавливаться только на тех явлениях, которые уже отразились определенным, явно выразившимся образом, влияние которых может быть прослежено во времени». Речь здесь идет об истории науки, но высказывание может быть распространено и на всю историческую науку. Имплицитно эта тема, т. е. требование, чтобы историческое событие служило образцом для последующей деятельности, присутствует в дискуссии о значимости исторического факта.
Таким образом, рефлексия историков представляет исторический процесс в следующем виде: происходит некое уникальное историческое событие, которое становится образцом для ряда последующих событий. Затем происходит новое уникальное событие и так далее. Как я пыталась вкратце показать, такая ситуация отсутствует в конкретных исторических исследованиях, целиком построенных на сравнении и сопоставимости событий. Однако заметно и то, что упор в них делается все-таки на функционировании данного события как образца для последующих, но не как воспроизведение образца событий предшествующих.
Как кажется, причины этого хорошо указал В. И. Вернадский, который дал объяснение появлению «уникальных» открытий в науке: «эти открытия делались в среде, далекой и чуждой обычным организациям ученой или общественной работы. Они делались людьми, находившимися вне общества того времени, вне круга тех людей, которые, казалось, строили историю человечества, создавали его мысль. Они делались простыми рабочими, ремесленниками, почти всегда не получавшими обычного в то время образования… делались людьми – изгоями общества, выбитыми из колеи… На смену погибавшему мировоззрению шло новое и несли его люди, имевшие свои корни в незаметно выросших, наряду с тогдашними научными организациями, формах». И опять-таки это наблюдение можно распространить на всю историческую науку.
Следовательно, даже в тех случаях, когда некое явление представляется нам не имеющим корней, не имеющим предшественников, это означает всего лишь, что мы их не знаем.
2. Конкретно-исторические закономерности и формы их проявления
Не менее остро на сей день стоит вопрос об одной из основных целей исторического исследования – выявлении конкретно-исторических закономерностей. М. А. Барг отмечает, что в качестве открыто сформулированного вопроса методологии истории эта проблема была поставлена позитивизмом. В его рамках проводилось различение обобщающих общественных наук и описательных. К последним относилась и история, задачей которой признавалось «объяснение через закон». Затем, однако, в буржуазной исторической науке возобладала тенденция к отказу от признания существования конкретно-исторических закономерностей, олицетворением которой можно считать В. Дильтея. В ее же русле находится и противопоставление номотетических и идиографических наук: «первые учат тому, что повторяется, последние – тому, что было однажды». Уильям Дрей занимает промежуточную позицию, говоря о том, что для истории характерны «слабые» законы и законоподобные утверждения в рамках индивидуального события.
Однако и среди исследователей, занимающих другую позицию, признающих существование конкретно-исторических закономерностей, нет единства. Ряд исследователей склонен отождествлять конкретно-исторические и общесоциологические закономерности. Другие же утверждают, что между ними есть разница. М. А. Барг считает, что она проявляется в уровне исследования: если социологические законы описывают исторический процесс на уровне всеобщего, то конкретно-исторические закономерности – на уровне особенного. По его мнению, «законы, изучаемые исторической наукой, задают и объясняют весь спектр отклонений регионального (локального) исторического процесса от „должного“, его социологического течения». В принципе, близко к нему и мнение В. Ж. Келле и М. Я. Кальвазона: «исторический материализм не может… ограничится лишь анализом общих законов, выражающих единство исторического процесса, его общую направленность, выявляющих его внутреннюю логику. Чтобы служить познанию конкретной истории, теория должна, во-первых, объяснить ее многообразие и, во-вторых, раскрыть диалектику единства и многообразия исторического процесса».
В. В. Косолапов определяет соотношение социологических и конкретно-исторических законов так: конкретно-исторические закономерности, являясь в существенном воплощением социологических законов, отражают конкретные исторические обстоятельства. Делаются также попытки интерпретировать это соотношение в категориях сущности и явления.
Е. М. Жуков также считает, что каждая специальная историческая наука вскрывает и изучает более частные закономерности, относящиеся не к обществу в целом, а к конкретным сторонам его деятельности. Это относится и к истории, законы которой вскрывают механизмы действия общесоциологических законов в конкретно-исторических условиях и образуют систему соподчиненных взаимосвязанных и взаимообусловленных исторических закономерностей более или менее частного характера, относящихся к отдельным формам общества или стадиям его развития.
Как можно заметить, среди всех критериев определения конкретно-исторических закономерностей наибольшее внимание привлекает пространственный. Собственно исторические законы подразделяются на три группы. Первую составляют закономерности универсального (над-регионального) действия. К закономерностям второй группы относятся закономерности, повторяемость которых ограничена пределами одного стадиально-формационного региона. Закономерности третьей группы – закономерности сугубо регионального действия. Предлагается также классификация закономерностей по времени их действия, по ареалу действия, по формам проявления, по механизму действия. Пространственно-временную ограниченность конкретно-исторических закономерностей отмечают многие исследователи.
По мнению А. Я. Гуревича, историческая закономерность «вырастает из взаимодействия многих закономерностей, управляющих различными системами: она складывается на основе действия не одних лишь социологических законов, но также и закономерностей чисто хозяйственных, демографических, закономерностей биологической и психической жизни человека, духовной жизни общества, законов природы, во взаимодействие с которой вступают люди. Только совокупность действия всех этих закономерностей (которые и сами по себе не изолированы от других) порождают историческое движения. Конкретная историческая закономерность есть результат пересечения, сочетания закономерностей разных систем.
В результате такого подхода, т. е. упования только на конкретизацию общесоциологических законов и отказа от поиска специфических исторических закономерностей, сфера потенциального выявления конкретно-исторических закономерностей оказывается существенно уже реальной практики, реального фактического материала исторических исследований. Остается выяснить, на основании каких социологических законов должен решаться вопрос о том, кто был автором Повести временных лет – Сильвестр, Нестор или еще кто-нибудь? Как выглядел протограф Повести 1606 года? Где пролегали караванные пути? и т. д., т. е. как решать традиционные, повседневные исторические задачи, особенно не ориентированные на классовую борьбу, экономику и т. п. Представляется, что сфера действия общесоциологических законов глобальней, глубже, но одновременно и уже, чем сфера действия конкретно-исторических закономерностей.
Кроме того, если конкретно-исторические закономерности есть только конкретизация общесоциологических законов для данных условий, то о какой прогностической функции исторической науки может идти речь? В таком случае прогностическая функция есть только у общесоциологических законов. И. А. Гобозов же считает (и я в этом с ним солидарна), что «анализ прошлого позволяет нам исследовать закономерности настоящего и наметить пути развития будущего».
Но каково же содержание этих специфических конкретно-исторических закономерностей? Представляется, что закономерности передачи от поколения к поколению унаследованной деятельности, закономерности изменения деятельности и ее условий, закономерности взаимовлияния и взаимообусловленности различных видов деятельности и деятельности в целом и конкретных условий и есть специфические конкретно-исторические закономерности. Посмотрим, как наполняется конкретным содержанием это утверждение в том случае, если в качестве элементарного исторического события мы рассматриваем воспроизведение образца. В этих рамках аналогом конкретно-исторических закономерностей выступают социальные эстафеты. Генетическое родство этого высказывания с теорией традиций очевидно. Однако в рефлексии самих историков оно выражено значительно слабее. В основном внимание исследователей привлекает соотношение общесоциологических законов и конкретно-исторических закономерностей. Как представляется, речь должна идти не о принципиальных расхождениях, а о разных акцентах: в силу уже указанной ориентации большинства историков на поиск уникального, особенного, они не заостряют внимания на вопросах принципиального характера: 1 – кто и кому передает образец; 2 – что именно передается. И хотя в конкретных исследованиях без ответа на эти вопросы не обойтись, в размышлениях на эту тему своей науки историки их игнорируют.
Есть в теории социальных эстафет М. А. Розова одно немаловажное положение: «Эстафеты обладают избирательностью, ибо образцы деятельности и поведения реализуются только применительно к определенным условиям… С одной стороны, любой акт деятельности, как правило, осуществляется при новых обстоятельствах, ассимилирует новые элементы среды, но с другой – новые элементы должны быть подобны тем, которые имели место в акте-образце. Эти последние выступают как факторы выбора, определяющие применительно к новым условиям реализацию того или иного образца». И далее: «Относительно стационарные эстафеты возможны только при сохранении одного и того же нормативного контекста». Это чрезвычайно важное положение, так как оно позволяет перекинуть мостик от изучения событий во времени к анализу временных срезов. «Термин „эстафета“ ориентирует на процессуальность, на воспроизведение некоторого состояния во времени. „Нормативная система“ – это, наоборот, фиксация статики, фиксация синхронного среза… Существуют, следовательно, по крайней мере два пути: можно изучать процессы в историческом развитии или же те среды, те объекты, которые в эти процессы включены в тот или иной момент, в том или ином синхронном срезе».
Суммируя вышеизложенное, можно выявить основные спорные вопросы в рассматриваемых дискуссиях. Важным представляются вопросы о критериях выявления исторических фактов, об их уникальности, элементарности, об их типологии, соотнесенности их с историческими событиями, о понятии социальной значимости. Следствием неопределенности критериев выявления исторических фактов является их несопоставимость как в рамках одного исследования, так и тем более в рамках исторической науки в целом. Несопоставимость же влечет за собой как некорректность исследования, так и отсутствие возможности обобщающих построений.
Отсутствие решения вышеперечисленных вопросов, определяющих всю тактику построения «атомарного» уровня исторического исследования, заставило меня попытаться выяснить, как решаются они на практике – этому посвящена следующая глава данной работы, – отказавшись от понятия «исторический факт» как неопределенного и содержательно перегруженного. Однако основной вывод, который можно сделать из приведенного выше краткого обзора, – необходимость разработки основ (теоретических и методологических) «атомарного» уровня исторического исследования. Представляется, что именно неразработанность послужила одной из основных причин вялого поиска историками специфических конкретно-исторических закономерностей.
Вопросы об «атомах» исторического исследования и о конкретно-исторических закономерностях в разработках, как правило, разъединены, однако их взаимосвязь несомненна. Вероятно, и отрицание существования конкретно-исторических закономерностей, и сведение их к общесоциологическим законам, и неоднозначность трактовки конкретно-исторических закономерностей коренятся в неопределенности «атома» исторического исследования. Если закон есть внутренняя существенная и устойчивая связь явлений, обуславливающая их упорядоченное изменение, то для его формулирования необходимо хотя бы определить, что понимать под явлением в историческом исследовании, иначе сложно представить себе внутреннюю существенную и устойчивую связь между чем и чем предстоит выявлять историку. И здесь опять-таки наиболее рациональным мне кажется обращение к конкретным историческим исследованиям.
Однако в основе любого анализа фактического материала лежит некая гипотеза. Поэтому я буду рассматривать труды историков исходя из следующего рассуждения: краткий обзор мнений историков, в основном отечественных, по поводу содержания понятий «исторический факт» и «конкретно-историческая закономерность» приводит к выводу, что они имплицитно представляют собой элементы некой картины мира, основным смыслом которой является передача образцов деятельности и ее продуктов от поколения к поколению, т. е. во времени, а также в пространстве. Естественно было бы тогда поискать ту теорию, в рамках которой могла бы существовать подобная картина мира. Именно к этому мы и перейдем в четвертой главе данной работы.
Глава 3 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ И КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
ПРАКТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной главе я полностью откажусь от использования понятий «исторический факт» и «конкретно-историческая закономерность», заменив их соответственно понятиями «образец» и «эстафета». Их генетическая и гносеологическая связь была показана в предыдущей главе. В то же время слабая концептуальная нагруженность последних позволяет с большей уверенностью в однозначности интерпретации идти за фактологическим базисом. На данном этапе это никоим образом не означает, что мы исходим из теории социальных эстафет – ее применимость в исторической науке еще предстоит доказать, – просто предлагаемые понятия наиболее нейтральны для историков и в то же время образно доступны. Однако, если выяснится, что понятия «образец» и «эстафета» применимы в исторической науке, это будет служить аргументом в пользу применимости и самой теории социальных эстафет.
1. История. Археология. Этнография
В собственно исторических исследованиях эстафеты и образцы присутствуют в явной, очевидной форме в работах, посвященных изучению длительного отрезка времени. Безусловно, можно найти их и в остальных трудах, но демонстрировать данное утверждение лучше на работах первого вида.
Обратимся прежде всего к одному из классиков отечественной исторической мысли – С. М. Соловьеву, а конкретнее – к его реконструкции княжеских отношений в Древней Руси. Здесь высказана основная ориентация С. М. Соловьева в научном поиске – ориентация на поиск образца, по которому можно было бы выявить общую закономерность. Наблюдения сделаны С. М. Соловьевым двумя способами: распространением единичного высказывания на общую ситуацию, т. е. предполагая, что данное высказывание «вписано» в эстафету восприятия всех князей, и сопоставлением эпизодов из жизни разных князей с целью выявления неких закономерностей, основанным на предположении, что сходство в судьбах, сопровождающееся сходством в положении на иерархической лестнице, есть факт воспроизведения некоего образца.
Здесь мы сталкиваемся с примечательным явлением – реконструкцией образца как одной из специфических научных исторических процедур. А коли она есть – есть и ориентация на изучение образцов. Вопрос только в том, что для ее «вступления в силу» необходимо выдвинуть предположение, что некий образец существует. И наиболее сильные историки, как правило, его выдвигали.
Очень интересным примером поиска образцов может служить монография Й. Хейзинга «Осень средневековья». В ней представлена просто россыпь наблюдений, самым прямым образом связанных с темой данной работы.
В целом же, в собственно исторических исследованиях тенденция к поиску образцов и выявлению эстафет прослеживается весьма отчетливо. При этом не следует думать, что поиск образцов – удел только историков, занимающихся древними и средневековыми периодами истории человечества. Много примеров аналогичного подхода можно встретить и при обзоре работ советологов.
Анализ эпохи сталинизма, как правило, ведется ими не как анализ самостоятельного явления, а как продолжение, воспроизведение образцов, возникших в предшествующее время. Естественно, в качестве образца наиболее часто рассматривался
ленинизм. В самом отчетливом виде эта позиция просматривается в работах В. Юриана, в той или иной степени ее придерживаются И. Урбан и Дж. Боффа. В отличие от них Р. Такер видел разрыв преемственности между большевизмом и сталинизмом, даже пропасть между ними и, соответственно, искал образцы сталинизма в царизме и других формах монархического правления.
Не могут обойтись без обращения к образцам и такие работы, которые охватывают события на значительном хронологическом отрезке или в широких пространственных рамках. В этом случае массовость, разнородность, а зачастую и несопоставимость источников и их сведений требует внесения некоего упорядочивающего начала, каким и может выступать образец. Подобный подход мы видим в работе, посвященной изучению брака и семьи в западноевропейских странах с древнейших времен до наших дней. Естественно, что при таком хронологическом размахе в работе не могут быть затронуты все аспекты данной темы, поэтому автор сосредоточил внимание на традициях – с одной стороны, и на правовых основах – с другой. Взаимодействие образцов, обладающих разной скоростью трансформации – основной центр его внимания. Отмечу, что здесь мы имеем дело со стыком традиции и образца – стыком, о котором еще будет говориться в следующей главе.
Историко-этнографическое исследование Ф. Броделя «Структура повседневности: возможное и невозможное» также насыщено примерами изучения образцов. Отметим, что здесь присутствуют многие элементы теории социальных эстафет – скорость распространения эстафет в различных социальных средах, ограниченность поля реализации образцов, важная роль нормативных систем.
Монографию Б. А. Рыбакова «Язычество древней Руси» можно отнести к историко-археологическим исследованиям, хотя многие элементы в ней связаны и с этнографией, и с письменной историей. В предшествующей ей работе того же автора «Язычество древних славян» Б. А. Рыбаков на многочисленных примерах показывает воспроизведение одного и того же культового образца в археологических, этнографических и исторических источниках. В следующей работе Б. А. Рыбаков на многочисленных примерах показывает воспроизведение одного и того же культового образца в археологических, этнографических и исторических источниках. Например, цепочка «охотник, ряженый зверем (наскальный палеолитический рисунок) – новогодняя маска „велесова дня“ – святой Власий в христианской религии» показывает многовековую историю бытования и трансформации «скотьего бога». В следующей работе он концентрирует внимание на взаимоотношениях и взаимосвязях язычества и христианства в древней Руси. При этом он делает весьма важное наблюдение: «При ретроспективном рассмотрении с опорой на хронологические ориентиры выяснилось принципиально важное обстоятельство: эволюция религиозных представлений происходила не путем полной их смены, а путем наслаивания нового на сохраняющееся старое. В результате в этнографическом материале выявились реликты представлений охотников палеолита.., мезолита.., первых земледельцев энеолита и многое из последующего, более близкого к нам времени. Глубина народной памяти оказалась значительной».
Вполне понятно, что в указанных случаях речь идет о трансформации и трансляции образца из одной нормативной системы в другую, из одной эстафеты в другую, причем сам образец также изменяется.
Продолжая тему образцов в изучении религиозных представлений, обратимся к статье Р. М. Айдиняна «Понятие религии и генезис религиозно-мистических представлений». При этом обратим внимание на периодизацию и определение последовательности форм религии. В целом существует достаточно много различных исторических периодизаций форм религии. Р. М. Айдинян выбирает в качестве «путеводной нити» принцип восхождения от конкретного к абстрактному и принцип персонификации представлений и понятий. На первом этапе человек персонифицирует в вещи (живой или неживой) отображение внешних свойств и связей. Здесь есть реальная почва для возникновения фетишизма. На следующем этапе абстрагирования свойств вещи от самой вещи и персонификации этих свойств возникает манизм. Далее душа противопоставляется телу и наделяется самостоятельным бытием – возникает анимизм. А затем душа, персонифицируясь, еще больше отрывается от тела – этот путь ведет через демонизм к теизму.
Казалось бы, данные положения никак не связаны с основной темой нашей работы – «атомарным уровнем исследования в истории». Однако это не так. В своей основе мы здесь имеем дело с трансформацией образца. Человек обладает сознанием, душой, возможностью действовать – и «по своему образу и подобию», а точнее – по образцу, наделяет этими же свойствами элементы окружающего мира, что и отражает фетишизм. Боясь впасть в чересчур упрощенное изложение, я не буду вдаваться в детальное рассмотрение форм религии как форм реализации образцов самосознания человека – это тема отдельного разговора, тем более, что многое здесь уже сказано Э. Тейлором, Дж. Фрезером и другими. Однако связь между наглядно неовеществленными явлениями – ветром, теплом, холодом, – и манизмом, сновидениями и анимизмом, по всей вероятности, имеет место.
Данный пассаж приведен мною как пример того, что в ряде случаев (более того, наиболее часто) образцы неких действий следует искать в пограничных сферах – развитии человеческого сознания, языка, в соответствующих природных и социальных условиях. В последней главе данной работы я постараюсь показать это на примере анализа погребальных комплексов.
В области археологии достаточно сложно найти работу, которая в той или иной степени не обращалась к поиску образцов – что в отечественной науке, что в зарубежной. Работа Х. Хундта посвящена анализу влияния типов переднеазиатских бронзовых топоров на развитие подобного оружия в дунайской области. Рассматривая переднеазиатские топоры как образцы для изготовления топоров дунайских, автор показывает, что последние не могли развиться самостоятельно, поскольку попытки найти образцы для них среди местного материала, – в виде каменных ли топоров, в виде ли техники обработки других типов бронзовых изделий, – не увенчались успехом. Здесь интересно, что исходной аксиомой исследования является требование наличия образца у исследуемого объекта.
Несколько иначе ставит вопрос Д. Клер. Изучая проблемы адаптации первобытного человека к климатическим условиям по материалам каменных орудий труда, автор опирается скорее на анализ нормативных систем, полей возможных реализаций того или иного образца. Смена климатических условий неизбежно влечет за собой смену типа хозяйственной деятельности, а значит, и смену типов орудий труда. Здесь и появляется возможность рассматривать процесс трансформации образцов.
2. Историография. Источниковедение. Вспомогательные исторические дисциплины
Начнем свое рассмотрение с историографии. Вот, например, монография В. И. Буганова «Отечественная историография русского летописания». Не имея возможности в кратком изложении дать разбор всего текста, остановимся на анализе отечественной историографии начального русского летописания. Более того, поскольку изучение летописей может вестись в самых различных аспектах, сосредоточим свое внимание на историографии источниковедческого метода.
Родоначальником изучения начального русского летописания В. И. Буганов считает В. Н. Татищева. Основной метод В. Н. Татищева – сравнение списков. В этих построениях интересны два аспекта – не только передача образцов источниковедческой критики, но и их совмещение, порождающее новый образец, дающий начало новой эстафете. С другой стороны, при анализе историографии источниковедения особенно наглядно видно, что источниковедение полностью ориентировано на поиск образцов, настолько, что даже если их нет в реальности – их требуется реконструировать, пусть с нарушением общенаучной логики исследования. Можно сказать, что поиск образцов – основная скрытая парадигма источниковедения.
Несколько сложнее анализировать историографию историографии. Возьмем для примера монографию Р. А. Киреевой «Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г.». Посмотрим, как излагается в ней проблема выявления историографических направлений в трудах дореволюционных историков.
В качестве основного вывода подчеркну, что историографические исследования необходимо лежат в русле поиска образцов и их воспроизведений, т. е. эстафет. И не только потому, что этому способствует сам материал, содержательно унифицированный, но и реальная ситуация истории исторической (как, впрочем, и любой другой) науки: историк неизбежно основывается на наблюдениях и выводах своих предшественников, либо принимая их и подтверждая, либо трансформируя, либо строя доказательство «от обратного». В любом случае он «работает» с полученным образцом. Но так ли обстоит дело в других областях исторической науки? Перейдем к рассмотрению ситуации в источниковедении.
Один из основных методов источниковедческого анализа – текстологическое изучение. Его изложению посвящена монография Д. С. Лихачева «Текстология». Приведем его описание основных приемов текстологического анализа.
«Основа текстологического изучения произведения – это сличение списков». На этой основе производится выявление копии, редакции, извода, архетипа, протографа и авторского текста. Сравниваются между собой и тексты разных произведений – как с целью выяснения их взаимоотношений, так и с целью обнаружения языковых норм соответствующего времени или места. В результате текстологического анализа строятся генеалогические стеммы, отражающие взаимоотношения списков. Поиск образца и сравнение с ним, анализ трансформации образца выходит на первый план при интерпретации соотношения текстов. Немаловажное значение имеет сравнение текстов и при установлении правильного чтения.
Из изложенного ясно, что весь текстологический анализ есть работа с образцами. Даже построение генеалогических стемм – это графическое воспроизведение схемы трансформации образца. В данном случае нас особенно интересует различение Д. С. Лихачевым типов передачи образцов – в разделе, посвященном анализу происхождения ошибок: действительно, если ошибки переписывания возникают при передаче образца по «продукту» деятельности, т. е. в ходе простого прямого копирования, то ошибки осмысления возникают при совершенно других механизмах передачи образцов. Но об этом мы будем говорить в следующих главах.
Важно также обратить внимание на тот факт, что далеко не всегда акты воспроизведения одного и того же образца суть одинаковые действия или, иначе говоря, элементы одной и той же эстафеты. Д. С. Лихачев различает не только механическое переписывание и осмысление, но и редакторскую правку текста, и литературную переработку. Результат всех этих действий в конкретном тексте может быть внешне один и тот же, но полученный совершенно разными способами… Таким образом, один и тот же фрагмент текста, кочующий из списка в список, из произведения в произведение может выступать каждый раз в виде образца разного типа действия – копирования, осмысления, переработки, а то и просто восприятия событий или типа их отображения.
Д. С. Лихачев свидетельствует об еще одной важной стороне источниковедческого анализа – о возможности выявить, что не только источниковеды, но и древнерусские переписчики действовали сугубо по образцам. Вот как он описывает работу писца: 1 – писец прочитывает отрывок оригинала; 2 – запоминает его; 3 – внутренне диктует самому себе текст, который он запомнил; 4 – воспроизводит текст письменно.