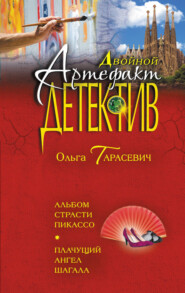По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роковой роман Достоевского
Автор
Серия
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Открывая дверь, Артур мысленно загадал: если внутри плачет потолок или обмочились батареи – он еще потерпит. Если же случится первое и второе одновременно – пойдет к Галке писать заявление об уходе. Наплевать на гонорары хорошие, на популярность издания и на Аничков мост, зависший практически под окном. Он уволится, потому что ему наскучило все время ликвидировать потопы. И кашлять от сырости, кстати, тоже надоело!
Внутри, к огромному облегчению Артура, все оказалось почти в полном порядке, пара плевочков обвалившейся штукатурки на столе – не в счет, смахнуть и забыть.
Он уселся на стул, забросил ноги на подоконник и с наслаждением закурил. Сложное это дело – писать журналистские расследования. Набегаешься, как собака, по всем этим потерпевшим, ментам, следователям. Но и платят за такие статьи хорошо, и репутация уже ого какая. Есть два предложения о трудоустройстве от конкурентов. Тем не менее бросать «Желтую газету», несмотря на невыносимые бытовые условия, пока не стоит – здесь самые высокие гонорары и самый большой тираж. И кабинет, кстати, отдельный. Правда, нарисовался тут сосед-фотокор, чьи апартаменты залило, но это ненадолго. В общем, в Питере круче газеты нет. А в Москву пока не зовут. Впрочем, кстати, не очень-то и хотелось!
– Загораем? Очень хорошо!
Артур, окинув появившуюся в кабинете Галку быстрым взглядом, сразу же понял: дело плохо. Лицо у редакторши суровое. Брови домиком, тонкие губы поджаты, короткие волосенки агрессивной черно-рыжей окраски воинственно топорщатся. Короче, жди беды.
«Опять, наверное, неточности в статье, – предположил Артур. Он снял ноги с подоконника и постарался придать лицу покорный вид, авось смягчит тяжесть нагоняя. – А может, даже в суд подали, вот начнется нервотрепка…»
– Дорогой, – Галка присела на стул, стрельнула из пачки сигарету, – зажигалка где? Спасибо… Так вот, дорогой мой Артурчик. Ты же знаешь, как я тебя люблю и ценю. Знаешь?
Крылов с готовностью кивнул и пододвинул поближе к начальнице серебристую пепельницу.
– Я тебя люблю и ценю. И мне прекрасно известно, какая именно у тебя специализация. Но ты должен войти в мое положение. Репортерша заболела, а светскую хронику все равно надо делать. Читателям интересны не только твои разоблачительные расследования, но и подробности из жизни светских персон. Сечешь, к чему это я?
– Ага. – Артур радостно улыбнулся. – Схожу, куда надо, не боись. А то ты пришла вся из себя серьезная и суровая. Я решил, что в суд подали.
Галка выпустила облачко дыма и хрипло рассмеялась.
– Это у меня стратегия такая – напугать, а потом своего добиться. Записывай. Завтра, в шесть вечера, книжная ярмарка, презентация романов Лики Вронской. Позвони Кириллу, пусть тоже подъедет и «пощелкает». И сам, конечно, повнимательнее: чем кормили, что наливали. Ну, не тебе объяснять, впрочем! Подожди… – Редакторша пристально всмотрелась в лицо Артура и недоуменно пожала плечами. – Ты как будто даже рад?
– Конечно. Главное, что не суд, а все остальное переживу!
– Хм… меня терзают смутные сомнения. Но ладно, пойду работать. Свет вот-вот врубят, текстов нечитаных куча.
– Давай, дорогая. – Артур солнечно улыбнулся.
Дождавшись, пока за Галкой закроется дверь, он покачал головой. Вот ведь стерва глазастая, ни одна мелочь от нее не ускользнет. Но на данный момент объяснять редактору ничего не хотелось. Когда получит информацию, подготовит материал – вот тогда пусть Галка бьется в судорогах восторга. А статейка должна быть забойной, источник информации прежде ни разу не подводил…
Он вытащил из пачки еще одну сигарету и с удивлением заметил: руки-то трясутся. И неожиданно сильная тревога вдруг заскреблась в душе. Но в ту же секунду пискнул компьютер, под потолком в рыжеватых разводах замигали, включаясь на полную мощность, лампы. И Артур, позвонив фотокору по поводу предстоящего мероприятия, с головой ушел в работу.
Глава 2
Петербург, декабрь 1849 года, Федор Достоевский
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…[12 - Из «Послания Белинского к Достоевскому», шутливого стихотворения, сочиненного Тургеневым и Некрасовым.]
Сейчас мне уже не больно вспоминать эти строки. Тургенев, Некрасов – они очень быстро из приятелей моих превратились в недругов, ездили по салонам, рассказывая, в том числе и всенепременно дамам, что я после «Бедных людей» возгордился безмерно. Некрасов к тому же еще и печатал в «Современнике» критические отзывы на «Двойника». Случилось же все это после того, как Белинский первый предал меня с Голядкиным.[13 - Главный герой повести «Двойник».] Как гром среди ясного неба, ведь хвалил отрывки из неоконченной работы!
Я откуда-то знал совершенно отчетливо, что все злобные мои критики совершенно не правы. Что дело тут вовсе не в моей молодой горячности и чрезмерном самолюбии, а в таланте силы неимоверной. С которым действительно немногие могут сравниться. Управляться с ним, со своим талантом, я хорошо еще не умел, некоторые листы «Двойника», написанные в усталости и мучительном истощении после болезни, действительно ужасны. Но вместе с тем повесть эта выше «Бедных людей», а понять не могут то ли из-за зависти, то ли из-за бедности собственного пера.
И особенно было досадно оттого, что Дунечка[14 - Авдотья Панаева, супруга литератора и журналиста Ивана Панаева, была первой серьезной любовью Федора Достоевского.] знала все, про критику, про насмешки. Все же, пресквернейшим образом, происходило прямо на глазах Авдотьи Яковлевны! Особенно любил меня шпынять красавец Тургенев. Он приезжал к Панаевым, и из-за его насмешек уже через каких-нибудь четверть часа я оказывался в прихожей и от ярости не мог попасть в рукава подаваемого лакеем пальто. Тогда скорее выдергивал одежду из рук слуги, чтобы скрыться за дверью, дабы Дунечка не заметила, как из глаз моих вот-вот готовы брызнуть слезы.
Дуня смеялась надо мною. Я видел насмешку в ее огромных карих очах, в небольшом ротике с чуть выдававшейся вперед полной верхней губкой, придававшей красивому чистому лицу выражение легкой надменности.[15 - Внешностью Авдотьи Панаевой Достоевский позднее наделил Дуню, сестру главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова.] Но чем невозможней становилась Дунина благосклонность ко мне, тем сильнее в воспоминаниях преследовали меня ее недостижимые губы, гладкие темные волосы, белоснежная тонкая шейка, обвитая нитью крупного чуть розоватого жемчуга.
Теперь нет во мне боли, судорог уязвленного самолюбия, горечи неразделенной любви. Напротив, я тих, спокоен и чувствую неимоверное умиротворение и готовность все принять. В Алексеевском равелине Петропавловской крепости я пишу «Детскую сказку»,[16 - Рассказ был опубликован под названием «Маленький герой».] в ней не видно ни мук, ни озлобленности, только чистая, как горный ручей, первая трогательная детская любовь.
Хотя, конечно же, долго я размышлял о том, почему оказался среди «петрашевцев» и отчего нынешнее положение мое совершенно темно и незавидно. И понял: никогда и никому не позволено отступать от Христа. И пусть даже скажут тебе, вот истина, совершеннейшая и очевидная истина, но это истина без Христа. Надо тогда все равно оставаться с Христом, а не с истиной. Да и не можно, строго говоря-с, истине быть без Христа. Его сияющая личность, муки за грехи человеческие и еще больше укрепленная в муках любовь – вот что есть истина. Все прочее – лишь туман заблуждений или суть учения Христова, но облаченная в иную форму.
Кабы понять это раньше! Но я забыл про Бога. Богом моим, и многих молодых людей, впрочем, тоже, был Белинский. А он в Господа не веровал, так как веровал в революцию, а революция всенепременно, как это всем известно-с, начинается с атеизма.
– Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено. Человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству. Нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел, – сказал мне как-то Белинский. А потом, распаляясь все больше и больше, добавил: – Да поверьте, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.[17 - Цитируется по С.В. Белову, «Федор Михайлович Достоевский».]
Я то любил Белинского, то досадовал на него. Но даже когда досадовал, авторитет его для меня являлся весьма и весьма значительным. Последний год своей жизни Белинский совсем меня не звал к себе, а без приглашения являться не пристало. И вот все чаще по пятницам стал захаживать я к Буташевич-Петрашевскому. Читали Гоголя, говорили о Фурье. Я там скучал, пока не сблизился с мрачным красавцем Спешневым. И уже внутри кружка Петрашевского возник еще один кружок, более радикальный, и я к нему с радостью примкнул. Измученный равнодушием публики к моему творчеству, жаждущий сделать что-то значительное, раз с романами покамест не получилось, я всецело отдался новым прожектам.
За попытками устроить свою типографию мы особо не задумывались, как будет выглядеть совместная наша работа. Кто-то говорил о революции, кто-то мечтал об отмене крепостного права. Знали только все мы, что желаем добра своему Отечеству.
В день ареста я вернулся домой поздно, лег спать и тотчас заснул. Но вот гулко звякнула сабля, и в комнате моей зазвучали чьи-то голоса. Открыв глаза, увидал я квартального или частного пристава с красивыми бакенбардами, а еще господина с подполковничьими эполетами и в дверях – солдата. Подполковник сказал:
– По повелению-с.
Пока я одевался, перерыли незваные гости мои книги, золу поворошили в печи, взяли стопку писем. На столе был оставшийся от занятого долга пятиалтынный. Заинтересовались и им.
– Не фальшивый? – спросил я, уже одевшись.
– Надобно проверить, – ответствовал пристав.
Да-с, серьезные господа. Забрали пятиалтынный. Потом, конечно же, живо провели меня в карету. Приехали мы к Цепному мосту, а там уже было много народа и еще привозили.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – сказал кто-то.
А ведь и правда был Юрьев день.
Когда добрались до Петропавловской крепости, мрачной и сырой, когда увидал я серое арестантское платье в пятнах, услышал, как жалобно плачут колокола на Петропавловском соборе, решил, что и трех дней тут не выдержу, помру.
А потом все понял и успокоился. Брат Михаил передал мне книг, Евангелие. Вот тогда-то и открылось мне: за грехи платить надо, и нести свой крест полагается смиренно и покорно, не ропща, без сожаления.
На следственной комиссии обвинили меня в вольнодумстве и чтении письма Белинского к Гоголю, атеистического содержания.
Наверное, ожидает меня Сибирь и каторга. Раз так случилось, то надо смириться. Уныния нет во мне, хотя здоровье расстроилось пуще прежнего…
…В ту ночь отчего-то не сомкнул глаз. А под утро лязгнула дверь камеры, и, вошедши, солдат сказал:
– Для оглашения приговора надлежит прибыть.
Приговор? Скорее бы, скорей! Мочи нет терпеть неизвестность!
Но отчего так долго едем мы в карете? Пересекли Неву, направляемся к Семеновскому плацу. И люди, да, уже различимы, целая толпа на белоснежном, искрящемся от солнца снеге; скрипящий мороз превращает людское дыхание в клубы пара.
С трудом узнал я своих товарищей – «петрашевцев». Бледные, осунувшиеся. В их глазах – страх, и в моих, надобно полагать, тоже. Да как не забояться, когда в центре плаца – эшафот, а подле столбы, и поблизости – солдаты с ружьями.
Сердце мое тревожно замерло. Что-то случится со всеми нами, бедными?
– Отставного поручика Достоевского за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства приговорить к расстрелу!
Внутри, к огромному облегчению Артура, все оказалось почти в полном порядке, пара плевочков обвалившейся штукатурки на столе – не в счет, смахнуть и забыть.
Он уселся на стул, забросил ноги на подоконник и с наслаждением закурил. Сложное это дело – писать журналистские расследования. Набегаешься, как собака, по всем этим потерпевшим, ментам, следователям. Но и платят за такие статьи хорошо, и репутация уже ого какая. Есть два предложения о трудоустройстве от конкурентов. Тем не менее бросать «Желтую газету», несмотря на невыносимые бытовые условия, пока не стоит – здесь самые высокие гонорары и самый большой тираж. И кабинет, кстати, отдельный. Правда, нарисовался тут сосед-фотокор, чьи апартаменты залило, но это ненадолго. В общем, в Питере круче газеты нет. А в Москву пока не зовут. Впрочем, кстати, не очень-то и хотелось!
– Загораем? Очень хорошо!
Артур, окинув появившуюся в кабинете Галку быстрым взглядом, сразу же понял: дело плохо. Лицо у редакторши суровое. Брови домиком, тонкие губы поджаты, короткие волосенки агрессивной черно-рыжей окраски воинственно топорщатся. Короче, жди беды.
«Опять, наверное, неточности в статье, – предположил Артур. Он снял ноги с подоконника и постарался придать лицу покорный вид, авось смягчит тяжесть нагоняя. – А может, даже в суд подали, вот начнется нервотрепка…»
– Дорогой, – Галка присела на стул, стрельнула из пачки сигарету, – зажигалка где? Спасибо… Так вот, дорогой мой Артурчик. Ты же знаешь, как я тебя люблю и ценю. Знаешь?
Крылов с готовностью кивнул и пододвинул поближе к начальнице серебристую пепельницу.
– Я тебя люблю и ценю. И мне прекрасно известно, какая именно у тебя специализация. Но ты должен войти в мое положение. Репортерша заболела, а светскую хронику все равно надо делать. Читателям интересны не только твои разоблачительные расследования, но и подробности из жизни светских персон. Сечешь, к чему это я?
– Ага. – Артур радостно улыбнулся. – Схожу, куда надо, не боись. А то ты пришла вся из себя серьезная и суровая. Я решил, что в суд подали.
Галка выпустила облачко дыма и хрипло рассмеялась.
– Это у меня стратегия такая – напугать, а потом своего добиться. Записывай. Завтра, в шесть вечера, книжная ярмарка, презентация романов Лики Вронской. Позвони Кириллу, пусть тоже подъедет и «пощелкает». И сам, конечно, повнимательнее: чем кормили, что наливали. Ну, не тебе объяснять, впрочем! Подожди… – Редакторша пристально всмотрелась в лицо Артура и недоуменно пожала плечами. – Ты как будто даже рад?
– Конечно. Главное, что не суд, а все остальное переживу!
– Хм… меня терзают смутные сомнения. Но ладно, пойду работать. Свет вот-вот врубят, текстов нечитаных куча.
– Давай, дорогая. – Артур солнечно улыбнулся.
Дождавшись, пока за Галкой закроется дверь, он покачал головой. Вот ведь стерва глазастая, ни одна мелочь от нее не ускользнет. Но на данный момент объяснять редактору ничего не хотелось. Когда получит информацию, подготовит материал – вот тогда пусть Галка бьется в судорогах восторга. А статейка должна быть забойной, источник информации прежде ни разу не подводил…
Он вытащил из пачки еще одну сигарету и с удивлением заметил: руки-то трясутся. И неожиданно сильная тревога вдруг заскреблась в душе. Но в ту же секунду пискнул компьютер, под потолком в рыжеватых разводах замигали, включаясь на полную мощность, лампы. И Артур, позвонив фотокору по поводу предстоящего мероприятия, с головой ушел в работу.
Глава 2
Петербург, декабрь 1849 года, Федор Достоевский
Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ…[12 - Из «Послания Белинского к Достоевскому», шутливого стихотворения, сочиненного Тургеневым и Некрасовым.]
Сейчас мне уже не больно вспоминать эти строки. Тургенев, Некрасов – они очень быстро из приятелей моих превратились в недругов, ездили по салонам, рассказывая, в том числе и всенепременно дамам, что я после «Бедных людей» возгордился безмерно. Некрасов к тому же еще и печатал в «Современнике» критические отзывы на «Двойника». Случилось же все это после того, как Белинский первый предал меня с Голядкиным.[13 - Главный герой повести «Двойник».] Как гром среди ясного неба, ведь хвалил отрывки из неоконченной работы!
Я откуда-то знал совершенно отчетливо, что все злобные мои критики совершенно не правы. Что дело тут вовсе не в моей молодой горячности и чрезмерном самолюбии, а в таланте силы неимоверной. С которым действительно немногие могут сравниться. Управляться с ним, со своим талантом, я хорошо еще не умел, некоторые листы «Двойника», написанные в усталости и мучительном истощении после болезни, действительно ужасны. Но вместе с тем повесть эта выше «Бедных людей», а понять не могут то ли из-за зависти, то ли из-за бедности собственного пера.
И особенно было досадно оттого, что Дунечка[14 - Авдотья Панаева, супруга литератора и журналиста Ивана Панаева, была первой серьезной любовью Федора Достоевского.] знала все, про критику, про насмешки. Все же, пресквернейшим образом, происходило прямо на глазах Авдотьи Яковлевны! Особенно любил меня шпынять красавец Тургенев. Он приезжал к Панаевым, и из-за его насмешек уже через каких-нибудь четверть часа я оказывался в прихожей и от ярости не мог попасть в рукава подаваемого лакеем пальто. Тогда скорее выдергивал одежду из рук слуги, чтобы скрыться за дверью, дабы Дунечка не заметила, как из глаз моих вот-вот готовы брызнуть слезы.
Дуня смеялась надо мною. Я видел насмешку в ее огромных карих очах, в небольшом ротике с чуть выдававшейся вперед полной верхней губкой, придававшей красивому чистому лицу выражение легкой надменности.[15 - Внешностью Авдотьи Панаевой Достоевский позднее наделил Дуню, сестру главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова.] Но чем невозможней становилась Дунина благосклонность ко мне, тем сильнее в воспоминаниях преследовали меня ее недостижимые губы, гладкие темные волосы, белоснежная тонкая шейка, обвитая нитью крупного чуть розоватого жемчуга.
Теперь нет во мне боли, судорог уязвленного самолюбия, горечи неразделенной любви. Напротив, я тих, спокоен и чувствую неимоверное умиротворение и готовность все принять. В Алексеевском равелине Петропавловской крепости я пишу «Детскую сказку»,[16 - Рассказ был опубликован под названием «Маленький герой».] в ней не видно ни мук, ни озлобленности, только чистая, как горный ручей, первая трогательная детская любовь.
Хотя, конечно же, долго я размышлял о том, почему оказался среди «петрашевцев» и отчего нынешнее положение мое совершенно темно и незавидно. И понял: никогда и никому не позволено отступать от Христа. И пусть даже скажут тебе, вот истина, совершеннейшая и очевидная истина, но это истина без Христа. Надо тогда все равно оставаться с Христом, а не с истиной. Да и не можно, строго говоря-с, истине быть без Христа. Его сияющая личность, муки за грехи человеческие и еще больше укрепленная в муках любовь – вот что есть истина. Все прочее – лишь туман заблуждений или суть учения Христова, но облаченная в иную форму.
Кабы понять это раньше! Но я забыл про Бога. Богом моим, и многих молодых людей, впрочем, тоже, был Белинский. А он в Господа не веровал, так как веровал в революцию, а революция всенепременно, как это всем известно-с, начинается с атеизма.
– Знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено. Человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству. Нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел, – сказал мне как-то Белинский. А потом, распаляясь все больше и больше, добавил: – Да поверьте, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.[17 - Цитируется по С.В. Белову, «Федор Михайлович Достоевский».]
Я то любил Белинского, то досадовал на него. Но даже когда досадовал, авторитет его для меня являлся весьма и весьма значительным. Последний год своей жизни Белинский совсем меня не звал к себе, а без приглашения являться не пристало. И вот все чаще по пятницам стал захаживать я к Буташевич-Петрашевскому. Читали Гоголя, говорили о Фурье. Я там скучал, пока не сблизился с мрачным красавцем Спешневым. И уже внутри кружка Петрашевского возник еще один кружок, более радикальный, и я к нему с радостью примкнул. Измученный равнодушием публики к моему творчеству, жаждущий сделать что-то значительное, раз с романами покамест не получилось, я всецело отдался новым прожектам.
За попытками устроить свою типографию мы особо не задумывались, как будет выглядеть совместная наша работа. Кто-то говорил о революции, кто-то мечтал об отмене крепостного права. Знали только все мы, что желаем добра своему Отечеству.
В день ареста я вернулся домой поздно, лег спать и тотчас заснул. Но вот гулко звякнула сабля, и в комнате моей зазвучали чьи-то голоса. Открыв глаза, увидал я квартального или частного пристава с красивыми бакенбардами, а еще господина с подполковничьими эполетами и в дверях – солдата. Подполковник сказал:
– По повелению-с.
Пока я одевался, перерыли незваные гости мои книги, золу поворошили в печи, взяли стопку писем. На столе был оставшийся от занятого долга пятиалтынный. Заинтересовались и им.
– Не фальшивый? – спросил я, уже одевшись.
– Надобно проверить, – ответствовал пристав.
Да-с, серьезные господа. Забрали пятиалтынный. Потом, конечно же, живо провели меня в карету. Приехали мы к Цепному мосту, а там уже было много народа и еще привозили.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – сказал кто-то.
А ведь и правда был Юрьев день.
Когда добрались до Петропавловской крепости, мрачной и сырой, когда увидал я серое арестантское платье в пятнах, услышал, как жалобно плачут колокола на Петропавловском соборе, решил, что и трех дней тут не выдержу, помру.
А потом все понял и успокоился. Брат Михаил передал мне книг, Евангелие. Вот тогда-то и открылось мне: за грехи платить надо, и нести свой крест полагается смиренно и покорно, не ропща, без сожаления.
На следственной комиссии обвинили меня в вольнодумстве и чтении письма Белинского к Гоголю, атеистического содержания.
Наверное, ожидает меня Сибирь и каторга. Раз так случилось, то надо смириться. Уныния нет во мне, хотя здоровье расстроилось пуще прежнего…
…В ту ночь отчего-то не сомкнул глаз. А под утро лязгнула дверь камеры, и, вошедши, солдат сказал:
– Для оглашения приговора надлежит прибыть.
Приговор? Скорее бы, скорей! Мочи нет терпеть неизвестность!
Но отчего так долго едем мы в карете? Пересекли Неву, направляемся к Семеновскому плацу. И люди, да, уже различимы, целая толпа на белоснежном, искрящемся от солнца снеге; скрипящий мороз превращает людское дыхание в клубы пара.
С трудом узнал я своих товарищей – «петрашевцев». Бледные, осунувшиеся. В их глазах – страх, и в моих, надобно полагать, тоже. Да как не забояться, когда в центре плаца – эшафот, а подле столбы, и поблизости – солдаты с ружьями.
Сердце мое тревожно замерло. Что-то случится со всеми нами, бедными?
– Отставного поручика Достоевского за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства приговорить к расстрелу!