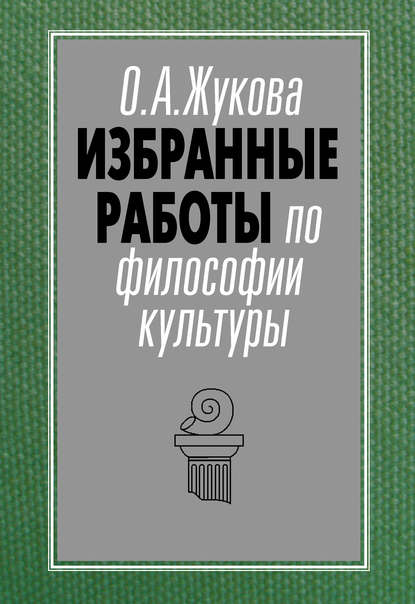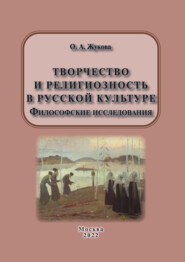По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Избранные работы по философии культуры
Автор
Жанр
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Культурная капитализация России связана с процессом формирования в индивидуальном и общественном сознании запроса на ценности и смыслы отечественной культурной традиции, в результате чего они становятся фактом социального мышления агентов (субъектов социального, интеллектуального, исторического творчества). При этом источником культурного капитала остается духовно-культурное наследие России, интериоризируемое посредством образовательных, интеллектуально-коммуникативных, творческих и иных практик.
В этом случае можно надеяться, что для России открываются исторические перспективы в современности, которые не станут очередным сломом ее традиции, а, наоборот, позволят на новом этапе решить актуальные геополитические и внутриполитические задачи на основе принципов культурного универсализма, создавшего когда-то большой мир христианской Европы и национально-культурную общность русского мира.
Глава 3
Социальный порядок, свобода и творчество в русской философии и литературе
Дискурс свободы в русской интеллектуальной традиции.
Проблематика свободы в истории русской мысли занимает исключительное значение, и в этом она обнаруживает концептуальную и историческую взаимосвязь с европейской философией, где свобода является одной из центральных идей, которая возникает в лоне антично-христианской традиции и активно разрабатывается в различные культурные эпохи – от средневековья до актуальной современности. И в то же время русская мысль привносит свое видение онтологической, этической и социально-политической перспективы свободы как философского феномена, раскрывающего базовый смысл жизни человека, нравственные ценности общественного бытия, его правовой порядок. Смысловая взаимообусловленность и взаимодействие европейской и русской традиции в истолковании свободы крайне важны для выявления генезиса понятия и культурно-исторического контекста его существования. На эту внутреннюю взаимосвязь европейской (шире, мировой) и русской мысли в многообразии определяющих философию тем, среди которых и проблема свободы – личностной и гражданско-правовой, – указывал Б.П. Вышеславцев в своей итоговой книге «Вечное в русской философии». По мнению блестящего русского интеллектуала, «основные проблемы мировой философии являются, конечно, проблемами и русской философии. В этом смысле не существует никакой специально русской философии. Но существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» [118, а 154].
Развивая мысль Вышеславцева, можно сказать, что в русской философии наличествует устойчивый интерес к проблематике свободы, обнаруживающий специфический русский ««подход» к мировой философской проблеме свободы, равно как и русский способ ее «переживания и обсуждения». Как пишет Вышеславцев, «разные нации замечают и ценят различные мысли и чувства в том богатстве содержания, которое дается каждым великим философом. В этом смысле существует русский Платон, русский Плотин, русский Декарт, русский Паскаль и, конечно, русский Кант. Национализм в философии невозможен, как и в науке; но возможен преимущественный интерес к различным мировым проблемам и различным традициям мысли у различных наций» [118, с. 154]. Замечание Вышеславцева кажется справедливым. Если задаться целями сравнительно-исторического исследования, сопоставив философскую тематизацию свободы в трудах великих западных мыслителей – Августина Блаженного, Джордано Бруно, Лютера, Паскаля, Локка, Гоббса, Канта, Гегеля, и в текстах русских философов – Радищева, Чаадаева, Хомякова, И. Аксакова, И. Киреевского, Соловьева, Чичерина, Бердяева, Булгакова, Струве, Франка, то мы увидим, что интерес к этой теме в отечественной традиции не менее выражен. Он остается, говоря словами Вышеславцева, преимущественным. Отличие западноевропейского и русского типа философствования о свободе будет заключаться в дискурсивных практиках обсуждения данной темы. Это связано, в первую очередь, с доминированием религиозного и художественного опыта в развитии русской культуры, где религия и искусство выступают и важнейшими формами ее самопознания, беря на себя функцию философской рефлексии над основаниями социального и исторического бытия.
Как подчеркнет Вышеславцев, проблема свободы всегда была и остается важнейшей для русской философии и литературы, онтологические и культурные корни которой – в христианском учении свободы и этики любви: «Проблема свободы и рабства, свободы и тирании является сейчас центральной мировой проблемой, она же всегда была центральной темой русской философии и русской литературы. Пушкин есть прежде всего певец свободы. Философия Толстого и Достоевского есть философия христианской свободы и христианской любви. Если Пушкин, Толстой и Достоевский выражают исконную традицию и сущность русского духа, то следует признать, что она во всем противоположна материализму, марксизму и тоталитарному социализму. Русская философия, литература и поэзия всегда была и будет на стороне свободного мира: она была революционной в глубочайшем, духовном смысле этого слова и останется такой и перед лицом всякой тирании, всякого угнетения и насилия. Гений Пушкина является тому залогом: “Гений и злодейство две вещи несовместные”. Неправда, будто русский человек склонен к абсолютному повиновению, будто он является каким-то рабом по природе, отлично приспособленным к тоталитарному коммунизму. Если бы это было верно, то Пушкин, Толстой и Достоевский не были бы выражением русского духа, русского гения. Поэзия Пушкина есть поэзия свободы от начала до конца» [118, с 160].
Свобода как духовный и политический антипод всякой тирании – вот главный тезис Вышеславцева, подводящего в своей знаменитой книге своеобразный итог развития русской мысли, гениальными представителями и выразителями которой являются упомянутые им классики русской литературы. Возводя генеалогию русской свободы к Пушкину, философ указывает на ключевой момент в самоопределении русской мысли. Творчество Пушкина – это первая вершина процесса европеизации и секуляризации русской культуры – высочайший образец национального варианта развития проекта модерна в рамках русского мира, не утерявший религиозной интуиции и связи с почвенной духовной традицией. Пушкин для последующих поколений авторов остается интеллектуальным ориентиром, в орбите его творчества, по сути, удерживается культурная и языковая картина русского мира. Вот почему к этому истоку синтеза национального и универсально-европейского в опыте осмысления свободы как имманентной творческой способности человека, вслед за своим учителем и вдохновителем В.С. Соловьевым, будут постоянно возвращаться представители русской религиозно-философской мысли – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Вяч. Иванов, И.А. Ильин, Е.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. Символично, что находясь уже в эмиграции, русская журналистка и писательница, активная участница освободительного движения, член ЦК партии кадетов и первая в истории женщина – редактор газеты А.В. Тыркова-Вильямс, будет изучать опыт русской культуры и понимать произошедшие с Россией потрясения через интеллектуальную биографию Пушкина.
Вопрос об онтологической природе свободы, ее социальных, политических и культурно-творческих формах был отчетливо поставлен в отечественной общественной и религиозно-философской мысли периода конца XIX – первой половины ХX веков и связан с поиском пути «русской свободы». Отметим, что в контексте развития идей русского религиозно-философского ренессанса значим тот факт, что, отстаивая различные точки зрения, все его авторы в той или иной мере обсуждали проблему взаимоотношения свободы и культуры, меры божественного и человеческого в социально-политическом бытии и культурном творчестве. Однако задача определения меры личностной и общественной свободы стала насущной для русских интеллектуалов уже в конце XVIII – первой половине XIX вв. и не только как философско-теоретическая проблема, а как жизненный выбор – моральный и идейный. Драматическая судьба талантливых философов и писателей – Радищева, Чаадаева, Герцена, дерзнувших проявить «свободу в мышлении и во мнении» – тому подтверждение. Самоубийство Александра Радищева, репрессированного властью, видевшей в нем опасного смутьяна, который своей антикрепостнической позицией подрывает социальный базис русского самодержавия, не менее красноречиво, чем объявление «сумасшедшим» Петра Чаадаева, горько рассуждавшего о парадоксальном положении России в мировой истории. Студенческое вольнодумство Александра Герцена, пресеченное на корню николаевским режимом, сделало из наследника богатейшего аристократического рода сначала диссидента, а затем эмигранта-оппозиционера – непримиримого борца с полицейско-бюрократическим русским государством. Все эти примеры свидетельствуют не только о сложных отношениях думающего меньшинства и правящего режима, но и о непростой судьбе самой идеи свободы в русском общественном сознании.
Отметим, что задача рассмотрения концепта свободы в русской мысли оказывается достаточно трудной в постановке и определении подходов, как к самому феномену свободы, так и в отношении к конкретному историческому опыту ее теоретической или социальной манифестации. Главная методологическая трудность – типологические отличия в культурной истории России, в которой можно выделить древнерусский период, характеризующийся как культура религиозного традиционализма, имперский, секулярный, достигший наивысшего расцвета в русской классике, и советский, с неклассической по типу культурой, формировавшейся в теории и практике построения коммунистического (социалистического) общества. Свобода в интерпретации классической философии модерна, конечно, не является тождественной опыту свободы в рамках традиционного общества, чьи высокие практики культуры и социальный порядок выстраиваются под доминирующим влиянием восточно-христианской религиозной традиции. Можно сказать, что разумная кантовская свобода, как интеллектуальный плод секуляризации западной христианской культуры, реализовавшей проект модерна, и свобода в традиционном русском обществе «культуры веры», скорее, противостоят друг другу. Однако их объединяет общее христианское предание, лежащее в истоке как западной, так и восточной культурной европейской традиции. Для большинства представителей русской религиозной мысли свобода человека рассматривалась в истине и духе христианского учения, как свобода в Боге, не отвергающая свободу воли человека, но возводящая разумно-волевое усилие к высшим целям спасения и обожения. Для неортодоксальных мыслителей, как Н.А. Бердяев, свобода в Боге становилась основанием и заданием автономного творчества человека. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым для философского обсуждения.
Осмысление феномена свободы в традиции русской культуры богато сюжетами драматического противостояния социально-политического и духовно-нравственного понимания свободы, где сталкивается рационально-философский и религиозно-философский (богословский) тип познания действительности. Зачастую он принимает не продуктивную форму научной или мировоззренческой дискуссии, а выливается в непримиримую идеологическую борьбу. Очевидные следы этой «борьбы дискурсов» носит на себе русская общественная мысль с ее парадигмальным противостоянием западничества и почвенничества. В основе этой борьбы и последовавшего идейного раскола в русском общественном сознании лежит не только вопрос о цивилизационной идентичности России, ее «европейскости» или «самобытности». Это глубинный онто-гносеологический уровень, обозначающий расхождение в путях познания Сущего и конкретных формах его культурной репрезентации в социальном бытии человека. Можно считать, что расхождение между западной и восточной христианской цивилизацией с их исторически сложившимися политико-правовыми и культурно-творческими практиками имеет своим началом великую схизму церквей, однако очевидная разница культурных потенциалов наиболее видна именно в эпоху Нового времени. Именно с этого момента происходит, в терминологии В.Ф. Эрна, одного из идейных лидеров неославянофильства, становление западного рационализма и имманентизма, манифестирующего себя в западном модерном обществе. Рационализм, отрывающийся от сущего, от природы, как отмечает Эрн, противоположен восточному онтологизму и персонализма. Хранителем восточно-христианской духовной традиции выступает русская философия и русская культура с ее тяготением к религиозному опыту переживания Абсолютного. Как определяет Эрн, «русская философия занимает среднее место между философской мыслью Запада, находящейся в неустанном течении и порыве, и философской мыслью Востока, парящей в орлиных высотах и находящейся в неустанной напряженности вдохновенного созерцания» [624, с. 82]. Как считает Эрн, миссия русской философской мысли заключается в том, что она «должна раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения» [624, с. 82]. Другими словами, русская философия должна удерживать в культурном опыте европейца связь с Логосом-Христом – с той религиозной метафизикой, где впервые прозвучал императив ««где Дух Господень – там свобода» (2 Кор 3, 17).
Полемизируя с издателями «Логоса», выступившими на страницах нового международного ежегодника по философии культуры с программой научной философии в духе неокантиантства, Эрн категорически не соглашается с С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном, отвергая их тезис об отсутствии свободной мысли в России. «Для того чтобы оправдать немецкий характер журнала, редакция “Логоса” сочла себя вынужденной наскоро расправиться с прошлым русской философской жизни, – пишет Эрн. – В результате этой расправы получается, что русская мысль никогда не была свободной, что русская философия – это “постоянное рабство при вечной смене рабов и владык”, что единственный русский философ Вл. Соловьев был не философ, а только лишь личность(!): Словом, бедные скифы ничего интересного в области философии не представляют, и для того, чтоб со временем они могли что-нибудь из себя представить, им необходима школьно-немецкая выучка», – горько замечает Эрн [624, с. 81][1 - В цитате сохранены курсивы В.Ф. Эрна – О.Ж.].
Развернувшаяся в начале XX века между «неославянофилами» и «неозападниками» дискуссия о самостоятельности русской философии свидетельствует не только о борьбе за признание значимости ее онтологических и гносеологических оснований, но и об актуализации проблемы свободы, понимаемой как ценность культуры и условие философской мысли вообще. Определяясь по поводу отечественной традиции философствования о свободе, мы должны сказать и о сути нашего подхода к проблеме свободы. Он состоит в том, что собственная природа человеческих целей заключается в преодолении пределов возможного опыта. Настоящий тезис базируется на признании целесообразности и разумности всякого человеческого действия. Осуществляемое автоматически, как своего рода культурный инстинкт, настоящее действие не обнаруживает трансцендирующей природы цели. Но человек не может не оценивать свою способность трансцендировать за положенные ему природой пределы, так как именно в этом находит свое отличие от окружающих его живых существ, ограниченных биологической программой. Как отмечает исследователь, «в живом русском языке слово “свобода” в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется» [633, с 421]. В этом случае самооценка человека возможна лишь относительно абсолютного деятеля, внеположного ему и способного преодолевать любые пределы. Здесь и появляется проблема абсолютной меры свободы, относительно которой человек и может себя оценивать как свободное существо. Как нам представляется, генезис идеи свободы в культурной истории человека связан именно с данной возможностью его самооценки относительно Абсолюта (абсолютной свободы). При этом выстраивается значимая для раскрытия нашей проблемы смысловая взаимосвязь: насколько человек соответствует подобной самооценке, настолько он и соответствует себе. Другими словами, мера свободы и есть мера «человеческого в человеке». Результатом самооценки человека относительно абсолютного деятеля является понимание, что в горизонте трансцендентного идеала свободы, в христианской картине мира – свободы в Боге, целостный результат его жизни не может быть исчерпан даже теми границами, которые он прочерчивает себе сам.
Если в восточно-христианской онтологии и этике достижение полноты свободы (благой, благодатной свободы, свободы как дара Духа Св.) связано с достижением святости – обоженного состояния человека, началом которого является труднейшая борьба с грехом, послужившим причиной зла – смерти и конечности человеческой жизни, то философская традиция Нового времени связала достижение свободы с образом человека как культурного деятеля, преодолевающего свою ограниченность в творчестве, реализующего потенцию свободы в идее автономной разумной личности. Свободная личность Нового времени созидает универсум культуры, где разумное устроение общества на гражданско-правовой основе является предпосылкой индивидуальной свободы лица. Нам представляется допустимым предположение, по крайней мере, для русской философской традиции, что с методологической точки зрения продуктивно рассматривать автономную свободу человека, репрезентантом которой являются многообразные формы социального и культурного творчества, и свободу в Боге, как духовно-этический идеал, формируемый христианской религиозной традицией, как два начала жизненного опыта, имеющие общий онтологический исток.
Однако можно ли вообще в рамках древнерусской культуры (религиозного традиционализма), где каждый жизненный акт сопряжен с опытом веры, говорить о проявлении свободного социального и культурного творчества человека, необходимым условием которого выступает свобода, когда человек проявляет себя как самостоятельный деятель? В истории европейской культуры подобная концепция свободы как основания автономного творчества связана с эпохой Возрождения. Россия, не пережившая полноценно опыт Возрождения, восприняла его результаты в готовом виде, в формах, легитимизированных Просвещением, где равновеликость человека Богу приняла уже умеренный культурный вид. Тем не менее, изменения, происходившие в истории культуры Руси/России, также связаны с процессами секуляризации.
Как нам представляется, сложившееся в процессе петровских реформ осмысление свободы как имманентной личностной способности, выраженной в результате творчества уникальным образом в авторском произведении и в идее социально-преобразовательной активности человека, сохранило на глубинном, архетипическом уровне самосознания понимание свободы в качестве трансцендентного идеала личности в горизонте Абсолютного, значимого для древнерусской культуры. Поэтому сложившиеся в философской традиции пары оппозиций «вера – разум», «религиозность – творчество», «традиция – социальная новация» не могут в полной мере выявить специфику процесса рождения индивидуальной свободы из коллективного социального порядка при переходе от религиозной культуре к светской. Этот процесс, собственно, и представляет собой в истории европейской цивилизации переход от традиционного общества к обществу модерна. В этом случае мы должны были бы указывать на непреодолимый разрыв культурной преемственности в истории Руси/России и характеризовать нововременную идею свободы собственно как свободу личности в противовес религиозному традиционализму, такой свободы и, следовательно, проявления творчества, вроде бы не знающего. Но тогда возможно ли было в нашей культуре появление такого глубоко национального поэта, как Пушкин – творческого гения, самостоятельного политического и религиозного мыслителя – «певца империи и свободы», по выразительному определению Г.П. Федотова!
На этом моменте продуктивного синтеза идеи свободы творческого лица и религиозно-поэтической одаренности как сущностной характеристики Пушкина сходились буквально все русские философы. В первом по значению русском гении они отмечали черты пророческого служения (В.С. Соловьев, И.А. Ильин), глубинную интуицию Абсолютного в даре мудрости (М.О. Гершензон), откровение личности поэта (С.Н. Булгаков). Для В.Ф. Эрна Пушкин был наследником традиции, определяемой философом в терминах христианского «онтологического реализма». О «христианском реализме» в творчестве Пушкина свидетельствовал С.Л. Франк, воплощение светлой «меры и мерности» в его художественном и духовном опыте видел П.Б. Струве. По меткому выражению Б.П. Вышеславцева, «полнота жизни, полнота личности есть полнота творческой свободы. Кто ее не переживал, тот не может философствовать о свободе. И Пушкин изображает это переживание на всех его степенях: от простого “самодвижения” и спонтанности жизни, от безусловного рефлекса освобождения, свойственного всему живому, от бессознательного инстинкта “вольности” – вплоть до высшего сознания творческой свободы, как служения Божеству, как свободного ответа на Божественный зов» [460, с. 160].
«Вольность» и «свобода» – две категории, раскрывающиеся в творчестве Пушкина во всей своей многоликости, – подчеркнет Б.П. Вышеславцев. Г.П. Федотов добавит, что пушкинская личная, творческая свобода «стремилась к своему политическому выражению» [460, с. 357]. А.И. Герцен обронит фразу, ставшую устойчивой культурологической метафорой: «…на призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина». Тем самым Герцен, выдающийся публицист и социальный мыслитель своего времени, первым покажет, что свобода как духовный дар проецировалась на политическую плоскость и становилась мерилом и требованием социального порядка. Но эта гармоническая линия взаимодействия «христианской онтологии» и «русской социологии» в жизни российского государства и общества не осуществилась. Как заметит Федотов, «как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада – духа и силы – не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист, – Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией – русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается» [460].
Почему же так важен XVIII век, к которому Федотов возводит истоки пушкинского мировоззрения и его опыт чувствования и переживания творческой свободы сквозь призму истории русской имперской государственности? Ведь Пушкин, прежде всего поэт, художник, человек культуры Слова, интуитивно схватывающий красоту божественного творения и ее воспевающий. Какова роль искусства и эстетики в трансляции важнейшей ценности европейского модерна – идеи и идеала творческой свободы личности в разумно устроенном социуме? В каких контекстах она прозвучала в художественных и философско-публицистических текстах русской интеллектуальной культуры конца XVIII века и, далее, была философски осмыслена писателями и мыслителя XIX столетия? Рассмотрим подробнее.
Социально-философские и этические аспекты свободы в русской классической литературе. Светская культура, утверждающаяся в XVIII веке, на уровне художественного самосознания переосмысливает религиозную тематику. Главной темой философской и художественной рефлексии становится тема истории, тема социальных взаимоотношений человека в рамках новой, подчеркнуто светской культуры и быта. Христианская проблематика свободы рассматривается в непосредственной связи и взаимообусловленности нравственного опыта личности и ее общественного служения.
В общем контексте развития культуры, создателями которой являются пенсионеры и ученики светских гимназий, лицеев, академий и школ, религиозное миросозерцание не имеет определяющего значения. Аристократическая дворянская культура вырабатывает свои нравственно-этические ценности, для которых христианское учение становится, скорее, нормативной базой общественных отношений, но не живым духовным опытом спасения в горизонте трансцендентного идеала.
Самосознание человека эпохи XVIII века определяют эстетические параметры художественных стилей и социально-философские идеи, доминирующие в умственной и политической сферах. Ведущими в XVIII веке являются эстетическая доктрина классицизма, рационализм и эмпиризм как методы научного познания, в области социально-политической практики – идеология Просвещения. На рубеже XVIII–XIX веков сентиментализм подготавливает почву романтической и реалистической эстетике.
Религиозная идея спасения оказывается проблемой нравственного самосознания личности, но не целью самой культуры, границы которой определяются исторической реальностью и конкретными социальными задачами. Характерно, что в этом процессе, как и в период христианизации Руси, на первый план выдвигается традиция письменного слова, призванного приобщать к новой культуре, а также зримый образ европейского мира в его архитектурном исполнении, тем самым задается художественно-эстетический дискурс христианского универсализма в его нововременной версии, расширяющий русское культурное пространство до европейского. И если петровские пенсионеры создают узнаваемый европейский мир, осваивая практики изобразительного искусства, то ведущим фактором в формировании культурного самосознания человека послепетровской эпохи становится литература.
Универсум русской культуры созидается как реальность человеческого разума и чувства, ума и сердца, его волений. Жизнь получает оправдание в активности познающего разума или изъявлении сердечного чувства. Центр духовных устремлений – правда о человеке, взятая в социально-историческом аспекте его существования. Таким опытом, на наш взгляд, представляется творчество Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), утверждающего прогрессивный смысл развития истории, в которой образ России занимает центральное место, а европейский проект Петра I с его акцентом на строительстве социально-политических институтов интерпретируется в этических категориях христианского учения.
Творческий путь Ломоносова не имеет прецедента в русской истории, и в этом смысле главным открытием Ломоносова является открытие самого себя – новой свободной личности эпохи модерна, феноменально одаренной и в полной мере сумевшей реализовать свой талант, свою устремленность к познанию и созидательному труду – к творчеству, основанному на новационном знании. Движимый идеалами просвещения и любви к Отечеству, Ломоносов создает первый российский университет. Безгранично веря в величие России, ученый утверждает исторический оптимизм. В новых исторических начинаниях петровской России он видит залог будущей победы добра над злом в мире, устроенном согласно законам справедливости.
В творчестве Ломоносова получают развитие эстетические идеи классицизма. Они оказывают существенное влияние на понимание Ломоносовым истории. Историософская проблематика отражена в его исторической драматургии. В трагедии «Тамира и Селим», «Демофонт» раскрывается позиция ученого, поэта и гуманиста. Устами героев он осуждает порок и восхваляет добродетель, которую он утверждает в качестве созидающей силы истории. Свобода в философской интерпретации Ломоносова связана с идеей прогрессивного развития общества в духе идей просвещения. Эта мысль отчетливо звучит в его драматических произведениях. Все формы тирании – и семейной, и государственной, согласно Ломоносову, обречены: «Безумна власть падет своею тяготою» [481, с. 42].
В своих исторических пьесах поэт и ученый выступает против завоевательных войн, проповедуя мир как залог процветания народов и государств. В этом просветительский пафос соединяется с глубокой традицией древнерусской культуры: уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона мир и благополучие были осознаны как высшие цели и ценности жизни народов в единстве всеобщей истории в перспективе христианского универсализма. Европейский универсалистский проект, в реализации которого участвует М.В. Ломоносов, удерживает христианский смысл созидательной культурной деятельности народов как нравственный идеал не трансцендентный, но имманентный самой истории. Таким образом, свобода оказывается коррелятивна социальному освобождению в логике прогресса и просвещения. Тем самым, образ Абсолютного, заданный религиозной традицией, сменяется идеей будущего общества в свободе – общества, преодолевшего все формы тирании как внеразумного и внеморального порядка. Эсхатологический трансцензус человечества заменяется «трансцензусом» истории – ее прогрессивным развитием.
Философская доминанта эпохи – творчество Александра Николаевича Радищева (1749–1802), энциклопедически образованного ученого, историка, археолога, этнографа, врача, экономиста и правоведа. Век бурных социально-культурных преобразований в России стал для Радищева предметом философских размышлений, нередко облекаемых в художественную форму. Мучительные поиски истины, испытания человеческого духа составили суть моральной и социальной философии Радищева. Гражданская незащищенность Радищева, личное одиночество, драматические повороты судьбы усилили трагический момент в его философии, центральная тема которой – человек. Обращение к проблеме человека связано с возросшим научным интересом к человеку как к природному, родовому существу и человеку историческому, культурному. В основе философских построений Радищева – опыт создания целостного образа человека, определение его места в природном и культурном мире.
По Радищеву, человека характеризуют физическая и социальная природы, которые выражают его «естественное» состояние – состояние «нормального человека». Здесь Радищев защищает и развивает концепцию «естественного права», сформулированную философами века Просвещения, пытаясь артикулировать ее в связи с обстоятельствами русской действительности. Отметим, что идеи «естественного права» важны и в философских построениях Татищева, Прокоповича, Щербатова, но именно для Радищева идеалы равенства людей изначально, «от природы», как неотчуждаемое свойство человеческой личности, залог ее свободомыслия и ценности жизни вообще, становятся основным социально-этическим мотивом философского творчества. Согласно представлениям Радищева, общество, исповедующее эти идеалы, должно быть основано на свободном сознательном труде коллективного характера, поскольку только в таком обществе возможна реализация «человеческого начала».
Данная концепция получает развитие во многих произведениях Радищева – художественных, философских, правовых. Об этом – ода «Вольность», «Илимский острог», знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», правоведческая работа «Проект гражданского уложения». Побудительный стимул философских раздумий о человеке – чувство моральной «уязвленности», которое испытывает душа. Совестливый разум вменяет человеку ответственность за свои поступки и за нравственный облик общества. По мысли Радищева, все беды человека происходят от него самого и неверного взгляда на окружающие предметы. Вывод, который делает философ: единственная проблема человека – это проблема самосовершенствования на пути социального прогресса. Суть последнего – моральный прогресс общества и человека, свободных от неправды социального гнета – этой высшей несправедливости, совершающейся по отношению к равным «от природы» людям.
Это сведение проблематики личности и свободы к духовно-нравственному содержанию – устойчиво повторяющийся мотив русской философии.
По справедливому замечанию С.Л. Франка, сущность русского мировоззрения определяется религиозной этикой, которая «есть в то же время религиозная онтология» [565, с. 153]. Онтологизированная этика как устойчивая характеристика русского культурного типа объединяет, по мысли Франка, и простого богомольца, и выдающихся авторов русской классической культуры – Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева. В своем искании «правды» человек древнерусской духовности и гениальный творец русской классики в своем глубинно-психологическом истоке – все тот же самый искатель правды-истины, поскольку «он хочет не только понять мир и жизнь, а стремится постичь главный религиозно-нравственный принцип мироздания, чтобы преобразить мир, очиститься и спастись» [565, с. 152]. Глубинную мировоззренческую ориентированность русской культуры и русского культурного самосознания на проблемы этики отмечал в своих работах и В.В. Зеньковский. Можно согласиться с историком русской философии, что религиозная этика в духовном опыте русской культуры есть религиозная онтология, усвоенная и истолкованная практически. И проблема свободы возникает именно как этический вопрос, решаемый онтологически. В древнерусской культуре – это живое свидетельство веры святых подвижников, мудрых книжников, церковных учителей и святителей, благоверных князей, благочестивых мирян и позже. В рамках светской культуры, к которой принадлежит Радищев, – этот духовно-психологический тип выделяется обостренным чувством совести и нравственной ответственности философа, писателя, художника, который, оправдываясь за свой творческий дар, имея душу, «уязвленную страданием», подчиняет всю свою жизнь какому-то идеалу или идее, направляя свободную волю и энергию на служение им.
Теория нравственного прогресса А.Н. Радищева диалогизирует с этико-философскими идеями Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), которые легли в основу его художественного и исторического творчества. Подобно Ломоносову и Радищеву, главную цель истории Карамзин видит в воспитании нравственного чувства, формирующего гражданский облик человека. Именно нравственное самосознание является основой становления личности, по Карамзину. Оно и определяет меру свободы человека, измеряемую моральным критерием, в который включен и патриотизм как нравственная ценность зрелого гражданского самосознания. Карамзин приходит к мысли, что путь самосовершенствования открывается человеку в опыте приобщения к истории. Писатель и философ занимает ту позицию, которая была характерна для древнерусской культуры, строящейся как опыт научения веры Словом, развернутым в книжный текст. При этом эффект литературной проповеди, произносимой автором, скрывается в прямой эмоционально окрашенной речи его героев, содержащей, как правило, основную мысль произведения – моральное резюме, которое служит ключом к пониманию образа и, шире, всего произведения, как, например, героико-патриотическая речь мужественной и свободолюбивой Марфы Борецкой в «Марфе-Посаднице». Принцип изображения своих героев в конкретности истории, которая призвана служить для ума и сердца нравственным уроком, становится основным в творчестве Карамзина, глубоко воспринявшего идеи французского Просвещения и переосмыслившего социальные свободы, манифестированные Великой французской революции, сквозь призму опыта национальной истории с точки зрения культурной ценности государства.
В видении Карамзина история предстает средоточием двух начал: опыта жизни человека и нравственного его чувства. Поскольку главное жизненное приобретение человека – мудрость – при кратковременности жизни имеет нужду в опытах, автор хочет раскрыть перед читателем историю – «священную книгу народов» для внимательного изучения, вчувствования, сопереживания и воспитания, предъявив ее как сложившуюся целостность традиции, адресованную для восприятия новому «понимающему» сознанию. Так, мерой свободы, по Карамзину, оказывается мера просвещения сердца и разума русского человека, что должно пробудить в нем чувство гражданина, в согласии с просветительской установкой самого автора, и привить идеалы общественной справедливости и разумно устроенного общества, объединяя высокоморальных его членов.
Интересна с этой точки зрения оценка творчества Карамзина, данная А.С. Пушкиным. Поэт называет его литературно-исторический опыт «подвигом честного человека», заложившим основы «народной исторической образованности», подчеркивая этический смысл историософских посланий автора «Истории Государства Российского» в обращении к своей традиции как своему-другому в перспективе строительства национальной культуры, сохраняющей преемственность с древнерусским типом духовности. Поэтому не случайно литературные и исторические изыскания Карамзина охарактеризованы Пушкиным как нравственный подвиг личности, писательским трудом строящей новую целостность культуры в опоре на духовный опыт прошлого.
Эта функция литературы как формы духовно-нравственного исторического предания вызывала гораздо большее доверие и понимание у просвещенной и образованной по европейским образцам дворянской элиты общества, нежели проповедь, произносимая с амвона практически огосударствленной церковью. Можно утверждать, что философская проблематика свободы будет преимущественно погружена в этический дискурс русской литературы. Этот принцип доминирует в эпоху великой русской классики, где художественное слово имеет ценность, если оно служит истине и несет печать личной ответственности человека. Только в этом смысле оно подлинно свободно – оправданно морально и идейно! Нравственные категории дворянской культуры – «долг», «мужество», «ответственность», «служение», «честь», возникающие как социально-репрезентативные формы личной свободы – свободы воли, мысли, совести – во многом определяют не только вектор судьбы, но и мотивы творчества, что становится очевидным при взгляде на жизненный путь Пушкина.
Без преувеличения можно сказать, что всеми русскими мыслителями наследие Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) осознавалось и оценивалось как эталонное по художественному совершенству и духовно-философской значимости – как выражение, своего рода, квинтэссенции национального самосознания – идеал культурного творчества. Будет правильным определить творчество Пушкина как художественный опыт исторического и духовного самопознания русской культуры. Не случайно высказывание Д.С. Лихачева: «Национальные идеалы русского народа полнее всего выражены в творениях двух гениев – Андрея Рублева и Александра Пушкина. Именно в их творчестве всего отчетливее сказались мечты русского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте» [Цит. по: 13, с. 43]. Показательно замечание А. Карташева в статье «Лик Пушкина» к 100-летию со дня смерти поэта: «Творится всякий раз что-то необычайное, как только русские соприкасаются с Пушкиным. Пушкинские юбилеи приводят в движение весь русский мир. А сейчас это начало передаваться и всему чужестранному миру» [460, с. 302]. И здесь же, подкрепляя свою мысль авторитетом Гоголя, известный церковный историк и богослов цитирует знаменитое пророчество «вещего Гоголя»: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет» [460, с. 303].
Этот будущий русский человек через 200 лет, уже данный прообразовательно в Пушкине, – всемирно отзывчивый русский человек Федора Достоевского, просветленная гармонией социально активная личность Петра Струве, свободный русский человек – гражданин республики Святой Софии Георгия Федотова, строитель творческой демократии Ивана Ильина… Как представляется, русские философы и писатели увидели в Пушкине именно потенциал свободы личности – той личности, которая в российской культурной и политической истории оказалась самым мощным и продуктивным «институтом».
В данном контексте обратим внимание на важные моменты, характеризующие художественное и нравственное самосознание русского поэта с точки зрения интересующей нас проблематики свободы.
Во-первых, это принадлежность Пушкина к творческому и интеллектуальному кругу деятелей «золотого века» русской культуры, к традициям светского образования и дворянской этики. Этим во многом объясняется восприимчивость поэта к общеевропейским проблемам, живая заинтересованность и идейная близость к политическим умонастроениям и художественным веяниям эпохи. Свободолюбие Пушкина – это не только индивидуально-психологическая черта, но и дух эпохи, артикулированный революционно-романтическими идеалами декабристского движения, понимавшего свободу весьма определенно – как изменение политической конфигурации русского общества.
Во-вторых, в диалоге России и Запада Пушкин становится, по определению Ю.М. Лотмана, первым русским писателем мирового значения, создавая традицию великой русской литературы, встречающейся с Западом в новой исторической целостности универсалистского проекта европейской модернизации национальных культур. Пушкин прочитывается в контексте истории эстетических и социально-политических идей эпохи модерна и вписывается в общий ход развития европейской культуры. Его произведения могут быть проанализированы с точки зрения нормативной эстетики романтизма и реализма, ее социального и творческого пафоса, но этим не исчерпываются. Правильнее было бы говорить о глубоко авторской версии русско-европейского синтеза, на личностно-творческом уровне интегрируемой целостностью экзистенциального опыта, в основе которого – идеал творческой свободы как Божественного дара, преображающего жизнь, на что справедливо указывал С.Л. Франк. В своей известной статье «Религиозность Пушкина», он настаивал на присутствии религиозного содержания в творчестве русского гения: «…поэтический дух Пушкина всецело стоит под знаком религиозного начала преображения и притом в типично русской его форме, сочетающее религиозное просвещение с простотой, трезвостью, смиренным и любовным благоволением ко всему живому, как творению и образу Божию» [460, с. 381].
В-третьих, в творчестве Пушкина прослеживается эволюция духовно-нравственного самосознания поэта, его религиозного мироощущения, детерминированного христианской этикой. Опыт проживания свободы в утверждении личностного достоинства поначалу имеет социальную форму выражения, определенную кодексом дворянской чести, личного мужества и гражданской ответственности, а во второй период творчества все отчетливее приобретает духовно-творческую проекцию, связанную с непосредственным переживанием поэтического дара как Божественного – ожиданием того состояния, когда «стихи свободно потекут». Понимание творческого процесса как духовного дара, а поэтического служения как пророческого в конце жизни усиливается рефлексией темы судьбы и предназначения творчества как исполнения Божественного Промысла. Образ судьбы вообще важнейший в историософских и культурфилософских размышлениях Пушкина, где тема свободы решается уже в категориях Провидения – как моральный ответ человека Богу, истории, обществу, себе самому. В известном смысле в логике судьбы героев «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» вмешательство Провидения – одна из главных «пружин» сюжетного развития, определяющая не только ход событий, но и подчиняющая желания и свободу человека невидимой закономерности, трансцендентной для его восприятия, но исполненной высшего смысла.
По выражению М.О. Гершензона, в лице Пушкина русский народ дал ответ о том, как «возможно сочетание полной свободы с гармонией» [460, с. 240]. Если Запад «жертвует свободою ради гармонии, согласен умалять мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка», то русский народ «этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем» [460, с. 240]. В этой антиномической раздвоенности русского духа Пушкину, по мнению Гершензона, удалось выразить волю своей страны в парадоксальном сопряжении свободы и порядка, определяемой формулой «гармония в буйстве» [460, с. 241]. Но жажды свободы в Пушкине все же было больше.
Вопрос о свободе как нравственном выборе, решаемом как последний онтологический вопрос жизни и веры, особенно значим в творческом опыте Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) и Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Так, особенности этико-философской позиции Достоевского должны быть рассмотрены в самой тесной связи с событиями жизни, которые определили экзистенциальный тип его творчества. Глубинный надлом, произошедший в жизни Достоевского – смертный приговор, его отмена в последнюю минуту и десятилетняя каторга, последовавшая за ним, повлекли за собой «катастрофу сознания». В период отбывания каторги – «внешней несвободы» – произошел метафизический трансцензус личности. Глубинное изменение внутреннего человека было связано с переживанием пограничного состояния жизни, поставленной перед фактом осознания неизбежности смерти.
Запредельному «ничто» и небытию Достоевский противопоставил полноту бытия – вечность. И свободу автор «Преступления и наказания» рассматривал как свободу выбора позитивного и негативного трансцендентного – положительно или отрицательно заряженного бытия, в определении писателя, Бога и дьявола. Религиозность Достоевского есть результат сознательного выбора картины мира, в которой преодолена смерть как переход в «ничто». Пережив катастрофу, его герои, вслед за автором повторяющие экзистенциальную логику его выбора, обретают новую возможность жизни как целостный опыт религиозного сознания. Отсюда менее всего в своих романах Достоевский выступает в роли бытописателя. Его материал – сознание человека, его мысли, сердце и душа, рассматриваемые в логике действий и поступков героев, обретающих или окончательно отвергающих положительную свободу в Боге.
В отличие от своих публицистических выступлений, где часто, по примеру Гоголя, Достоевский занимает место на кафедре, в романе никогда не выносится окончательного суждения о герое, судьба которого проживается автором как событие внутреннего человека. В романе, названным М.М. Бахтиным полифоническим, устанавливаются особенные диалогические связи между автором и героем. Полифония Достоевского – это множественность самостоятельных голосов и сознаний, где голоса автора и героя полноправны. Герой выступает в творческом замысле художника не только как объект авторского слова, но и как субъект собственного непосредственно звучащего слова – свободно проговариваемой мысли. Герой свободен, автор позволяет ему высказаться до конца, подобно тому, как Творец, наделивший человека свободой воли, по Своему образу и подобию, не препятствует человеку ее реализовать. Кругозор автора по отношению к герою не избыточен, что позволяет раскрыть амбивалентность образа автора-героя.
Проживая биографию героя как события авторского сознания, Достоевский выражает духовно-психическую целостность героя посредством идеи, которая одновременно выступает как внутренний образ сознания и способ действия. В этом смысле центральным героем романов Достоевского является идея: и Раскольников, и юноша Долгорукий, и Петр Верховенский, и Шатов, и князь Мышкин, и Смердяков пленены идеей, которая, доведенная в мысли и в действии до конца, заполняет все их существо и диктует логику поступков. Все личностные характеристики человека как бы плавятся в вихре идей: время и пространство реального мира возникают только как время и пространство сознания, а мысль о мире в идее героя определяет очертания самой реальности.
Процесс объективации внутреннего мира, раскрытый писателем в диалектике развития идеи как процесса становления сознания позволил критикам увидеть в творчестве Достоевского мастерское изображение психологии человека. Однако психологизм романов Достоевского – явление вторичное, избыточное. Жанровая формула идеологического романа, данная Б.М. Энгельгардтом, как и формула психологического романа, лишь отчасти объясняют феномен творчества Достоевского, который вполне ясно и определенно выразил свое художественное кредо, назвав себя не психологом, но исследователем глубин души человеческой. Можно согласиться с В.К. Кантором, известным исследователем творчества Ф.М. Достоевского, что «исповеди героев Достоевского выявляют фантастическую сложность человеческой души и мысли. Но это исповедь души перед Богом, Бог выступает исповедником. И в этом смысле, конечно же, так называемый психологизм Достоевского приобретает онтологический статус» [262, с 41]. Душа, в интерпретации Достоевского, это центр человеческой субъективности, ядро личности, наделенной свободой воли и разумом. Именно эти свойства в своих романах исследует гениальный автор «Братьев Карамазовых». Близок к пониманию творческого мышления Достоевского Н.А. Бердяев, который говорит об откровении о человеке, совершающемся в произведениях писателя. Отсылка к понятию откровения призвано подчеркнуть не только религиозно-философский смысл романов Достоевского, но и сам опыт рождения литературного слова как экзистенциальной встречи человека в пограничном состоянии с метафизической свободой – с выбором в пользу Бога или демона, восставшего против Творца и созданного Им мира.
Философские представления Достоевского претерпели значительную эволюцию. Первоначально близкие христианскому социализму с его принципом гуманности, веры в естественное добро, присущее человеку от природы, они теряют свою привлекательность и кажутся едва ли не утопическими. Совершающееся, по словам Бердяева, откровение о человеке связано с образом сердца как центра борьбы добра и зла, Бога и дьявола за человека, что приближает религиозную интуицию Достоевского к святоотеческой традиции толкования сердца как средоточия душевно-духовной и разумноволевой жизни человека, выражающего ее целостность. Идея, проживаемая как мучительный моральный вопрос, становится опытом сердца. Если «подпольное сознание» – это выражение болезни разума в обнищании духовного мира человека, то сердечная глухота, наступающая как следствие мерзости души, где Бог изгнан, – и есть инфернальное ничто, метафизический трансцензус в смерть без надежды на спасения и оправдания – «смердяковщина» духа, окончательное рабство и закрепощение разума и совести. Изгоняющий из своей жизни Бога человек становится одержимым бесами и в этом смысле – слепым орудием инфернального зла.
В этом случае можно надеяться, что для России открываются исторические перспективы в современности, которые не станут очередным сломом ее традиции, а, наоборот, позволят на новом этапе решить актуальные геополитические и внутриполитические задачи на основе принципов культурного универсализма, создавшего когда-то большой мир христианской Европы и национально-культурную общность русского мира.
Глава 3
Социальный порядок, свобода и творчество в русской философии и литературе
Дискурс свободы в русской интеллектуальной традиции.
Проблематика свободы в истории русской мысли занимает исключительное значение, и в этом она обнаруживает концептуальную и историческую взаимосвязь с европейской философией, где свобода является одной из центральных идей, которая возникает в лоне антично-христианской традиции и активно разрабатывается в различные культурные эпохи – от средневековья до актуальной современности. И в то же время русская мысль привносит свое видение онтологической, этической и социально-политической перспективы свободы как философского феномена, раскрывающего базовый смысл жизни человека, нравственные ценности общественного бытия, его правовой порядок. Смысловая взаимообусловленность и взаимодействие европейской и русской традиции в истолковании свободы крайне важны для выявления генезиса понятия и культурно-исторического контекста его существования. На эту внутреннюю взаимосвязь европейской (шире, мировой) и русской мысли в многообразии определяющих философию тем, среди которых и проблема свободы – личностной и гражданско-правовой, – указывал Б.П. Вышеславцев в своей итоговой книге «Вечное в русской философии». По мнению блестящего русского интеллектуала, «основные проблемы мировой философии являются, конечно, проблемами и русской философии. В этом смысле не существует никакой специально русской философии. Но существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» [118, а 154].
Развивая мысль Вышеславцева, можно сказать, что в русской философии наличествует устойчивый интерес к проблематике свободы, обнаруживающий специфический русский ««подход» к мировой философской проблеме свободы, равно как и русский способ ее «переживания и обсуждения». Как пишет Вышеславцев, «разные нации замечают и ценят различные мысли и чувства в том богатстве содержания, которое дается каждым великим философом. В этом смысле существует русский Платон, русский Плотин, русский Декарт, русский Паскаль и, конечно, русский Кант. Национализм в философии невозможен, как и в науке; но возможен преимущественный интерес к различным мировым проблемам и различным традициям мысли у различных наций» [118, с. 154]. Замечание Вышеславцева кажется справедливым. Если задаться целями сравнительно-исторического исследования, сопоставив философскую тематизацию свободы в трудах великих западных мыслителей – Августина Блаженного, Джордано Бруно, Лютера, Паскаля, Локка, Гоббса, Канта, Гегеля, и в текстах русских философов – Радищева, Чаадаева, Хомякова, И. Аксакова, И. Киреевского, Соловьева, Чичерина, Бердяева, Булгакова, Струве, Франка, то мы увидим, что интерес к этой теме в отечественной традиции не менее выражен. Он остается, говоря словами Вышеславцева, преимущественным. Отличие западноевропейского и русского типа философствования о свободе будет заключаться в дискурсивных практиках обсуждения данной темы. Это связано, в первую очередь, с доминированием религиозного и художественного опыта в развитии русской культуры, где религия и искусство выступают и важнейшими формами ее самопознания, беря на себя функцию философской рефлексии над основаниями социального и исторического бытия.
Как подчеркнет Вышеславцев, проблема свободы всегда была и остается важнейшей для русской философии и литературы, онтологические и культурные корни которой – в христианском учении свободы и этики любви: «Проблема свободы и рабства, свободы и тирании является сейчас центральной мировой проблемой, она же всегда была центральной темой русской философии и русской литературы. Пушкин есть прежде всего певец свободы. Философия Толстого и Достоевского есть философия христианской свободы и христианской любви. Если Пушкин, Толстой и Достоевский выражают исконную традицию и сущность русского духа, то следует признать, что она во всем противоположна материализму, марксизму и тоталитарному социализму. Русская философия, литература и поэзия всегда была и будет на стороне свободного мира: она была революционной в глубочайшем, духовном смысле этого слова и останется такой и перед лицом всякой тирании, всякого угнетения и насилия. Гений Пушкина является тому залогом: “Гений и злодейство две вещи несовместные”. Неправда, будто русский человек склонен к абсолютному повиновению, будто он является каким-то рабом по природе, отлично приспособленным к тоталитарному коммунизму. Если бы это было верно, то Пушкин, Толстой и Достоевский не были бы выражением русского духа, русского гения. Поэзия Пушкина есть поэзия свободы от начала до конца» [118, с 160].
Свобода как духовный и политический антипод всякой тирании – вот главный тезис Вышеславцева, подводящего в своей знаменитой книге своеобразный итог развития русской мысли, гениальными представителями и выразителями которой являются упомянутые им классики русской литературы. Возводя генеалогию русской свободы к Пушкину, философ указывает на ключевой момент в самоопределении русской мысли. Творчество Пушкина – это первая вершина процесса европеизации и секуляризации русской культуры – высочайший образец национального варианта развития проекта модерна в рамках русского мира, не утерявший религиозной интуиции и связи с почвенной духовной традицией. Пушкин для последующих поколений авторов остается интеллектуальным ориентиром, в орбите его творчества, по сути, удерживается культурная и языковая картина русского мира. Вот почему к этому истоку синтеза национального и универсально-европейского в опыте осмысления свободы как имманентной творческой способности человека, вслед за своим учителем и вдохновителем В.С. Соловьевым, будут постоянно возвращаться представители русской религиозно-философской мысли – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Вяч. Иванов, И.А. Ильин, Е.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. Символично, что находясь уже в эмиграции, русская журналистка и писательница, активная участница освободительного движения, член ЦК партии кадетов и первая в истории женщина – редактор газеты А.В. Тыркова-Вильямс, будет изучать опыт русской культуры и понимать произошедшие с Россией потрясения через интеллектуальную биографию Пушкина.
Вопрос об онтологической природе свободы, ее социальных, политических и культурно-творческих формах был отчетливо поставлен в отечественной общественной и религиозно-философской мысли периода конца XIX – первой половины ХX веков и связан с поиском пути «русской свободы». Отметим, что в контексте развития идей русского религиозно-философского ренессанса значим тот факт, что, отстаивая различные точки зрения, все его авторы в той или иной мере обсуждали проблему взаимоотношения свободы и культуры, меры божественного и человеческого в социально-политическом бытии и культурном творчестве. Однако задача определения меры личностной и общественной свободы стала насущной для русских интеллектуалов уже в конце XVIII – первой половине XIX вв. и не только как философско-теоретическая проблема, а как жизненный выбор – моральный и идейный. Драматическая судьба талантливых философов и писателей – Радищева, Чаадаева, Герцена, дерзнувших проявить «свободу в мышлении и во мнении» – тому подтверждение. Самоубийство Александра Радищева, репрессированного властью, видевшей в нем опасного смутьяна, который своей антикрепостнической позицией подрывает социальный базис русского самодержавия, не менее красноречиво, чем объявление «сумасшедшим» Петра Чаадаева, горько рассуждавшего о парадоксальном положении России в мировой истории. Студенческое вольнодумство Александра Герцена, пресеченное на корню николаевским режимом, сделало из наследника богатейшего аристократического рода сначала диссидента, а затем эмигранта-оппозиционера – непримиримого борца с полицейско-бюрократическим русским государством. Все эти примеры свидетельствуют не только о сложных отношениях думающего меньшинства и правящего режима, но и о непростой судьбе самой идеи свободы в русском общественном сознании.
Отметим, что задача рассмотрения концепта свободы в русской мысли оказывается достаточно трудной в постановке и определении подходов, как к самому феномену свободы, так и в отношении к конкретному историческому опыту ее теоретической или социальной манифестации. Главная методологическая трудность – типологические отличия в культурной истории России, в которой можно выделить древнерусский период, характеризующийся как культура религиозного традиционализма, имперский, секулярный, достигший наивысшего расцвета в русской классике, и советский, с неклассической по типу культурой, формировавшейся в теории и практике построения коммунистического (социалистического) общества. Свобода в интерпретации классической философии модерна, конечно, не является тождественной опыту свободы в рамках традиционного общества, чьи высокие практики культуры и социальный порядок выстраиваются под доминирующим влиянием восточно-христианской религиозной традиции. Можно сказать, что разумная кантовская свобода, как интеллектуальный плод секуляризации западной христианской культуры, реализовавшей проект модерна, и свобода в традиционном русском обществе «культуры веры», скорее, противостоят друг другу. Однако их объединяет общее христианское предание, лежащее в истоке как западной, так и восточной культурной европейской традиции. Для большинства представителей русской религиозной мысли свобода человека рассматривалась в истине и духе христианского учения, как свобода в Боге, не отвергающая свободу воли человека, но возводящая разумно-волевое усилие к высшим целям спасения и обожения. Для неортодоксальных мыслителей, как Н.А. Бердяев, свобода в Боге становилась основанием и заданием автономного творчества человека. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым для философского обсуждения.
Осмысление феномена свободы в традиции русской культуры богато сюжетами драматического противостояния социально-политического и духовно-нравственного понимания свободы, где сталкивается рационально-философский и религиозно-философский (богословский) тип познания действительности. Зачастую он принимает не продуктивную форму научной или мировоззренческой дискуссии, а выливается в непримиримую идеологическую борьбу. Очевидные следы этой «борьбы дискурсов» носит на себе русская общественная мысль с ее парадигмальным противостоянием западничества и почвенничества. В основе этой борьбы и последовавшего идейного раскола в русском общественном сознании лежит не только вопрос о цивилизационной идентичности России, ее «европейскости» или «самобытности». Это глубинный онто-гносеологический уровень, обозначающий расхождение в путях познания Сущего и конкретных формах его культурной репрезентации в социальном бытии человека. Можно считать, что расхождение между западной и восточной христианской цивилизацией с их исторически сложившимися политико-правовыми и культурно-творческими практиками имеет своим началом великую схизму церквей, однако очевидная разница культурных потенциалов наиболее видна именно в эпоху Нового времени. Именно с этого момента происходит, в терминологии В.Ф. Эрна, одного из идейных лидеров неославянофильства, становление западного рационализма и имманентизма, манифестирующего себя в западном модерном обществе. Рационализм, отрывающийся от сущего, от природы, как отмечает Эрн, противоположен восточному онтологизму и персонализма. Хранителем восточно-христианской духовной традиции выступает русская философия и русская культура с ее тяготением к религиозному опыту переживания Абсолютного. Как определяет Эрн, «русская философия занимает среднее место между философской мыслью Запада, находящейся в неустанном течении и порыве, и философской мыслью Востока, парящей в орлиных высотах и находящейся в неустанной напряженности вдохновенного созерцания» [624, с. 82]. Как считает Эрн, миссия русской философской мысли заключается в том, что она «должна раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения» [624, с. 82]. Другими словами, русская философия должна удерживать в культурном опыте европейца связь с Логосом-Христом – с той религиозной метафизикой, где впервые прозвучал императив ««где Дух Господень – там свобода» (2 Кор 3, 17).
Полемизируя с издателями «Логоса», выступившими на страницах нового международного ежегодника по философии культуры с программой научной философии в духе неокантиантства, Эрн категорически не соглашается с С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном, отвергая их тезис об отсутствии свободной мысли в России. «Для того чтобы оправдать немецкий характер журнала, редакция “Логоса” сочла себя вынужденной наскоро расправиться с прошлым русской философской жизни, – пишет Эрн. – В результате этой расправы получается, что русская мысль никогда не была свободной, что русская философия – это “постоянное рабство при вечной смене рабов и владык”, что единственный русский философ Вл. Соловьев был не философ, а только лишь личность(!): Словом, бедные скифы ничего интересного в области философии не представляют, и для того, чтоб со временем они могли что-нибудь из себя представить, им необходима школьно-немецкая выучка», – горько замечает Эрн [624, с. 81][1 - В цитате сохранены курсивы В.Ф. Эрна – О.Ж.].
Развернувшаяся в начале XX века между «неославянофилами» и «неозападниками» дискуссия о самостоятельности русской философии свидетельствует не только о борьбе за признание значимости ее онтологических и гносеологических оснований, но и об актуализации проблемы свободы, понимаемой как ценность культуры и условие философской мысли вообще. Определяясь по поводу отечественной традиции философствования о свободе, мы должны сказать и о сути нашего подхода к проблеме свободы. Он состоит в том, что собственная природа человеческих целей заключается в преодолении пределов возможного опыта. Настоящий тезис базируется на признании целесообразности и разумности всякого человеческого действия. Осуществляемое автоматически, как своего рода культурный инстинкт, настоящее действие не обнаруживает трансцендирующей природы цели. Но человек не может не оценивать свою способность трансцендировать за положенные ему природой пределы, так как именно в этом находит свое отличие от окружающих его живых существ, ограниченных биологической программой. Как отмечает исследователь, «в живом русском языке слово “свобода” в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется» [633, с 421]. В этом случае самооценка человека возможна лишь относительно абсолютного деятеля, внеположного ему и способного преодолевать любые пределы. Здесь и появляется проблема абсолютной меры свободы, относительно которой человек и может себя оценивать как свободное существо. Как нам представляется, генезис идеи свободы в культурной истории человека связан именно с данной возможностью его самооценки относительно Абсолюта (абсолютной свободы). При этом выстраивается значимая для раскрытия нашей проблемы смысловая взаимосвязь: насколько человек соответствует подобной самооценке, настолько он и соответствует себе. Другими словами, мера свободы и есть мера «человеческого в человеке». Результатом самооценки человека относительно абсолютного деятеля является понимание, что в горизонте трансцендентного идеала свободы, в христианской картине мира – свободы в Боге, целостный результат его жизни не может быть исчерпан даже теми границами, которые он прочерчивает себе сам.
Если в восточно-христианской онтологии и этике достижение полноты свободы (благой, благодатной свободы, свободы как дара Духа Св.) связано с достижением святости – обоженного состояния человека, началом которого является труднейшая борьба с грехом, послужившим причиной зла – смерти и конечности человеческой жизни, то философская традиция Нового времени связала достижение свободы с образом человека как культурного деятеля, преодолевающего свою ограниченность в творчестве, реализующего потенцию свободы в идее автономной разумной личности. Свободная личность Нового времени созидает универсум культуры, где разумное устроение общества на гражданско-правовой основе является предпосылкой индивидуальной свободы лица. Нам представляется допустимым предположение, по крайней мере, для русской философской традиции, что с методологической точки зрения продуктивно рассматривать автономную свободу человека, репрезентантом которой являются многообразные формы социального и культурного творчества, и свободу в Боге, как духовно-этический идеал, формируемый христианской религиозной традицией, как два начала жизненного опыта, имеющие общий онтологический исток.
Однако можно ли вообще в рамках древнерусской культуры (религиозного традиционализма), где каждый жизненный акт сопряжен с опытом веры, говорить о проявлении свободного социального и культурного творчества человека, необходимым условием которого выступает свобода, когда человек проявляет себя как самостоятельный деятель? В истории европейской культуры подобная концепция свободы как основания автономного творчества связана с эпохой Возрождения. Россия, не пережившая полноценно опыт Возрождения, восприняла его результаты в готовом виде, в формах, легитимизированных Просвещением, где равновеликость человека Богу приняла уже умеренный культурный вид. Тем не менее, изменения, происходившие в истории культуры Руси/России, также связаны с процессами секуляризации.
Как нам представляется, сложившееся в процессе петровских реформ осмысление свободы как имманентной личностной способности, выраженной в результате творчества уникальным образом в авторском произведении и в идее социально-преобразовательной активности человека, сохранило на глубинном, архетипическом уровне самосознания понимание свободы в качестве трансцендентного идеала личности в горизонте Абсолютного, значимого для древнерусской культуры. Поэтому сложившиеся в философской традиции пары оппозиций «вера – разум», «религиозность – творчество», «традиция – социальная новация» не могут в полной мере выявить специфику процесса рождения индивидуальной свободы из коллективного социального порядка при переходе от религиозной культуре к светской. Этот процесс, собственно, и представляет собой в истории европейской цивилизации переход от традиционного общества к обществу модерна. В этом случае мы должны были бы указывать на непреодолимый разрыв культурной преемственности в истории Руси/России и характеризовать нововременную идею свободы собственно как свободу личности в противовес религиозному традиционализму, такой свободы и, следовательно, проявления творчества, вроде бы не знающего. Но тогда возможно ли было в нашей культуре появление такого глубоко национального поэта, как Пушкин – творческого гения, самостоятельного политического и религиозного мыслителя – «певца империи и свободы», по выразительному определению Г.П. Федотова!
На этом моменте продуктивного синтеза идеи свободы творческого лица и религиозно-поэтической одаренности как сущностной характеристики Пушкина сходились буквально все русские философы. В первом по значению русском гении они отмечали черты пророческого служения (В.С. Соловьев, И.А. Ильин), глубинную интуицию Абсолютного в даре мудрости (М.О. Гершензон), откровение личности поэта (С.Н. Булгаков). Для В.Ф. Эрна Пушкин был наследником традиции, определяемой философом в терминах христианского «онтологического реализма». О «христианском реализме» в творчестве Пушкина свидетельствовал С.Л. Франк, воплощение светлой «меры и мерности» в его художественном и духовном опыте видел П.Б. Струве. По меткому выражению Б.П. Вышеславцева, «полнота жизни, полнота личности есть полнота творческой свободы. Кто ее не переживал, тот не может философствовать о свободе. И Пушкин изображает это переживание на всех его степенях: от простого “самодвижения” и спонтанности жизни, от безусловного рефлекса освобождения, свойственного всему живому, от бессознательного инстинкта “вольности” – вплоть до высшего сознания творческой свободы, как служения Божеству, как свободного ответа на Божественный зов» [460, с. 160].
«Вольность» и «свобода» – две категории, раскрывающиеся в творчестве Пушкина во всей своей многоликости, – подчеркнет Б.П. Вышеславцев. Г.П. Федотов добавит, что пушкинская личная, творческая свобода «стремилась к своему политическому выражению» [460, с. 357]. А.И. Герцен обронит фразу, ставшую устойчивой культурологической метафорой: «…на призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина». Тем самым Герцен, выдающийся публицист и социальный мыслитель своего времени, первым покажет, что свобода как духовный дар проецировалась на политическую плоскость и становилась мерилом и требованием социального порядка. Но эта гармоническая линия взаимодействия «христианской онтологии» и «русской социологии» в жизни российского государства и общества не осуществилась. Как заметит Федотов, «как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада – духа и силы – не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист, – Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией – русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается» [460].
Почему же так важен XVIII век, к которому Федотов возводит истоки пушкинского мировоззрения и его опыт чувствования и переживания творческой свободы сквозь призму истории русской имперской государственности? Ведь Пушкин, прежде всего поэт, художник, человек культуры Слова, интуитивно схватывающий красоту божественного творения и ее воспевающий. Какова роль искусства и эстетики в трансляции важнейшей ценности европейского модерна – идеи и идеала творческой свободы личности в разумно устроенном социуме? В каких контекстах она прозвучала в художественных и философско-публицистических текстах русской интеллектуальной культуры конца XVIII века и, далее, была философски осмыслена писателями и мыслителя XIX столетия? Рассмотрим подробнее.
Социально-философские и этические аспекты свободы в русской классической литературе. Светская культура, утверждающаяся в XVIII веке, на уровне художественного самосознания переосмысливает религиозную тематику. Главной темой философской и художественной рефлексии становится тема истории, тема социальных взаимоотношений человека в рамках новой, подчеркнуто светской культуры и быта. Христианская проблематика свободы рассматривается в непосредственной связи и взаимообусловленности нравственного опыта личности и ее общественного служения.
В общем контексте развития культуры, создателями которой являются пенсионеры и ученики светских гимназий, лицеев, академий и школ, религиозное миросозерцание не имеет определяющего значения. Аристократическая дворянская культура вырабатывает свои нравственно-этические ценности, для которых христианское учение становится, скорее, нормативной базой общественных отношений, но не живым духовным опытом спасения в горизонте трансцендентного идеала.
Самосознание человека эпохи XVIII века определяют эстетические параметры художественных стилей и социально-философские идеи, доминирующие в умственной и политической сферах. Ведущими в XVIII веке являются эстетическая доктрина классицизма, рационализм и эмпиризм как методы научного познания, в области социально-политической практики – идеология Просвещения. На рубеже XVIII–XIX веков сентиментализм подготавливает почву романтической и реалистической эстетике.
Религиозная идея спасения оказывается проблемой нравственного самосознания личности, но не целью самой культуры, границы которой определяются исторической реальностью и конкретными социальными задачами. Характерно, что в этом процессе, как и в период христианизации Руси, на первый план выдвигается традиция письменного слова, призванного приобщать к новой культуре, а также зримый образ европейского мира в его архитектурном исполнении, тем самым задается художественно-эстетический дискурс христианского универсализма в его нововременной версии, расширяющий русское культурное пространство до европейского. И если петровские пенсионеры создают узнаваемый европейский мир, осваивая практики изобразительного искусства, то ведущим фактором в формировании культурного самосознания человека послепетровской эпохи становится литература.
Универсум русской культуры созидается как реальность человеческого разума и чувства, ума и сердца, его волений. Жизнь получает оправдание в активности познающего разума или изъявлении сердечного чувства. Центр духовных устремлений – правда о человеке, взятая в социально-историческом аспекте его существования. Таким опытом, на наш взгляд, представляется творчество Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), утверждающего прогрессивный смысл развития истории, в которой образ России занимает центральное место, а европейский проект Петра I с его акцентом на строительстве социально-политических институтов интерпретируется в этических категориях христианского учения.
Творческий путь Ломоносова не имеет прецедента в русской истории, и в этом смысле главным открытием Ломоносова является открытие самого себя – новой свободной личности эпохи модерна, феноменально одаренной и в полной мере сумевшей реализовать свой талант, свою устремленность к познанию и созидательному труду – к творчеству, основанному на новационном знании. Движимый идеалами просвещения и любви к Отечеству, Ломоносов создает первый российский университет. Безгранично веря в величие России, ученый утверждает исторический оптимизм. В новых исторических начинаниях петровской России он видит залог будущей победы добра над злом в мире, устроенном согласно законам справедливости.
В творчестве Ломоносова получают развитие эстетические идеи классицизма. Они оказывают существенное влияние на понимание Ломоносовым истории. Историософская проблематика отражена в его исторической драматургии. В трагедии «Тамира и Селим», «Демофонт» раскрывается позиция ученого, поэта и гуманиста. Устами героев он осуждает порок и восхваляет добродетель, которую он утверждает в качестве созидающей силы истории. Свобода в философской интерпретации Ломоносова связана с идеей прогрессивного развития общества в духе идей просвещения. Эта мысль отчетливо звучит в его драматических произведениях. Все формы тирании – и семейной, и государственной, согласно Ломоносову, обречены: «Безумна власть падет своею тяготою» [481, с. 42].
В своих исторических пьесах поэт и ученый выступает против завоевательных войн, проповедуя мир как залог процветания народов и государств. В этом просветительский пафос соединяется с глубокой традицией древнерусской культуры: уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона мир и благополучие были осознаны как высшие цели и ценности жизни народов в единстве всеобщей истории в перспективе христианского универсализма. Европейский универсалистский проект, в реализации которого участвует М.В. Ломоносов, удерживает христианский смысл созидательной культурной деятельности народов как нравственный идеал не трансцендентный, но имманентный самой истории. Таким образом, свобода оказывается коррелятивна социальному освобождению в логике прогресса и просвещения. Тем самым, образ Абсолютного, заданный религиозной традицией, сменяется идеей будущего общества в свободе – общества, преодолевшего все формы тирании как внеразумного и внеморального порядка. Эсхатологический трансцензус человечества заменяется «трансцензусом» истории – ее прогрессивным развитием.
Философская доминанта эпохи – творчество Александра Николаевича Радищева (1749–1802), энциклопедически образованного ученого, историка, археолога, этнографа, врача, экономиста и правоведа. Век бурных социально-культурных преобразований в России стал для Радищева предметом философских размышлений, нередко облекаемых в художественную форму. Мучительные поиски истины, испытания человеческого духа составили суть моральной и социальной философии Радищева. Гражданская незащищенность Радищева, личное одиночество, драматические повороты судьбы усилили трагический момент в его философии, центральная тема которой – человек. Обращение к проблеме человека связано с возросшим научным интересом к человеку как к природному, родовому существу и человеку историческому, культурному. В основе философских построений Радищева – опыт создания целостного образа человека, определение его места в природном и культурном мире.
По Радищеву, человека характеризуют физическая и социальная природы, которые выражают его «естественное» состояние – состояние «нормального человека». Здесь Радищев защищает и развивает концепцию «естественного права», сформулированную философами века Просвещения, пытаясь артикулировать ее в связи с обстоятельствами русской действительности. Отметим, что идеи «естественного права» важны и в философских построениях Татищева, Прокоповича, Щербатова, но именно для Радищева идеалы равенства людей изначально, «от природы», как неотчуждаемое свойство человеческой личности, залог ее свободомыслия и ценности жизни вообще, становятся основным социально-этическим мотивом философского творчества. Согласно представлениям Радищева, общество, исповедующее эти идеалы, должно быть основано на свободном сознательном труде коллективного характера, поскольку только в таком обществе возможна реализация «человеческого начала».
Данная концепция получает развитие во многих произведениях Радищева – художественных, философских, правовых. Об этом – ода «Вольность», «Илимский острог», знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», правоведческая работа «Проект гражданского уложения». Побудительный стимул философских раздумий о человеке – чувство моральной «уязвленности», которое испытывает душа. Совестливый разум вменяет человеку ответственность за свои поступки и за нравственный облик общества. По мысли Радищева, все беды человека происходят от него самого и неверного взгляда на окружающие предметы. Вывод, который делает философ: единственная проблема человека – это проблема самосовершенствования на пути социального прогресса. Суть последнего – моральный прогресс общества и человека, свободных от неправды социального гнета – этой высшей несправедливости, совершающейся по отношению к равным «от природы» людям.
Это сведение проблематики личности и свободы к духовно-нравственному содержанию – устойчиво повторяющийся мотив русской философии.
По справедливому замечанию С.Л. Франка, сущность русского мировоззрения определяется религиозной этикой, которая «есть в то же время религиозная онтология» [565, с. 153]. Онтологизированная этика как устойчивая характеристика русского культурного типа объединяет, по мысли Франка, и простого богомольца, и выдающихся авторов русской классической культуры – Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева. В своем искании «правды» человек древнерусской духовности и гениальный творец русской классики в своем глубинно-психологическом истоке – все тот же самый искатель правды-истины, поскольку «он хочет не только понять мир и жизнь, а стремится постичь главный религиозно-нравственный принцип мироздания, чтобы преобразить мир, очиститься и спастись» [565, с. 152]. Глубинную мировоззренческую ориентированность русской культуры и русского культурного самосознания на проблемы этики отмечал в своих работах и В.В. Зеньковский. Можно согласиться с историком русской философии, что религиозная этика в духовном опыте русской культуры есть религиозная онтология, усвоенная и истолкованная практически. И проблема свободы возникает именно как этический вопрос, решаемый онтологически. В древнерусской культуре – это живое свидетельство веры святых подвижников, мудрых книжников, церковных учителей и святителей, благоверных князей, благочестивых мирян и позже. В рамках светской культуры, к которой принадлежит Радищев, – этот духовно-психологический тип выделяется обостренным чувством совести и нравственной ответственности философа, писателя, художника, который, оправдываясь за свой творческий дар, имея душу, «уязвленную страданием», подчиняет всю свою жизнь какому-то идеалу или идее, направляя свободную волю и энергию на служение им.
Теория нравственного прогресса А.Н. Радищева диалогизирует с этико-философскими идеями Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), которые легли в основу его художественного и исторического творчества. Подобно Ломоносову и Радищеву, главную цель истории Карамзин видит в воспитании нравственного чувства, формирующего гражданский облик человека. Именно нравственное самосознание является основой становления личности, по Карамзину. Оно и определяет меру свободы человека, измеряемую моральным критерием, в который включен и патриотизм как нравственная ценность зрелого гражданского самосознания. Карамзин приходит к мысли, что путь самосовершенствования открывается человеку в опыте приобщения к истории. Писатель и философ занимает ту позицию, которая была характерна для древнерусской культуры, строящейся как опыт научения веры Словом, развернутым в книжный текст. При этом эффект литературной проповеди, произносимой автором, скрывается в прямой эмоционально окрашенной речи его героев, содержащей, как правило, основную мысль произведения – моральное резюме, которое служит ключом к пониманию образа и, шире, всего произведения, как, например, героико-патриотическая речь мужественной и свободолюбивой Марфы Борецкой в «Марфе-Посаднице». Принцип изображения своих героев в конкретности истории, которая призвана служить для ума и сердца нравственным уроком, становится основным в творчестве Карамзина, глубоко воспринявшего идеи французского Просвещения и переосмыслившего социальные свободы, манифестированные Великой французской революции, сквозь призму опыта национальной истории с точки зрения культурной ценности государства.
В видении Карамзина история предстает средоточием двух начал: опыта жизни человека и нравственного его чувства. Поскольку главное жизненное приобретение человека – мудрость – при кратковременности жизни имеет нужду в опытах, автор хочет раскрыть перед читателем историю – «священную книгу народов» для внимательного изучения, вчувствования, сопереживания и воспитания, предъявив ее как сложившуюся целостность традиции, адресованную для восприятия новому «понимающему» сознанию. Так, мерой свободы, по Карамзину, оказывается мера просвещения сердца и разума русского человека, что должно пробудить в нем чувство гражданина, в согласии с просветительской установкой самого автора, и привить идеалы общественной справедливости и разумно устроенного общества, объединяя высокоморальных его членов.
Интересна с этой точки зрения оценка творчества Карамзина, данная А.С. Пушкиным. Поэт называет его литературно-исторический опыт «подвигом честного человека», заложившим основы «народной исторической образованности», подчеркивая этический смысл историософских посланий автора «Истории Государства Российского» в обращении к своей традиции как своему-другому в перспективе строительства национальной культуры, сохраняющей преемственность с древнерусским типом духовности. Поэтому не случайно литературные и исторические изыскания Карамзина охарактеризованы Пушкиным как нравственный подвиг личности, писательским трудом строящей новую целостность культуры в опоре на духовный опыт прошлого.
Эта функция литературы как формы духовно-нравственного исторического предания вызывала гораздо большее доверие и понимание у просвещенной и образованной по европейским образцам дворянской элиты общества, нежели проповедь, произносимая с амвона практически огосударствленной церковью. Можно утверждать, что философская проблематика свободы будет преимущественно погружена в этический дискурс русской литературы. Этот принцип доминирует в эпоху великой русской классики, где художественное слово имеет ценность, если оно служит истине и несет печать личной ответственности человека. Только в этом смысле оно подлинно свободно – оправданно морально и идейно! Нравственные категории дворянской культуры – «долг», «мужество», «ответственность», «служение», «честь», возникающие как социально-репрезентативные формы личной свободы – свободы воли, мысли, совести – во многом определяют не только вектор судьбы, но и мотивы творчества, что становится очевидным при взгляде на жизненный путь Пушкина.
Без преувеличения можно сказать, что всеми русскими мыслителями наследие Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) осознавалось и оценивалось как эталонное по художественному совершенству и духовно-философской значимости – как выражение, своего рода, квинтэссенции национального самосознания – идеал культурного творчества. Будет правильным определить творчество Пушкина как художественный опыт исторического и духовного самопознания русской культуры. Не случайно высказывание Д.С. Лихачева: «Национальные идеалы русского народа полнее всего выражены в творениях двух гениев – Андрея Рублева и Александра Пушкина. Именно в их творчестве всего отчетливее сказались мечты русского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте» [Цит. по: 13, с. 43]. Показательно замечание А. Карташева в статье «Лик Пушкина» к 100-летию со дня смерти поэта: «Творится всякий раз что-то необычайное, как только русские соприкасаются с Пушкиным. Пушкинские юбилеи приводят в движение весь русский мир. А сейчас это начало передаваться и всему чужестранному миру» [460, с. 302]. И здесь же, подкрепляя свою мысль авторитетом Гоголя, известный церковный историк и богослов цитирует знаменитое пророчество «вещего Гоголя»: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет» [460, с. 303].
Этот будущий русский человек через 200 лет, уже данный прообразовательно в Пушкине, – всемирно отзывчивый русский человек Федора Достоевского, просветленная гармонией социально активная личность Петра Струве, свободный русский человек – гражданин республики Святой Софии Георгия Федотова, строитель творческой демократии Ивана Ильина… Как представляется, русские философы и писатели увидели в Пушкине именно потенциал свободы личности – той личности, которая в российской культурной и политической истории оказалась самым мощным и продуктивным «институтом».
В данном контексте обратим внимание на важные моменты, характеризующие художественное и нравственное самосознание русского поэта с точки зрения интересующей нас проблематики свободы.
Во-первых, это принадлежность Пушкина к творческому и интеллектуальному кругу деятелей «золотого века» русской культуры, к традициям светского образования и дворянской этики. Этим во многом объясняется восприимчивость поэта к общеевропейским проблемам, живая заинтересованность и идейная близость к политическим умонастроениям и художественным веяниям эпохи. Свободолюбие Пушкина – это не только индивидуально-психологическая черта, но и дух эпохи, артикулированный революционно-романтическими идеалами декабристского движения, понимавшего свободу весьма определенно – как изменение политической конфигурации русского общества.
Во-вторых, в диалоге России и Запада Пушкин становится, по определению Ю.М. Лотмана, первым русским писателем мирового значения, создавая традицию великой русской литературы, встречающейся с Западом в новой исторической целостности универсалистского проекта европейской модернизации национальных культур. Пушкин прочитывается в контексте истории эстетических и социально-политических идей эпохи модерна и вписывается в общий ход развития европейской культуры. Его произведения могут быть проанализированы с точки зрения нормативной эстетики романтизма и реализма, ее социального и творческого пафоса, но этим не исчерпываются. Правильнее было бы говорить о глубоко авторской версии русско-европейского синтеза, на личностно-творческом уровне интегрируемой целостностью экзистенциального опыта, в основе которого – идеал творческой свободы как Божественного дара, преображающего жизнь, на что справедливо указывал С.Л. Франк. В своей известной статье «Религиозность Пушкина», он настаивал на присутствии религиозного содержания в творчестве русского гения: «…поэтический дух Пушкина всецело стоит под знаком религиозного начала преображения и притом в типично русской его форме, сочетающее религиозное просвещение с простотой, трезвостью, смиренным и любовным благоволением ко всему живому, как творению и образу Божию» [460, с. 381].
В-третьих, в творчестве Пушкина прослеживается эволюция духовно-нравственного самосознания поэта, его религиозного мироощущения, детерминированного христианской этикой. Опыт проживания свободы в утверждении личностного достоинства поначалу имеет социальную форму выражения, определенную кодексом дворянской чести, личного мужества и гражданской ответственности, а во второй период творчества все отчетливее приобретает духовно-творческую проекцию, связанную с непосредственным переживанием поэтического дара как Божественного – ожиданием того состояния, когда «стихи свободно потекут». Понимание творческого процесса как духовного дара, а поэтического служения как пророческого в конце жизни усиливается рефлексией темы судьбы и предназначения творчества как исполнения Божественного Промысла. Образ судьбы вообще важнейший в историософских и культурфилософских размышлениях Пушкина, где тема свободы решается уже в категориях Провидения – как моральный ответ человека Богу, истории, обществу, себе самому. В известном смысле в логике судьбы героев «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» вмешательство Провидения – одна из главных «пружин» сюжетного развития, определяющая не только ход событий, но и подчиняющая желания и свободу человека невидимой закономерности, трансцендентной для его восприятия, но исполненной высшего смысла.
По выражению М.О. Гершензона, в лице Пушкина русский народ дал ответ о том, как «возможно сочетание полной свободы с гармонией» [460, с. 240]. Если Запад «жертвует свободою ради гармонии, согласен умалять мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка», то русский народ «этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем» [460, с. 240]. В этой антиномической раздвоенности русского духа Пушкину, по мнению Гершензона, удалось выразить волю своей страны в парадоксальном сопряжении свободы и порядка, определяемой формулой «гармония в буйстве» [460, с. 241]. Но жажды свободы в Пушкине все же было больше.
Вопрос о свободе как нравственном выборе, решаемом как последний онтологический вопрос жизни и веры, особенно значим в творческом опыте Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) и Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Так, особенности этико-философской позиции Достоевского должны быть рассмотрены в самой тесной связи с событиями жизни, которые определили экзистенциальный тип его творчества. Глубинный надлом, произошедший в жизни Достоевского – смертный приговор, его отмена в последнюю минуту и десятилетняя каторга, последовавшая за ним, повлекли за собой «катастрофу сознания». В период отбывания каторги – «внешней несвободы» – произошел метафизический трансцензус личности. Глубинное изменение внутреннего человека было связано с переживанием пограничного состояния жизни, поставленной перед фактом осознания неизбежности смерти.
Запредельному «ничто» и небытию Достоевский противопоставил полноту бытия – вечность. И свободу автор «Преступления и наказания» рассматривал как свободу выбора позитивного и негативного трансцендентного – положительно или отрицательно заряженного бытия, в определении писателя, Бога и дьявола. Религиозность Достоевского есть результат сознательного выбора картины мира, в которой преодолена смерть как переход в «ничто». Пережив катастрофу, его герои, вслед за автором повторяющие экзистенциальную логику его выбора, обретают новую возможность жизни как целостный опыт религиозного сознания. Отсюда менее всего в своих романах Достоевский выступает в роли бытописателя. Его материал – сознание человека, его мысли, сердце и душа, рассматриваемые в логике действий и поступков героев, обретающих или окончательно отвергающих положительную свободу в Боге.
В отличие от своих публицистических выступлений, где часто, по примеру Гоголя, Достоевский занимает место на кафедре, в романе никогда не выносится окончательного суждения о герое, судьба которого проживается автором как событие внутреннего человека. В романе, названным М.М. Бахтиным полифоническим, устанавливаются особенные диалогические связи между автором и героем. Полифония Достоевского – это множественность самостоятельных голосов и сознаний, где голоса автора и героя полноправны. Герой выступает в творческом замысле художника не только как объект авторского слова, но и как субъект собственного непосредственно звучащего слова – свободно проговариваемой мысли. Герой свободен, автор позволяет ему высказаться до конца, подобно тому, как Творец, наделивший человека свободой воли, по Своему образу и подобию, не препятствует человеку ее реализовать. Кругозор автора по отношению к герою не избыточен, что позволяет раскрыть амбивалентность образа автора-героя.
Проживая биографию героя как события авторского сознания, Достоевский выражает духовно-психическую целостность героя посредством идеи, которая одновременно выступает как внутренний образ сознания и способ действия. В этом смысле центральным героем романов Достоевского является идея: и Раскольников, и юноша Долгорукий, и Петр Верховенский, и Шатов, и князь Мышкин, и Смердяков пленены идеей, которая, доведенная в мысли и в действии до конца, заполняет все их существо и диктует логику поступков. Все личностные характеристики человека как бы плавятся в вихре идей: время и пространство реального мира возникают только как время и пространство сознания, а мысль о мире в идее героя определяет очертания самой реальности.
Процесс объективации внутреннего мира, раскрытый писателем в диалектике развития идеи как процесса становления сознания позволил критикам увидеть в творчестве Достоевского мастерское изображение психологии человека. Однако психологизм романов Достоевского – явление вторичное, избыточное. Жанровая формула идеологического романа, данная Б.М. Энгельгардтом, как и формула психологического романа, лишь отчасти объясняют феномен творчества Достоевского, который вполне ясно и определенно выразил свое художественное кредо, назвав себя не психологом, но исследователем глубин души человеческой. Можно согласиться с В.К. Кантором, известным исследователем творчества Ф.М. Достоевского, что «исповеди героев Достоевского выявляют фантастическую сложность человеческой души и мысли. Но это исповедь души перед Богом, Бог выступает исповедником. И в этом смысле, конечно же, так называемый психологизм Достоевского приобретает онтологический статус» [262, с 41]. Душа, в интерпретации Достоевского, это центр человеческой субъективности, ядро личности, наделенной свободой воли и разумом. Именно эти свойства в своих романах исследует гениальный автор «Братьев Карамазовых». Близок к пониманию творческого мышления Достоевского Н.А. Бердяев, который говорит об откровении о человеке, совершающемся в произведениях писателя. Отсылка к понятию откровения призвано подчеркнуть не только религиозно-философский смысл романов Достоевского, но и сам опыт рождения литературного слова как экзистенциальной встречи человека в пограничном состоянии с метафизической свободой – с выбором в пользу Бога или демона, восставшего против Творца и созданного Им мира.
Философские представления Достоевского претерпели значительную эволюцию. Первоначально близкие христианскому социализму с его принципом гуманности, веры в естественное добро, присущее человеку от природы, они теряют свою привлекательность и кажутся едва ли не утопическими. Совершающееся, по словам Бердяева, откровение о человеке связано с образом сердца как центра борьбы добра и зла, Бога и дьявола за человека, что приближает религиозную интуицию Достоевского к святоотеческой традиции толкования сердца как средоточия душевно-духовной и разумноволевой жизни человека, выражающего ее целостность. Идея, проживаемая как мучительный моральный вопрос, становится опытом сердца. Если «подпольное сознание» – это выражение болезни разума в обнищании духовного мира человека, то сердечная глухота, наступающая как следствие мерзости души, где Бог изгнан, – и есть инфернальное ничто, метафизический трансцензус в смерть без надежды на спасения и оправдания – «смердяковщина» духа, окончательное рабство и закрепощение разума и совести. Изгоняющий из своей жизни Бога человек становится одержимым бесами и в этом смысле – слепым орудием инфернального зла.