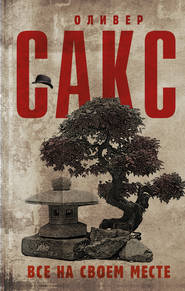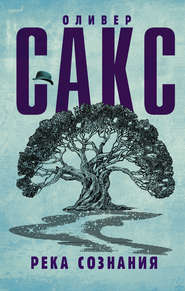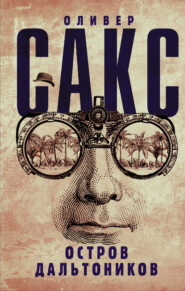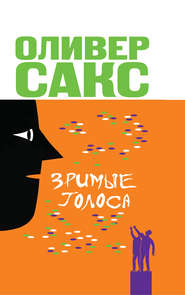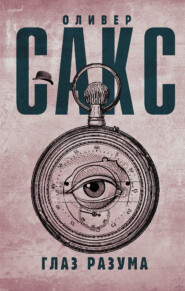По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нога как точка опоры
Автор
Жанр
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я наконец перебрался на другую сторону, я рухнул на камни, дрожа от холода, боли и шока. Я чувствовал себя обессиленным, поверженным, оглушенным и минуты две лежал неподвижно. Потом изнеможение превратилось в усталость, какую-то необыкновенно приятную расслабленность.
«Как здесь хорошо, – подумал я. – Почему бы не отдохнуть немного, может быть, даже вздремнуть?»
Соблазнительный и усыпляющий внутренний голос словно уговаривал меня, но усилием воли я заставил его замолчать. Здесь не было «хорошо», чтобы отдохнуть и вздремнуть. Такое намерение было смертельно опасным и наполнило меня ужасом.
«Нет! – яростно заявил я себе. – Это говорит Смерть – своим нежным убийственным голосом сирены. Не слушай ее! Никогда не слушай! Ты должен продолжать путь, нравится это тебе или нет. Ты не можешь здесь отдохнуть – отдыхать вообще нельзя! Ты должен найти ритм, которому можешь следовать, и упорно его выдерживать».
Этот хороший голос, голос жизни, взбодрил меня и придал сил. Я перестал дрожать и избавился от нерешительности. Я снова целеустремленно двинулся в путь и больше не колебался.
Тут мне на помощь пришли мелодия, ритм и музыка (то, что Кант называл «ускоряющим» искусством). До того как я перебрался через ручей, я двигался только с помощью физической силы своих сильных рук. Теперь я, так сказать, двигался с помощью музыки. Я этого не изобретал, все получилось само собой. Я подчинялся ритму, меня вел марш или песня гребцов – иногда песня волжских бурлаков, иногда мой собственный монотонный напев на слова «Ohne Haste, ohne Rastf! Ohne Haste, ohne Rastf!» («Без спешки, без отдыха») с сильным ударением на каждом Haste и Rastf. Никогда еще в моей жизни слова Гёте не находили лучшего применения! Теперь
мне не нужно было думать о том, двигаюсь ли я слишком быстро или слишком медленно. Я погрузился в музыку, погрузился в ритм, и это обеспечивало мне правильный темп. Я обнаружил, что ритм обеспечивает совершенную координацию – или, может быть, лучшим словом было бы «подчинение»: музыкальный размер возникал во мне, и все мышцы послушно откликались на него – все, кроме мускулов левой ноги, которые оставались «глухими». Не говорил ли Ницше, что мы «слушаем своими мышцами»? Я вспомнил о днях занятий греблей в колледже – наша восьмерка подчинялась ритму, который задавал рулевой; это было что-то вроде мышечного оркестра с рулевым-дирижером.
Каким-то образом с этой «музыкой» мое продвижение перестало казаться мрачной, полной тревоги борьбой. Возникло даже определенное примитивное возбуждение, подобное тому, которое Павлов называл «мускульной радостью». И к тому же, чтобы порадовать меня еще больше, из-за облаков выглянуло солнце, погладило меня теплыми лучами и скоро высушило мою одежду. Все это весьма положительно на меня повлияло, и только после того, как я довольно долго громким басом распевал свои марши, я неожиданно обнаружил, что о быке совсем забыл. Точнее, я забыл свой страх – отчасти поняв, что он больше неуместен, отчасти сообразив, что он с самого начала был абсурдным. Теперь во мне не было места этому страху, да и какому-либо страху вообще, потому что я был до краев полон музыкой. И даже когда эта музыка (слышимая музыка) не звучала буквально, оставалась музыка моего мышечного оркестра – «безмолвная музыка тела», по замечательному выражению Харви. Под ее звуки, с ритмичностью моего движения я сам стал музыкой: «Ты музыка до тех пор, пока музыка звучит». Я стал созданием из мышц, движения и музыки, существующих неразрывно и звучащих в унисон, – за исключением той ненастроенной части меня, того несчастного сломанного инструмента, который не мог влиться в оркестр и оставался неподвижным, без ритма и мелодии.
Когда-то в детстве у меня была скрипка, которая случайно разбилась на куски. В отношении своей ноги я теперь испытывал те же чувства, что и давным-давно в отношении той бедной сломанной скрипки. С ощущением счастья, решительностью и бодрящей музыкой смешивалась острая и мучительная горечь потери того музыкального инструмента, каким раньше была моя нога. «Скоро ли она поправится? – думал я. – Когда начнет она исполнять собственную мелодию? Когда присоединится к радостной музыке всего тела? О, когда?»
К двум часам облака разошлись настолько, что я смог наслаждаться великолепным видом на фьорд подо мной и на маленькую деревушку, откуда я вышел девять часов назад. Мне была видна старинная церковь, в которой накануне вечером я слушал моцартовскую мессу до-мажор. Я почти мог разглядеть – нет, и на самом деле мог – крошечные фигурки на улице. Был ли воздух невероятно, сверхъестественно чист? Или это мое восприятие обрело ненормальную остроту? Я подумал о том сновидении, которое пересказывал Лейбниц: он оказался на огромной высоте, глядя на распростершийся под ним мир с его странами, городами, озерами, полями, деревнями, хуторами. Если он хотел рассмотреть какого-то человека – крестьянина, пашущего землю, старуху, стирающую белье, – ему нужно было только направить на него взгляд и сосредоточиться: «Не нужно было никакого телескопа, кроме внимания». Также было и со мной: мое зрение обострило отчаянное желание, сильнейшая потребность видеть других людей и еще в большей мере быть увиденным ими. Никогда еще не казались люди мне столь дорогими – и столь далекими. Я чувствовал себя таким близким к ним, глядя как сквозь мощный телескоп, и в то же время таким полностью отрезанным от их мира. Если бы только у меня был флаг или сигнальный фонарь, ружье, почтовый голубь, радиопередатчик! Если бы я мог издать действительно гаргантюанский вопль – такой, который был бы слышен на расстоянии десяти миль! Как иначе могли они узнать о том, что есть их товарищ, пострадавший человек, борющийся за свою жизнь на высоте пяти тысяч футов? Я был в поле зрения своих возможных спасителей, и все же, возможно, мне предстояло умереть. В моих чувствах было что-то безличное, вселенское. Я стал бы кричать не «Спасите меня, Оливера Сакса!», а «Спасите страдающее живое существо, спасите жизнь!». Этот призыв я так часто читал в глазах своих пациентов, эта мольба погибающего на краю пропасти, – могучее, яркое, законное желание остаться в живых.
Прошел час, и еще, и еще – под великолепным безоблачным небом, под солнцем, проливающим бледно-золотой чистый арктический свет. День был прекрасным, земля и воздух в своей красоте, блеске и спокойствии словно погрузились в безмятежность. Часы текли, я упорно продолжал свой путь вниз, а мой разум освободился от тяжких мыслей. Меня посещали давно забытые воспоминания, неизменно светлые, – о летних днях, согретых солнечным светом, который одновременно был счастьем и благословением, о тех летних днях, проведенных с семьей и друзьями, череда которых уходила в самое раннее детство. Сотни воспоминаний проносились у меня в уме за время, которое уходило на преодоление пространства между одним утесом и следующим, но эти воспоминания не были чередой мелькающих лиц и голосов. Каждая сцена полностью переживалась заново, все разговоры вспоминались без каких-либо сокращений. Самые ранние воспоминания касались нашего сада – нашего большого старого лондонского сада, каким он был до войны. Я заплакал от радости, когда его увидел – наш сад с его дорогим мне старым железным забором, просторной ровной лужайкой, только что скошенной (огромная древняя косилка всегда стояла в углу), полосатым гамаком с подушками, каждая из которых была больше меня, – в нем я обожал качаться часами, – и радостью моего сердца – крупными подсолнухами с круглыми соцветиями, совершенно меня завораживавшими и показавшими мне, пятилетнему, Пифагорову тайну мироздания. (Ведь именно тогда, летом 1939 года, я открыл для себя, что соцветия состоят из множества простых цветков, и осознал порядок и красоту мира, что стало прототипом каждого научного открытия и радости, которые мне предстояло испытать в дальнейшем.) Все эти мысли и образы, возникавшие помимо моей воли и проносившиеся у меня в мозгу, были исполнены счастья и благодарности. И только позднее я спросил себя: «Что это за настроение?» – и понял, что оно было подготовкой к смерти. «Пусть твои последние мысли будут благодарностью», – как сказал Оден.
Около шести я совершенно неожиданно заметил, что тени удлинились, а солнце больше не стоит высоко на небе. Какая-то часть меня, подобно Джошуа, стремилась удержать солнце в зените, чтобы продлился золотой и синий день. Теперь я вдруг понял, что наступил вечер и что через час или около того солнце сядет.
Вскоре после этого я добрался до длинного поперечного уступа, откуда открывался вид на деревню и фьорд. До этого уступа, поднимаясь наверх, я добрался около десяти часов утра: он был примерно на полпути между воротами и тем местом, где я упал. Таким образом, на расстояние, которое я преодолел чуть больше чем за час при подъеме, при спуске у меня с моим увечьем ушло почти семь часов. Я увидел, как чудовищно, как оптимистично я ошибся в расчетах, сравнивая свое сползание с ходьбой: теперь я видел, что вниз спускался в шесть раз медленнее. Как мог я вообразить, что спуск займет вдвое больше времени, чем подъем, и что я окажусь в окрестностях самой высоко расположенной фермы к наступлению сумерек? В долгие часы моего путешествия я согревался – вперемежку с возбужденными и не такими уж уютными мыслями – утешительным представлением об ожидающем меня крестьянском доме, мягко освещенном изнутри, о заботливой крестьянке с ямочками на щеках, которая меня накормит и оживит любовью и теплым молоком, а ее муж, мрачный гигант, отправится в деревню за помощью. Меня на протяжении всех бесконечных часов спуска втайне поддерживало это видение, а теперь оно погасло – погасло неожиданно, как свеча; на этом горизонтальном уступе его сменила леденящая душу реальность.
Теперь я мог видеть то, что было скрыто от меня туманом при подъеме, – видеть, как далека, как недостижимо далека от меня была деревня. И все же, хотя надежда во мне умерла, меня утешала возможность смотреть на деревушку и особенно на церковь, окрашенную в розовый цвет длинными лучами заходящего солнца. Я мог разглядеть прихожан, собирающихся на вечернюю службу, и меня полностью захватило воспоминание о том, как я сидел в церкви всего лишь накануне и слушал мессу. Воспоминание было таким ярким, что я услышал ее – услышал с такой отчетливостью, что на мгновение решил, что месса исполняется и сегодня и звуки каким-то чудом плывут ко мне благодаря особенностям горного воздуха. Я был глубоко тронут, по щекам у меня потекли слезы; и тут я внезапно понял, что слышу не мессу, а реквием. Мое подсознание заменило одно другим. Или, опять же в силу сверхъестественной акустической иллюзии, я слышал исполняемый в церкви реквием – реквием по мне?
Вскоре после семи солнце скрылось; казалось, с собой оно забрало все цвета и все тепло мира. Не было никакой неторопливой лучезарности заката – здесь все происходило проще, суровее, что больше похоже на Арктику. Воздух внезапно посерел и стал холоднее. Эта серость и холод пронизали меня до мозга костей. Тишина сделалась абсолютной. Я больше не слышал вокруг себя никаких звуков. Я больше не слышал себя. Все утопало в безмолвии. Были моменты, когда я считал себя умершим, и всеобъемлющая тишина становилась тишиной смерти. Так наступает начало конца.
Неожиданно, не веря собственным ушам, я услышал крик, длинный йодль, раздавшийся где-то совсем близко. Я повернулся и увидел стоящих на скале мужчину и мальчика, смутные силуэты в сгущающихся сумерках – менее чем в десяти ярдах от тропы, чуть выше меня. Я не замечал своих спасителей, пока они не обнаружили меня. Думаю, что в последние темные минуты, когда мои глаза были устремлены на едва видную тропу передо мной или слепо глядели в пространство, я перестал быть настороже, постоянно оглядываясь, как это было на протяжении дня. Вероятно, я полностью перестал осознавать окружающее, отказавшись от всех мыслей о спасении жизни, так что спасение, когда оно пришло, явилось словно ниоткуда – чудо, благодать в самый последний момент. Еще несколько минут – и стало бы слишком темно, чтобы меня увидеть. Мужчина, издавший йодль, стоял, опустив ружье; паренек рядом с ним тоже был вооружен. Они спустились ко мне, и мне не понадобилось объяснять им, в каком я положении. Я обнимал их обоих, целовал их – этих носителей жизни. Заикаясь, на ломаном норвежском я рассказал, что случилось со мной на вершине, а чего не мог выразить словами, попытался нарисовать на земле.
Мои спасители рассмеялись, глядя на изображение быка. Я рассмеялся вместе с ними; неожиданно этот смех разрядил трагическое напряжение. Я почувствовал себя замечательно и, так сказать, комически живым. Мне казалось, что в горах я испытал абсолютно все эмоции, но только теперь до меня дошло, что я ни разу не смеялся. Теперь же я не мог остановиться – это был смех облегчения, смех любви – тот смех, который исходит из самых глубин человеческого существа. Тишина была нарушена, та полная безжизненная тишина, которая словно околдовала меня в последние минуты моего одиночества.
«Как здесь хорошо, – подумал я. – Почему бы не отдохнуть немного, может быть, даже вздремнуть?»
Соблазнительный и усыпляющий внутренний голос словно уговаривал меня, но усилием воли я заставил его замолчать. Здесь не было «хорошо», чтобы отдохнуть и вздремнуть. Такое намерение было смертельно опасным и наполнило меня ужасом.
«Нет! – яростно заявил я себе. – Это говорит Смерть – своим нежным убийственным голосом сирены. Не слушай ее! Никогда не слушай! Ты должен продолжать путь, нравится это тебе или нет. Ты не можешь здесь отдохнуть – отдыхать вообще нельзя! Ты должен найти ритм, которому можешь следовать, и упорно его выдерживать».
Этот хороший голос, голос жизни, взбодрил меня и придал сил. Я перестал дрожать и избавился от нерешительности. Я снова целеустремленно двинулся в путь и больше не колебался.
Тут мне на помощь пришли мелодия, ритм и музыка (то, что Кант называл «ускоряющим» искусством). До того как я перебрался через ручей, я двигался только с помощью физической силы своих сильных рук. Теперь я, так сказать, двигался с помощью музыки. Я этого не изобретал, все получилось само собой. Я подчинялся ритму, меня вел марш или песня гребцов – иногда песня волжских бурлаков, иногда мой собственный монотонный напев на слова «Ohne Haste, ohne Rastf! Ohne Haste, ohne Rastf!» («Без спешки, без отдыха») с сильным ударением на каждом Haste и Rastf. Никогда еще в моей жизни слова Гёте не находили лучшего применения! Теперь
мне не нужно было думать о том, двигаюсь ли я слишком быстро или слишком медленно. Я погрузился в музыку, погрузился в ритм, и это обеспечивало мне правильный темп. Я обнаружил, что ритм обеспечивает совершенную координацию – или, может быть, лучшим словом было бы «подчинение»: музыкальный размер возникал во мне, и все мышцы послушно откликались на него – все, кроме мускулов левой ноги, которые оставались «глухими». Не говорил ли Ницше, что мы «слушаем своими мышцами»? Я вспомнил о днях занятий греблей в колледже – наша восьмерка подчинялась ритму, который задавал рулевой; это было что-то вроде мышечного оркестра с рулевым-дирижером.
Каким-то образом с этой «музыкой» мое продвижение перестало казаться мрачной, полной тревоги борьбой. Возникло даже определенное примитивное возбуждение, подобное тому, которое Павлов называл «мускульной радостью». И к тому же, чтобы порадовать меня еще больше, из-за облаков выглянуло солнце, погладило меня теплыми лучами и скоро высушило мою одежду. Все это весьма положительно на меня повлияло, и только после того, как я довольно долго громким басом распевал свои марши, я неожиданно обнаружил, что о быке совсем забыл. Точнее, я забыл свой страх – отчасти поняв, что он больше неуместен, отчасти сообразив, что он с самого начала был абсурдным. Теперь во мне не было места этому страху, да и какому-либо страху вообще, потому что я был до краев полон музыкой. И даже когда эта музыка (слышимая музыка) не звучала буквально, оставалась музыка моего мышечного оркестра – «безмолвная музыка тела», по замечательному выражению Харви. Под ее звуки, с ритмичностью моего движения я сам стал музыкой: «Ты музыка до тех пор, пока музыка звучит». Я стал созданием из мышц, движения и музыки, существующих неразрывно и звучащих в унисон, – за исключением той ненастроенной части меня, того несчастного сломанного инструмента, который не мог влиться в оркестр и оставался неподвижным, без ритма и мелодии.
Когда-то в детстве у меня была скрипка, которая случайно разбилась на куски. В отношении своей ноги я теперь испытывал те же чувства, что и давным-давно в отношении той бедной сломанной скрипки. С ощущением счастья, решительностью и бодрящей музыкой смешивалась острая и мучительная горечь потери того музыкального инструмента, каким раньше была моя нога. «Скоро ли она поправится? – думал я. – Когда начнет она исполнять собственную мелодию? Когда присоединится к радостной музыке всего тела? О, когда?»
К двум часам облака разошлись настолько, что я смог наслаждаться великолепным видом на фьорд подо мной и на маленькую деревушку, откуда я вышел девять часов назад. Мне была видна старинная церковь, в которой накануне вечером я слушал моцартовскую мессу до-мажор. Я почти мог разглядеть – нет, и на самом деле мог – крошечные фигурки на улице. Был ли воздух невероятно, сверхъестественно чист? Или это мое восприятие обрело ненормальную остроту? Я подумал о том сновидении, которое пересказывал Лейбниц: он оказался на огромной высоте, глядя на распростершийся под ним мир с его странами, городами, озерами, полями, деревнями, хуторами. Если он хотел рассмотреть какого-то человека – крестьянина, пашущего землю, старуху, стирающую белье, – ему нужно было только направить на него взгляд и сосредоточиться: «Не нужно было никакого телескопа, кроме внимания». Также было и со мной: мое зрение обострило отчаянное желание, сильнейшая потребность видеть других людей и еще в большей мере быть увиденным ими. Никогда еще не казались люди мне столь дорогими – и столь далекими. Я чувствовал себя таким близким к ним, глядя как сквозь мощный телескоп, и в то же время таким полностью отрезанным от их мира. Если бы только у меня был флаг или сигнальный фонарь, ружье, почтовый голубь, радиопередатчик! Если бы я мог издать действительно гаргантюанский вопль – такой, который был бы слышен на расстоянии десяти миль! Как иначе могли они узнать о том, что есть их товарищ, пострадавший человек, борющийся за свою жизнь на высоте пяти тысяч футов? Я был в поле зрения своих возможных спасителей, и все же, возможно, мне предстояло умереть. В моих чувствах было что-то безличное, вселенское. Я стал бы кричать не «Спасите меня, Оливера Сакса!», а «Спасите страдающее живое существо, спасите жизнь!». Этот призыв я так часто читал в глазах своих пациентов, эта мольба погибающего на краю пропасти, – могучее, яркое, законное желание остаться в живых.
Прошел час, и еще, и еще – под великолепным безоблачным небом, под солнцем, проливающим бледно-золотой чистый арктический свет. День был прекрасным, земля и воздух в своей красоте, блеске и спокойствии словно погрузились в безмятежность. Часы текли, я упорно продолжал свой путь вниз, а мой разум освободился от тяжких мыслей. Меня посещали давно забытые воспоминания, неизменно светлые, – о летних днях, согретых солнечным светом, который одновременно был счастьем и благословением, о тех летних днях, проведенных с семьей и друзьями, череда которых уходила в самое раннее детство. Сотни воспоминаний проносились у меня в уме за время, которое уходило на преодоление пространства между одним утесом и следующим, но эти воспоминания не были чередой мелькающих лиц и голосов. Каждая сцена полностью переживалась заново, все разговоры вспоминались без каких-либо сокращений. Самые ранние воспоминания касались нашего сада – нашего большого старого лондонского сада, каким он был до войны. Я заплакал от радости, когда его увидел – наш сад с его дорогим мне старым железным забором, просторной ровной лужайкой, только что скошенной (огромная древняя косилка всегда стояла в углу), полосатым гамаком с подушками, каждая из которых была больше меня, – в нем я обожал качаться часами, – и радостью моего сердца – крупными подсолнухами с круглыми соцветиями, совершенно меня завораживавшими и показавшими мне, пятилетнему, Пифагорову тайну мироздания. (Ведь именно тогда, летом 1939 года, я открыл для себя, что соцветия состоят из множества простых цветков, и осознал порядок и красоту мира, что стало прототипом каждого научного открытия и радости, которые мне предстояло испытать в дальнейшем.) Все эти мысли и образы, возникавшие помимо моей воли и проносившиеся у меня в мозгу, были исполнены счастья и благодарности. И только позднее я спросил себя: «Что это за настроение?» – и понял, что оно было подготовкой к смерти. «Пусть твои последние мысли будут благодарностью», – как сказал Оден.
Около шести я совершенно неожиданно заметил, что тени удлинились, а солнце больше не стоит высоко на небе. Какая-то часть меня, подобно Джошуа, стремилась удержать солнце в зените, чтобы продлился золотой и синий день. Теперь я вдруг понял, что наступил вечер и что через час или около того солнце сядет.
Вскоре после этого я добрался до длинного поперечного уступа, откуда открывался вид на деревню и фьорд. До этого уступа, поднимаясь наверх, я добрался около десяти часов утра: он был примерно на полпути между воротами и тем местом, где я упал. Таким образом, на расстояние, которое я преодолел чуть больше чем за час при подъеме, при спуске у меня с моим увечьем ушло почти семь часов. Я увидел, как чудовищно, как оптимистично я ошибся в расчетах, сравнивая свое сползание с ходьбой: теперь я видел, что вниз спускался в шесть раз медленнее. Как мог я вообразить, что спуск займет вдвое больше времени, чем подъем, и что я окажусь в окрестностях самой высоко расположенной фермы к наступлению сумерек? В долгие часы моего путешествия я согревался – вперемежку с возбужденными и не такими уж уютными мыслями – утешительным представлением об ожидающем меня крестьянском доме, мягко освещенном изнутри, о заботливой крестьянке с ямочками на щеках, которая меня накормит и оживит любовью и теплым молоком, а ее муж, мрачный гигант, отправится в деревню за помощью. Меня на протяжении всех бесконечных часов спуска втайне поддерживало это видение, а теперь оно погасло – погасло неожиданно, как свеча; на этом горизонтальном уступе его сменила леденящая душу реальность.
Теперь я мог видеть то, что было скрыто от меня туманом при подъеме, – видеть, как далека, как недостижимо далека от меня была деревня. И все же, хотя надежда во мне умерла, меня утешала возможность смотреть на деревушку и особенно на церковь, окрашенную в розовый цвет длинными лучами заходящего солнца. Я мог разглядеть прихожан, собирающихся на вечернюю службу, и меня полностью захватило воспоминание о том, как я сидел в церкви всего лишь накануне и слушал мессу. Воспоминание было таким ярким, что я услышал ее – услышал с такой отчетливостью, что на мгновение решил, что месса исполняется и сегодня и звуки каким-то чудом плывут ко мне благодаря особенностям горного воздуха. Я был глубоко тронут, по щекам у меня потекли слезы; и тут я внезапно понял, что слышу не мессу, а реквием. Мое подсознание заменило одно другим. Или, опять же в силу сверхъестественной акустической иллюзии, я слышал исполняемый в церкви реквием – реквием по мне?
Вскоре после семи солнце скрылось; казалось, с собой оно забрало все цвета и все тепло мира. Не было никакой неторопливой лучезарности заката – здесь все происходило проще, суровее, что больше похоже на Арктику. Воздух внезапно посерел и стал холоднее. Эта серость и холод пронизали меня до мозга костей. Тишина сделалась абсолютной. Я больше не слышал вокруг себя никаких звуков. Я больше не слышал себя. Все утопало в безмолвии. Были моменты, когда я считал себя умершим, и всеобъемлющая тишина становилась тишиной смерти. Так наступает начало конца.
Неожиданно, не веря собственным ушам, я услышал крик, длинный йодль, раздавшийся где-то совсем близко. Я повернулся и увидел стоящих на скале мужчину и мальчика, смутные силуэты в сгущающихся сумерках – менее чем в десяти ярдах от тропы, чуть выше меня. Я не замечал своих спасителей, пока они не обнаружили меня. Думаю, что в последние темные минуты, когда мои глаза были устремлены на едва видную тропу передо мной или слепо глядели в пространство, я перестал быть настороже, постоянно оглядываясь, как это было на протяжении дня. Вероятно, я полностью перестал осознавать окружающее, отказавшись от всех мыслей о спасении жизни, так что спасение, когда оно пришло, явилось словно ниоткуда – чудо, благодать в самый последний момент. Еще несколько минут – и стало бы слишком темно, чтобы меня увидеть. Мужчина, издавший йодль, стоял, опустив ружье; паренек рядом с ним тоже был вооружен. Они спустились ко мне, и мне не понадобилось объяснять им, в каком я положении. Я обнимал их обоих, целовал их – этих носителей жизни. Заикаясь, на ломаном норвежском я рассказал, что случилось со мной на вершине, а чего не мог выразить словами, попытался нарисовать на земле.
Мои спасители рассмеялись, глядя на изображение быка. Я рассмеялся вместе с ними; неожиданно этот смех разрядил трагическое напряжение. Я почувствовал себя замечательно и, так сказать, комически живым. Мне казалось, что в горах я испытал абсолютно все эмоции, но только теперь до меня дошло, что я ни разу не смеялся. Теперь же я не мог остановиться – это был смех облегчения, смех любви – тот смех, который исходит из самых глубин человеческого существа. Тишина была нарушена, та полная безжизненная тишина, которая словно околдовала меня в последние минуты моего одиночества.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Другие электронные книги автора Оливер Сакс
Зримые голоса




 4.67
4.67
Глаз разума




 4.67
4.67