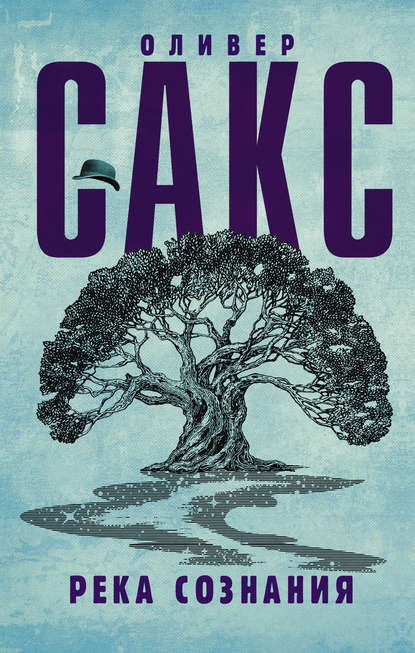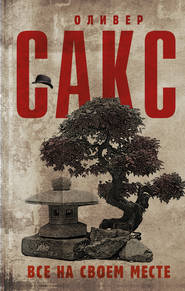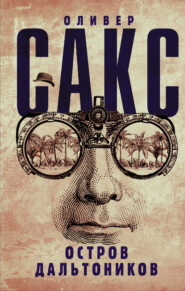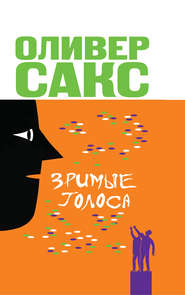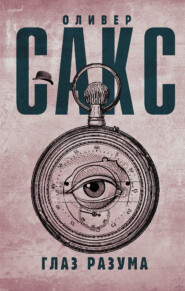По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Река сознания (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Происхождение видов» стало атакой, хотя и довольно щадящей, на креационизм, и Дарвин проявил осторожность и сдержанность в этой книге, обойдя вопрос об эволюции человека. Но то, что его теория прямо намекала на это, было ясно всем. Особую ярость и насмешки вызывала сама идея о том, что человека можно считать обычным животным, обезьяной, происшедшим тоже от животных. Для большинства людей растения – другие существа, они не двигаются, лишены чувств, являются обитателями иного царства, отделенного от царства животных глубокой и широкой пропастью. Эволюция растений, считал Дарвин, могла показаться менее важной и угрожающей, чем эволюция животных, а значит, более доступной спокойному и рациональному обсуждению. Он писал Эйзе Грею, что «никто, кажется, не понял, что мой повышенный интерес к орхидеям – лишь отвлекающий маневр для противника». Дарвин никогда не отличался такой воинственностью, как его «бульдог» Гексли, но понимал, что битвы не избежать, поэтому и использовал военные метафоры.
Однако в книге об орхидеях нет ни воинственности, ни полемики, она вся пронизана радостью и восторгом от того, что видел и наблюдал автор. Этими чувствами наполнены его письма:
«Вы не представляете, как восхитили меня орхидеи! Чудесное строение! Красота приспособленности их частей кажется мне несравненной… Я едва не сошел с ума, столкнувшись с богатством орхидей… Один чудесный цветок из Катасетума был самым великолепным из всех виденных мною орхидей… Счастлив тот, кому довелось наблюдать рои пчел, жужжащих вокруг Катасетума, с пыльцой, прилипшей к спинкам этих насекомых! Я никогда так глубоко не интересовался ни одним предметом, как орхидеями».
Оплодотворение цветков занимало Дарвина до конца его жизни, и за книгой об орхидеях через пятнадцать лет последовала еще одна, более обобщенная: «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире».
Однако растениям, как и животным, надо выживать, преуспевать, находить и создавать свои ниши в мире, если они «хотят» достичь момента размножения. Дарвин одинаково интересовался средствами и приспособительными механизмами, с помощью которых растения выживали, а также их разнообразным и подчас удивительным образом жизни, включая органы чувств и движения, подобные таковым органам животных.
В 1860 году во время летнего отдыха он впервые столкнулся с насекомоядными растениями и сразу «влюбился» в них. Дарвин взялся за исследования, которые через пятнадцать лет завершились книгой «Насекомоядные растения». Этот труд написан легким, доступным языком и, как большинство его книг, наполнен личными воспоминаниями:
«Я был поражен количеством насекомых, каких обычная росянка (Drosera rotundifolia) могла поймать своими листьями в жаркую погоду в Суссексе. Все шесть листьев одного из растений ловили своих жертв… Многие листья причиняли смерть насекомым, не получая при этом, насколько мы можем судить, никаких выгод. Однако вскоре стало очевидно: росянка прекрасно приспособлена к данной особой цели – ловле насекомых».
Идея приспособления всегда занимала Дарвина, и один взгляд на росянку подсказал ему, что это было приспособление совершенно нового типа, потому что на ее листьях не только присутствовал липкий сок, но они были покрыты тонкими волокнами (Дарвин назвал их «усиками») с крошечными железами на конце. Он заинтересовался, зачем они нужны растению? «Если на железы в центре листа поместить маленький органический или неорганический предмет,
«…то они передают двигательный импульс усикам, находящимся на краях листа… Ближайшие усики реагируют первыми и наклоняются в сторону центра, а затем импульс распространяется и на отдаленные усики, до тех пор, пока все они не наклонятся в направлении предмета.
Но если предмет не был питательным, то лист очень скоро сбрасывал его».
Дарвин продемонстрировал это, укладывая на некоторые листья росянки комочки яичного белка, а на другие – такие же по размеру кусочки неорганических веществ. Неорганические вещества сбрасывались листьями, а яичный белок оставался и стимулировал выделение фермента и кислоты. Те вскоре переваривали белок, после чего он всасывался листом. То же самое происходило и с насекомыми, особенно живыми. Итак, росянка, не имея ни рта, ни кишечника, ни нервов, эффективно ловила жертвы, использовав специальные пищеварительные ферменты, переваривала их и всасывала.
Дарвин интересовался не только тем, как «работает» росянка, но и почему у нее такой необычный образ жизни. В своих наблюдениях он отметил, что росянка росла в болотах, на кислой почве, относительно бедной органическими материалами и легко усваиваемым азотом. Немногие растения сумели бы выжить на подобной почве, но Drosera нашла способ овладеть этой нишей, поглощая азот непосредственно из насекомых, а не из почвы. Пораженный свойственной животным координацией движений усиков, которые смыкались над своей жертвой, как усики морского анемона, и такой же, тоже характерной для животных способностью к перевариванию пищи, Дарвин писал Эйзе Грею: «Вы несправедливы к достоинствам моей любимой Drosera, это чудесное растение, или скорее разумное животное. Я привязался к Drosera до конца своих дней».
Он стал восторгаться росянкой еще сильнее, обнаружив, что если сделать небольшой разрез в середине листа, то усики на половине листа оказываются парализованными, словно этот разрез пересекал какой-то нерв. Поведение этого листа, писал Дарвин, напоминало «человека, у которого после перелома позвоночника возникает паралич нижних конечностей». Позднее он получил образцы венериной мухоловки – растения из семейства росянок, – у которой лист при раздражении волосков на нем захлопывался, захватывая сидящее на нем насекомое. Реакция мухоловки была такой стремительной, что Дарвин задумался о том, не участвует ли в данной реакции электричество, создавая нечто подобное нервному импульсу. Он обсудил этот вопрос со своим другом физиологом Бердоном Сандерсоном и пришел в полный восторг, когда тот показал, что листья мухоловки действительно генерируют электрический ток, вызывающий их захлопывание. «Если лист получает раздражение, – писал Дарвин в “Насекомоядных растениях”, – в нем возбуждается такой же ток, как и при сокращениях мышц животного».
Часто растения считают существами бесчувственными и неподвижными, но насекомоядные растения наглядно опровергают такой взгляд, и Дарвин, охваченный стремлением выявить и другие аспекты движения у растений, обратился к изучению лазящих растений. Кульминацией его исследований стала книга «Движения и повадки лазящих растений». Лазание – эффективный приспособительный признак, который позволил лазящим и вьющимся растениям избавиться от бремени жестких опорных тканей и использовать другие растения, чтобы, опираясь на них, устремляться ввысь, к солнцу. Приемов лазания оказалось не один, а множество. Растения могут быть вьющимися, использовать для лазания листья или специальные усики. Эти последние особенно интересовали Дарвина. Складывалось впечатление, что у них есть глаза и они могли осматривать окружающие предметы в поисках подходящей опоры. «Я думаю, сэр, что усики обладают способностью видеть», – писал он Эйзе Грею. Но какой степени сложности достигает такое приспособление?
Дарвин считал вьющиеся растения предками всех лазящих растений и предполагал, что именно из вьющихся растений развились лазящие растения, снабженные усиками, а растения, лазящие с помощью листьев, возникли из растений с усиками. Это развитие позволяло осваивать все новые и новые сферы, где организм мог выступить в иной роли. Лазящие растения развивались в течение длительного времени, они не возникли мгновенно, по велению Божьему. Но как вообще стало возможным перемещение с помощью обвивающихся побегов? Дарвин внимательно исследовал обвивающие движения побегов, листьев и корней каждого растения и обнаружил, что обвивающие движения (он называл их обращениями) можно наблюдать и у «низших» растений: саговников, папоротников и водорослей. Когда растения растут по направлению к свету, то они не просто тянутся вверх, а извиваются, закручиваются вокруг собственной оси, стремясь к солнцу. Способность к обращениям является универсальной предрасположенностью растений, пришел к заключению Дарвин, и именно это стало началом остальных вращательных движений у растений.
Эти мысли, подкрепленные дюжинами изящных экспериментов, составили основное содержание последней ботанической книги Дарвина «Движения растений. Способности к движению у растений», опубликованной в 1880 году. Среди множества изобретательных и остроумных опытов был один, в ходе которого Дарвин сажал рассаду овса, а затем освещал проростки с разных направлений. Он обнаружил, что ростки всегда изгибались или поворачивались в сторону источника света, причем даже в тех случаях, когда свет был настолько тусклым, что человеческий глаз был неспособен различить его. Была ли на побегах, подобно тому, что Дарвин предполагал в усиках лазящих растений, фоточувствительная область, своего рода «глаз»? Он стал надевать на кончики прораставших листьев колпачки, закрашенные тушью, и заметил, что листья переставали реагировать на свет. Отсюда Дарвин заключил, что, когда свет падает на кончик листа, он стимулирует образование в нем какого-то сигнала, а тот, достигая «двигательной» части сеянца, вынуждает его поворачивать растение к свету. Исследуя подобным же образом поведение корней тех же сеянцев, которым пришлось пройти через самые разнообразные препятствия, Дарвин выяснил, что корни чрезвычайно чувствительны к физическому контакту, силе тяжести, давлению, влажности, градиенту содержания химических веществ и т. д. По этому поводу он писал:
«В растениях нет более замечательного – в том, что касается функции – органа, нежели кончика корешка… Едва ли будет преувеличением сказать, что кончик корешка действует как мозг какого-нибудь из низших животных, получая впечатления от органов чувств и направляя в соответствии с ними свои движения».
Однако, как замечает Джанет Браун в биографии Дарвина, «Способности к движению у растений» оказались «неожиданно противоречивыми». Его идеи об обращении подверглись жесткой критике. Сам Дарвин всегда признавал, что это была лишь умозрительная идея, но более серьезная критика прозвучала из уст немецкого ботаника Юлиуса Сакса. Он, по словам Браун, «ополчился на дарвиновское предположение о том, что кончик корня можно сравнить с мозгом простого организма, и заявил, что доморощенные эксперименты Дарвина были смехотворно ущербными».
Какими бы доморощенными, однако, ни являлись опыты Дарвина, его наблюдения были точны и корректны. Идея о химических посредниках, передающих от чувствительного корешка сигнал к «двигательным» тканям, привели через пятьдесят лет к открытию в растениях гормоноподобных веществ, ауксинов, которые у растений играют, вероятно, такую же роль, как нервная система у животных.
В течение сорока лет Дарвин страдал какой-то неизвестной болезнью, которая появилась у него после возвращения с Галапагосских островов. Иногда его целыми днями рвало, а порой он несколько недель не мог встать с постели. К старости у него развился и сердечный недуг. Но интеллект и способность к творчеству не покинули его до самой смерти. После «Происхождения видов» Дарвин написал еще десять книг, многие из которых он впоследствии сам редактировал и перерабатывал – и это не считая десятков статей и бесчисленного множества писем. Дарвин продолжал интересоваться своими любимыми предметами всю жизнь. В 1877 году он опубликовал второе, кардинально переработанное издание книги об орхидеях (первое издание вышло на пятнадцать лет раньше). Мой друг Эрик Корн, антиквар и специалист по Дарвину, рассказывал, что однажды наткнулся на экземпляр второго издания, где нашел корешок выписанного в 1882 году чека на два шиллинга девять пенсов с подписью самого Дарвина. Чек был выписан для оплаты образца орхидеи. Дарвин умер в апреле того же года, но до последнего дня был влюблен в орхидеи и продолжал собирать их для изучения.
Естественная красота воспринималась им не просто как эстетическое свойство, но и как отражение функции и приспособления. Орхидеи имеют такую форму не для того, чтобы их разводили в садах или собирали из них букеты; их красота – изысканное ухищрение, пример силы воображения природы и естественного отбора в действии. Появление цветов не требовало Творца, можно представить, что они явились результатом случайностей и отбора, медленных, крошечных ступенчатых изменений, растянувшихся на сотни миллионов лет. В этом, по Дарвину, и заключался смысл цветов, адаптации растений и животных, естественного отбора.
Порой возникает ощущение, что Дарвин сделал больше, чем кто-либо иной, для того, чтобы изгнать из мира слово «смысл», если иметь в виду божественный смысл или цель. Действительно, у мира Дарвина нет проекта, плана, чертежей. У естественного отбора нет ни направления, ни цели, к которой он стремится. Часто говорят, что дарвинизм положил конец богословскому мышлению. Однако его сын писал:
«Одна из величайших заслуг моего отца в изучении естественной истории заключается в возрождении телеологии. Эволюционист изучает цель или смысл органов с пылом и рвением прежних телеологов, но имея перед собой обширную и внятную цель. Его подстегивает знание того, что он получает не изолированную концепцию современного состояния, а связно собирает воедино прошлое и настоящее. Даже если ему не удается выявить конкретную пользу какой-либо части организма, он может, зная его строение, раскрыть историю прошлого окружения в жизни данного вида. Таким образом, жизненная сила и единство придаются изучению форм высокоорганизованных существ, чего не было в науке раньше».
И это, как полагал Фрэнсис, «было сделано в ботанических трудах Дарвина с не меньшей эффективностью, чем в “Происхождении видов”».
Задавая вопрос «почему?», отыскивая смысл, Дарвин смог в своих ботанических сочинениях предоставить убедительные доказательства эволюции и естественного отбора. Делая это, он одновременно преобразил ботанику, превратив ее из чисто описательной дисциплины в эволюционную науку. Действительно, ботаника – первая эволюционная наука, и изыскания Дарвина открыли путь ко всем другим эволюционным наукам и, в конце концов, к тому, что, как выразился Феодосий Добжанский, «любой феномен в биологии имеет смысл только в свете эволюции».
Дарвин говорил о «Происхождении видов» как о «долгом аргументе». Наоборот, его ботанические книги были более личными и лиричными, менее систематичными по форме, и в них было больше описаний, чем логических аргументов. Согласно Фрэнсису Дарвину, Эйза Грей заметил однажды, что если бы книга об орхидеях «появилась раньше “Происхождения видов”, то богословы естественной истории канонизировали бы автора, а не подвергли бы его анафеме».
В своем автобиографическом эссе Лайнус Полинг пишет, что прочитал «Происхождение видов» в десятилетнем возрасте. Я не был столь развит в юном возрасте и не мог по достоинству оценить «длинный аргумент», однако проникся дарвиновским видением мира в нашем саду, в котором летом распускались цветы, а вокруг них жужжали пчелы, перелетая с одного цветка на другой. Моя мать, любившая ботанику, объяснила, что? делали пчелы с их вымазанными желтой пыльцой лапками, и рассказала, как цветы и пчелы зависят друг от друга.
У большинства ярких цветов был сильный аромат, но особенно выделялись две магнолии с огромными светлыми цветами, лишенными запаха. Магнолия была буквально покрыта мелкими насекомыми, крошечными жучками. Магнолия, объяснила мне мама, одно из самых древних цветковых растений, она появилась почти сто миллионов лет назад. Тогда таких «современных» насекомых, как пчелы, еще не существовало, и магнолия могла рассчитывать лишь на других насекомых, жуков, которые и занимались ее опылением. Появление пчел и бабочек не было предопределено. Они развивались медленно в течение миллионов лет. Идея мира без пчел, бабочек и ароматных красивых цветов показалась тогда мне страшной и отталкивающей.
Мысль о таких невероятно огромных периодах времени и о мощи мельчайших, никуда не направленных изменений, которые, накапливаясь, могли порождать новые миры, богатые и разнообразные, была поразительной. Для многих из нас эволюционная теория явилась источником ощущения глубокого смысла, приносящая больше удовлетворения, чем вера в божественный план. Представленный нам мир стал прозрачной поверхностью, сквозь которую стала видна вся история жизни. От мысли, что динозавры до сих пор бродили бы по земле, а человек вообще мог бы не появиться, кружилась голова. Она делала жизнь еще более драгоценной и чудесной, нескончаемым приключением («блестящей случайностью», как выразился Стивен Джей Гулд) – а не чем-то застывшим и предопределенным, – приключением, восприимчивым к изменениям и новым ощущениям.
Жизнь на нашей планете существует несколько миллиардов лет, и эта давняя история буквально воплощена в анатомической структуре нашего тела, в поведении, в инстинктах, в генах. Например, у людей сохранились жаберные дуги, правда, они усовершенствовались по сравнению с жаберными дугами наших рыбьих предков. Мало того, часть нашей нервной системы когда-то управляла движением жабр. В «Происхождении человека» Дарвин писал: «Человек до сих пор словно несет на своем строении неизгладимый отпечаток своего происхождения от низших форм». Мы являемся реликтами еще более древнего прошлого, поскольку состоим из клеток, а они возникли на заре жизни.
В 1837 году в своей первой из многих записных книжек, которые Дарвин посвятил проблеме видов, он набросал эскиз древа жизни. Его ветвистый силуэт, архетипический и мощный, отражал равновесие между эволюцией и вымиранием видов. Дарвин всегда подчеркивал непрерывность жизни, утверждая, что все живые существа происходят от общего предка, и в этом смысле все мы родственники. Так, люди являются не только родственниками обезьян и других животных, но и растений. Теперь мы знаем, что общность между ДНК растений и животных составляет 70 процентов. Но, тем не менее, благодаря великому двигателю естественного отбора – изменчивости – каждый вид уникален, как уникален и каждый индивидуальный организм.
Древо жизни наглядно показывает и родство всех живых организмов, и то, как происходит «нисхождение с изменениями», как вначале называл Дарвин эволюцию, в каждом его разветвлении. Оно убеждает, что эволюция никогда не останавливается, не повторяет себя, не движется вспять. Древо также демонстрирует неотвратимость и необратимость вымирания. Если ветвь засыхает и отваливается, то данный путь эволюции утрачивается навсегда.
Мне нравится осознание своей биологической уникальности, древности и родства со всеми иными формами жизни. Оно позволяет чувствовать себя в естественном мире, как дома, понимать свою значимость в биологическом смысле, независимо от моей роли в культурном, человеческом мире. Животная жизнь намного сложнее растительной, а жизнь человека неизмеримо сложнее жизни животных, однако я четко прослеживаю эту общую связь, как и Дарвин.
Скорость
Еще в детстве я был очарован скоростью, самой по себе, и огромным разнообразием скоростей в окружавшем меня мире. С разными скоростями передвигались люди, а диапазон скоростей у животных был еще больше. Крылья насекомых мелькали так быстро, что за их движениями было невозможно уследить, но о частоте взмахов можно было судить по высоте издаваемого ими звука – противного писка комаров или приятного басовитого гудения шмелей, которые каждое лето навещали свои любимые розы. Нашей черепахе требовался целый день, чтобы пересечь лужайку, и мне казалось, будто она живет в каком-то ином временно?м измерении. Но что можно было сказать о движении растений? Утром я подходил к розам и замечал, что за прошедший день они стали выше, сильнее закручивались вокруг стоек, но, как я ни был терпелив, мне не удавалось увидеть самого движения.
Впечатления такого рода сыграли свою роль в моем увлечении фотографией. Они позволили мне изменять скорость движения, ускорять или замедлять его, приспособив к уровню человеческого восприятия детали движения или другие изменения, недоступные невооруженному глазу. Увлекшись также микроскопами и телескопами (они хранились у нас дома, потому что мои старшие братья были студентами-медиками и орнитологами-любителями), я стал думать о замедлении и ускорении как о временных эквивалентах микроскопии (замедление) или телескопии (ускорение).
Я экспериментировал, фотографируя растения. Особенно мне нравилось снимать папоротники, их молодые, свернутые листья или сережки, буквально лопавшиеся от сжатого в них, как пружина, времени. В них было «свернуто» будущее. Я устанавливал фотоаппарат на треногу и фотографировал сережки с интервалом в час. Потом проявлял пленку, печатал с негативов снимки и укладывал их в книжку-гармошку. Вскоре, как в волшебном фонаре, я наблюдал, как разворачиваются сережки, словно бумажные трубки. За мгновение протекал процесс, который в реальности мог занять пару дней.
Замедлять движение было труднее, чем ускорять его, и здесь я полностью зависел от своего двоюродного брата, фотографа, у которого была кинокамера, позволявшая снимать несколько сотен кадров в секунду. С помощью камеры я ловил за работой шмелей, склонившихся над цветками, и настолько замедлял биения их крыльев, что мог отчетливо, во всех подробностях, наблюдать, как они поднимают их и опускают.
Мой повышенный интерес к скорости, движению и времени, а также к способам их замедления и ускорения сподвиг меня с увлечением читать две книги Герберта Уэллса – «Машину времени» и «Новейший ускоритель», с их живыми, исполненными недюжинного воображения, почти кинематографическими описаниями изменения времени.
«Когда я прибавил скорость, ночь стала следовать за днем в виде стремительного взмаха черного крыла», – сообщает путешественник во времени Уэллса. —
«Я видел, как Солнце быстро несется по небу, проскакивая его за минуту, и каждая, таким образом, соответствовала одному дню. Самые медлительные улитки летели мимо меня так, что я не мог за ними уследить. Постепенно, когда я набрал приличную скорость, мелькания дня и ночи слились в одну сплошную серость… Солнце проносилось по небу, как огненный след, а Луна образовывала на небе бледную широкую полосу. Деревья вырывались из-под земли, словно клубы пара, огромные здания вырастали, как призраки, и исчезали, будто сновидения. Казалось, изменилась вся поверхность Земли – она плавилась и переливалась у меня на глазах».
Нечто противоположное происходило в «Новом ускорителе» – истории о лекарстве, ускорявшем восприятие, мысли и обмен веществ в несколько тысяч раз. Изобретатель и рассказчик, принявший это лекарство, оказывается в оцепеневшем, застывшем мире, наблюдая
«людей, которые вроде оставшись самими собой, изменились до неузнаваемости, застыв в причудливых позах, застигнутые в середине жеста. Некое существо, с черепашьей скоростью передвигавшееся по воздуху и лениво взмахивавшее крыльями, которые двигались со скоростью ленивой улитки, было пчелой».
«Машина времени» была опубликована в 1895 году, когда возник интерес к новым возможностям фотографии и кинематографа в их выявлении деталей движения, недоступных невооруженному глазу. Этьен-Жюль Маре, французский физиолог, был первым, кто с помощью киносъемки показал, что галопирующая лошадь в какой-то момент отрывает от земли все четыре копыта. Эта работа, как пишет историк Марта Браун, подвигла знаменитого фотографа Эдварда Мейбриджа к изучению движения. Маре, в свою очередь, вдохновленный работами Мейбриджа, усовершенствовал высокоскоростные кинокамеры. Они позволяли замедлять и даже останавливать в кадре движения птиц и насекомых в полете и, впадая в противоположную крайность, используя сделанные через разные интервалы времени фотографии, ускорять почти незаметные движения морских ежей, звезд и других животных.
Иногда я задумывался над тем, почему растения и животные движутся с разной скоростью. Насколько они ограничены в скорости своими внутренними свойствами и насколько внешними условиями – силой притяжения земли, количеством энергии, полученной от солнца, содержанием кислорода в атмосфере и так далее. Меня привлек еще один рассказ Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» с его великолепными описаниями ускоренного роста растений на небесном теле, сила притяжения которого составляла лишь небольшую долю от земной силы тяготения.
«С непоколебимой уверенностью, даже рассудительностью эти удивительные семена стремительно выпускают корешки в глубь земли и необычные маленькие, похожие на связки прутьев, почки в воздух… Эти пучковидные почки набухали, окрашивались и с треском раскрывались венцом острых пик, которые быстро росли в длину, удлиняясь прямо на наших глазах. Движения эти были медленнее, чем у животных, но такой скорости я не видел ни у одного земного растения. Как мне передать вам это – тот способ, каким они растут? Приходилось ли вам в холодный день брать теплой рукой термометр и наблюдать, как тонкий столбик ртути ползет вверх по трубке? Вот так растут лунные растения».
Здесь, как в «Машине времени» и «Новом ускорителе», описания весьма кинематографичны, и мне порой казалось, что молодой Уэллс видел это либо сам экспериментировал с замедленной или ускоренной съемкой.
Через несколько лет, уже будучи студентом Оксфорда, я читал «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса[1 - В изданиях на русском языке встречается как Джемс.], и там в интересной главе «Восприятие времени» нашел такое описание:
«Мы имеем все основания полагать, что живые существа отличаются друг от друга тем количеством длительности, какое они чувствуют, заполняя мельчайшие промежутки между событиями. Фон Бэр произвел расчеты влияния таких различий на изменение представления о природе. Предположим, что за одну секунду мы способны воспринять по отдельности 10?000 событий, а не 10, как сейчас, и тогда, если бы мы должны были за всю жизнь набраться столько же впечатлений, сколько теперь, то наша жизнь могла бы стать короче в тысячу раз. Мы жили бы менее месяца и ничего не знали о смене времен года. Если бы мы родились летом, то верили бы в лето, как верим в жару каменноугольного периода. Движения живых существ казались бы нашим органам чувств такими медленными, что мы лишь предполагали бы эти движения, не будучи способными досмотреть их до конца. Солнце застыло бы на небе, а луна еле двигалась. Но давайте примем обратную гипотезу и предположим, что есть существо, которое воспринимает одну тысячную часть тех ощущений в единицу времени от того, что мы воспринимаем в реальности. Зимы и весны имели бы для такого существа продолжительность не более четверти часа. Грибы и другие еще быстрее растущие организмы выстреливались бы из-под земли так, словно находились в состоянии непрерывного творения. Однолетние травы поднимались бы и падали, как столбики на поверхности кипящей воды. Движения животных стали бы для подобного существа невидимыми, как невидим для нас полет пули или пушечного ядра. Солнце проносилось бы по небу со скоростью метеора, оставляя за собой огненный след. То, что такие воображаемые случаи могут быть реализованы в действительности в животном царстве, представляется чистейшей фантазией».
Этот отрывок был опубликован в 1890 году, когда Уэллс был молодым биологом. Мог ли он в то время читать Джеймса или, если уж на то пошло, ознакомиться с оригинальными вычислениями фон Бэра, написанными в 1860 году? Действительно, во всех этих сочинениях имплицитно присутствует кинематографическая модель, поскольку именно регистрация большего или меньшего числа событий в единицу времени и есть то, что делает кинокамера, если начать прокручивать пленку быстрее или медленнее обычной скорости в 24 кадра в секунду.
Однако в книге об орхидеях нет ни воинственности, ни полемики, она вся пронизана радостью и восторгом от того, что видел и наблюдал автор. Этими чувствами наполнены его письма:
«Вы не представляете, как восхитили меня орхидеи! Чудесное строение! Красота приспособленности их частей кажется мне несравненной… Я едва не сошел с ума, столкнувшись с богатством орхидей… Один чудесный цветок из Катасетума был самым великолепным из всех виденных мною орхидей… Счастлив тот, кому довелось наблюдать рои пчел, жужжащих вокруг Катасетума, с пыльцой, прилипшей к спинкам этих насекомых! Я никогда так глубоко не интересовался ни одним предметом, как орхидеями».
Оплодотворение цветков занимало Дарвина до конца его жизни, и за книгой об орхидеях через пятнадцать лет последовала еще одна, более обобщенная: «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире».
Однако растениям, как и животным, надо выживать, преуспевать, находить и создавать свои ниши в мире, если они «хотят» достичь момента размножения. Дарвин одинаково интересовался средствами и приспособительными механизмами, с помощью которых растения выживали, а также их разнообразным и подчас удивительным образом жизни, включая органы чувств и движения, подобные таковым органам животных.
В 1860 году во время летнего отдыха он впервые столкнулся с насекомоядными растениями и сразу «влюбился» в них. Дарвин взялся за исследования, которые через пятнадцать лет завершились книгой «Насекомоядные растения». Этот труд написан легким, доступным языком и, как большинство его книг, наполнен личными воспоминаниями:
«Я был поражен количеством насекомых, каких обычная росянка (Drosera rotundifolia) могла поймать своими листьями в жаркую погоду в Суссексе. Все шесть листьев одного из растений ловили своих жертв… Многие листья причиняли смерть насекомым, не получая при этом, насколько мы можем судить, никаких выгод. Однако вскоре стало очевидно: росянка прекрасно приспособлена к данной особой цели – ловле насекомых».
Идея приспособления всегда занимала Дарвина, и один взгляд на росянку подсказал ему, что это было приспособление совершенно нового типа, потому что на ее листьях не только присутствовал липкий сок, но они были покрыты тонкими волокнами (Дарвин назвал их «усиками») с крошечными железами на конце. Он заинтересовался, зачем они нужны растению? «Если на железы в центре листа поместить маленький органический или неорганический предмет,
«…то они передают двигательный импульс усикам, находящимся на краях листа… Ближайшие усики реагируют первыми и наклоняются в сторону центра, а затем импульс распространяется и на отдаленные усики, до тех пор, пока все они не наклонятся в направлении предмета.
Но если предмет не был питательным, то лист очень скоро сбрасывал его».
Дарвин продемонстрировал это, укладывая на некоторые листья росянки комочки яичного белка, а на другие – такие же по размеру кусочки неорганических веществ. Неорганические вещества сбрасывались листьями, а яичный белок оставался и стимулировал выделение фермента и кислоты. Те вскоре переваривали белок, после чего он всасывался листом. То же самое происходило и с насекомыми, особенно живыми. Итак, росянка, не имея ни рта, ни кишечника, ни нервов, эффективно ловила жертвы, использовав специальные пищеварительные ферменты, переваривала их и всасывала.
Дарвин интересовался не только тем, как «работает» росянка, но и почему у нее такой необычный образ жизни. В своих наблюдениях он отметил, что росянка росла в болотах, на кислой почве, относительно бедной органическими материалами и легко усваиваемым азотом. Немногие растения сумели бы выжить на подобной почве, но Drosera нашла способ овладеть этой нишей, поглощая азот непосредственно из насекомых, а не из почвы. Пораженный свойственной животным координацией движений усиков, которые смыкались над своей жертвой, как усики морского анемона, и такой же, тоже характерной для животных способностью к перевариванию пищи, Дарвин писал Эйзе Грею: «Вы несправедливы к достоинствам моей любимой Drosera, это чудесное растение, или скорее разумное животное. Я привязался к Drosera до конца своих дней».
Он стал восторгаться росянкой еще сильнее, обнаружив, что если сделать небольшой разрез в середине листа, то усики на половине листа оказываются парализованными, словно этот разрез пересекал какой-то нерв. Поведение этого листа, писал Дарвин, напоминало «человека, у которого после перелома позвоночника возникает паралич нижних конечностей». Позднее он получил образцы венериной мухоловки – растения из семейства росянок, – у которой лист при раздражении волосков на нем захлопывался, захватывая сидящее на нем насекомое. Реакция мухоловки была такой стремительной, что Дарвин задумался о том, не участвует ли в данной реакции электричество, создавая нечто подобное нервному импульсу. Он обсудил этот вопрос со своим другом физиологом Бердоном Сандерсоном и пришел в полный восторг, когда тот показал, что листья мухоловки действительно генерируют электрический ток, вызывающий их захлопывание. «Если лист получает раздражение, – писал Дарвин в “Насекомоядных растениях”, – в нем возбуждается такой же ток, как и при сокращениях мышц животного».
Часто растения считают существами бесчувственными и неподвижными, но насекомоядные растения наглядно опровергают такой взгляд, и Дарвин, охваченный стремлением выявить и другие аспекты движения у растений, обратился к изучению лазящих растений. Кульминацией его исследований стала книга «Движения и повадки лазящих растений». Лазание – эффективный приспособительный признак, который позволил лазящим и вьющимся растениям избавиться от бремени жестких опорных тканей и использовать другие растения, чтобы, опираясь на них, устремляться ввысь, к солнцу. Приемов лазания оказалось не один, а множество. Растения могут быть вьющимися, использовать для лазания листья или специальные усики. Эти последние особенно интересовали Дарвина. Складывалось впечатление, что у них есть глаза и они могли осматривать окружающие предметы в поисках подходящей опоры. «Я думаю, сэр, что усики обладают способностью видеть», – писал он Эйзе Грею. Но какой степени сложности достигает такое приспособление?
Дарвин считал вьющиеся растения предками всех лазящих растений и предполагал, что именно из вьющихся растений развились лазящие растения, снабженные усиками, а растения, лазящие с помощью листьев, возникли из растений с усиками. Это развитие позволяло осваивать все новые и новые сферы, где организм мог выступить в иной роли. Лазящие растения развивались в течение длительного времени, они не возникли мгновенно, по велению Божьему. Но как вообще стало возможным перемещение с помощью обвивающихся побегов? Дарвин внимательно исследовал обвивающие движения побегов, листьев и корней каждого растения и обнаружил, что обвивающие движения (он называл их обращениями) можно наблюдать и у «низших» растений: саговников, папоротников и водорослей. Когда растения растут по направлению к свету, то они не просто тянутся вверх, а извиваются, закручиваются вокруг собственной оси, стремясь к солнцу. Способность к обращениям является универсальной предрасположенностью растений, пришел к заключению Дарвин, и именно это стало началом остальных вращательных движений у растений.
Эти мысли, подкрепленные дюжинами изящных экспериментов, составили основное содержание последней ботанической книги Дарвина «Движения растений. Способности к движению у растений», опубликованной в 1880 году. Среди множества изобретательных и остроумных опытов был один, в ходе которого Дарвин сажал рассаду овса, а затем освещал проростки с разных направлений. Он обнаружил, что ростки всегда изгибались или поворачивались в сторону источника света, причем даже в тех случаях, когда свет был настолько тусклым, что человеческий глаз был неспособен различить его. Была ли на побегах, подобно тому, что Дарвин предполагал в усиках лазящих растений, фоточувствительная область, своего рода «глаз»? Он стал надевать на кончики прораставших листьев колпачки, закрашенные тушью, и заметил, что листья переставали реагировать на свет. Отсюда Дарвин заключил, что, когда свет падает на кончик листа, он стимулирует образование в нем какого-то сигнала, а тот, достигая «двигательной» части сеянца, вынуждает его поворачивать растение к свету. Исследуя подобным же образом поведение корней тех же сеянцев, которым пришлось пройти через самые разнообразные препятствия, Дарвин выяснил, что корни чрезвычайно чувствительны к физическому контакту, силе тяжести, давлению, влажности, градиенту содержания химических веществ и т. д. По этому поводу он писал:
«В растениях нет более замечательного – в том, что касается функции – органа, нежели кончика корешка… Едва ли будет преувеличением сказать, что кончик корешка действует как мозг какого-нибудь из низших животных, получая впечатления от органов чувств и направляя в соответствии с ними свои движения».
Однако, как замечает Джанет Браун в биографии Дарвина, «Способности к движению у растений» оказались «неожиданно противоречивыми». Его идеи об обращении подверглись жесткой критике. Сам Дарвин всегда признавал, что это была лишь умозрительная идея, но более серьезная критика прозвучала из уст немецкого ботаника Юлиуса Сакса. Он, по словам Браун, «ополчился на дарвиновское предположение о том, что кончик корня можно сравнить с мозгом простого организма, и заявил, что доморощенные эксперименты Дарвина были смехотворно ущербными».
Какими бы доморощенными, однако, ни являлись опыты Дарвина, его наблюдения были точны и корректны. Идея о химических посредниках, передающих от чувствительного корешка сигнал к «двигательным» тканям, привели через пятьдесят лет к открытию в растениях гормоноподобных веществ, ауксинов, которые у растений играют, вероятно, такую же роль, как нервная система у животных.
В течение сорока лет Дарвин страдал какой-то неизвестной болезнью, которая появилась у него после возвращения с Галапагосских островов. Иногда его целыми днями рвало, а порой он несколько недель не мог встать с постели. К старости у него развился и сердечный недуг. Но интеллект и способность к творчеству не покинули его до самой смерти. После «Происхождения видов» Дарвин написал еще десять книг, многие из которых он впоследствии сам редактировал и перерабатывал – и это не считая десятков статей и бесчисленного множества писем. Дарвин продолжал интересоваться своими любимыми предметами всю жизнь. В 1877 году он опубликовал второе, кардинально переработанное издание книги об орхидеях (первое издание вышло на пятнадцать лет раньше). Мой друг Эрик Корн, антиквар и специалист по Дарвину, рассказывал, что однажды наткнулся на экземпляр второго издания, где нашел корешок выписанного в 1882 году чека на два шиллинга девять пенсов с подписью самого Дарвина. Чек был выписан для оплаты образца орхидеи. Дарвин умер в апреле того же года, но до последнего дня был влюблен в орхидеи и продолжал собирать их для изучения.
Естественная красота воспринималась им не просто как эстетическое свойство, но и как отражение функции и приспособления. Орхидеи имеют такую форму не для того, чтобы их разводили в садах или собирали из них букеты; их красота – изысканное ухищрение, пример силы воображения природы и естественного отбора в действии. Появление цветов не требовало Творца, можно представить, что они явились результатом случайностей и отбора, медленных, крошечных ступенчатых изменений, растянувшихся на сотни миллионов лет. В этом, по Дарвину, и заключался смысл цветов, адаптации растений и животных, естественного отбора.
Порой возникает ощущение, что Дарвин сделал больше, чем кто-либо иной, для того, чтобы изгнать из мира слово «смысл», если иметь в виду божественный смысл или цель. Действительно, у мира Дарвина нет проекта, плана, чертежей. У естественного отбора нет ни направления, ни цели, к которой он стремится. Часто говорят, что дарвинизм положил конец богословскому мышлению. Однако его сын писал:
«Одна из величайших заслуг моего отца в изучении естественной истории заключается в возрождении телеологии. Эволюционист изучает цель или смысл органов с пылом и рвением прежних телеологов, но имея перед собой обширную и внятную цель. Его подстегивает знание того, что он получает не изолированную концепцию современного состояния, а связно собирает воедино прошлое и настоящее. Даже если ему не удается выявить конкретную пользу какой-либо части организма, он может, зная его строение, раскрыть историю прошлого окружения в жизни данного вида. Таким образом, жизненная сила и единство придаются изучению форм высокоорганизованных существ, чего не было в науке раньше».
И это, как полагал Фрэнсис, «было сделано в ботанических трудах Дарвина с не меньшей эффективностью, чем в “Происхождении видов”».
Задавая вопрос «почему?», отыскивая смысл, Дарвин смог в своих ботанических сочинениях предоставить убедительные доказательства эволюции и естественного отбора. Делая это, он одновременно преобразил ботанику, превратив ее из чисто описательной дисциплины в эволюционную науку. Действительно, ботаника – первая эволюционная наука, и изыскания Дарвина открыли путь ко всем другим эволюционным наукам и, в конце концов, к тому, что, как выразился Феодосий Добжанский, «любой феномен в биологии имеет смысл только в свете эволюции».
Дарвин говорил о «Происхождении видов» как о «долгом аргументе». Наоборот, его ботанические книги были более личными и лиричными, менее систематичными по форме, и в них было больше описаний, чем логических аргументов. Согласно Фрэнсису Дарвину, Эйза Грей заметил однажды, что если бы книга об орхидеях «появилась раньше “Происхождения видов”, то богословы естественной истории канонизировали бы автора, а не подвергли бы его анафеме».
В своем автобиографическом эссе Лайнус Полинг пишет, что прочитал «Происхождение видов» в десятилетнем возрасте. Я не был столь развит в юном возрасте и не мог по достоинству оценить «длинный аргумент», однако проникся дарвиновским видением мира в нашем саду, в котором летом распускались цветы, а вокруг них жужжали пчелы, перелетая с одного цветка на другой. Моя мать, любившая ботанику, объяснила, что? делали пчелы с их вымазанными желтой пыльцой лапками, и рассказала, как цветы и пчелы зависят друг от друга.
У большинства ярких цветов был сильный аромат, но особенно выделялись две магнолии с огромными светлыми цветами, лишенными запаха. Магнолия была буквально покрыта мелкими насекомыми, крошечными жучками. Магнолия, объяснила мне мама, одно из самых древних цветковых растений, она появилась почти сто миллионов лет назад. Тогда таких «современных» насекомых, как пчелы, еще не существовало, и магнолия могла рассчитывать лишь на других насекомых, жуков, которые и занимались ее опылением. Появление пчел и бабочек не было предопределено. Они развивались медленно в течение миллионов лет. Идея мира без пчел, бабочек и ароматных красивых цветов показалась тогда мне страшной и отталкивающей.
Мысль о таких невероятно огромных периодах времени и о мощи мельчайших, никуда не направленных изменений, которые, накапливаясь, могли порождать новые миры, богатые и разнообразные, была поразительной. Для многих из нас эволюционная теория явилась источником ощущения глубокого смысла, приносящая больше удовлетворения, чем вера в божественный план. Представленный нам мир стал прозрачной поверхностью, сквозь которую стала видна вся история жизни. От мысли, что динозавры до сих пор бродили бы по земле, а человек вообще мог бы не появиться, кружилась голова. Она делала жизнь еще более драгоценной и чудесной, нескончаемым приключением («блестящей случайностью», как выразился Стивен Джей Гулд) – а не чем-то застывшим и предопределенным, – приключением, восприимчивым к изменениям и новым ощущениям.
Жизнь на нашей планете существует несколько миллиардов лет, и эта давняя история буквально воплощена в анатомической структуре нашего тела, в поведении, в инстинктах, в генах. Например, у людей сохранились жаберные дуги, правда, они усовершенствовались по сравнению с жаберными дугами наших рыбьих предков. Мало того, часть нашей нервной системы когда-то управляла движением жабр. В «Происхождении человека» Дарвин писал: «Человек до сих пор словно несет на своем строении неизгладимый отпечаток своего происхождения от низших форм». Мы являемся реликтами еще более древнего прошлого, поскольку состоим из клеток, а они возникли на заре жизни.
В 1837 году в своей первой из многих записных книжек, которые Дарвин посвятил проблеме видов, он набросал эскиз древа жизни. Его ветвистый силуэт, архетипический и мощный, отражал равновесие между эволюцией и вымиранием видов. Дарвин всегда подчеркивал непрерывность жизни, утверждая, что все живые существа происходят от общего предка, и в этом смысле все мы родственники. Так, люди являются не только родственниками обезьян и других животных, но и растений. Теперь мы знаем, что общность между ДНК растений и животных составляет 70 процентов. Но, тем не менее, благодаря великому двигателю естественного отбора – изменчивости – каждый вид уникален, как уникален и каждый индивидуальный организм.
Древо жизни наглядно показывает и родство всех живых организмов, и то, как происходит «нисхождение с изменениями», как вначале называл Дарвин эволюцию, в каждом его разветвлении. Оно убеждает, что эволюция никогда не останавливается, не повторяет себя, не движется вспять. Древо также демонстрирует неотвратимость и необратимость вымирания. Если ветвь засыхает и отваливается, то данный путь эволюции утрачивается навсегда.
Мне нравится осознание своей биологической уникальности, древности и родства со всеми иными формами жизни. Оно позволяет чувствовать себя в естественном мире, как дома, понимать свою значимость в биологическом смысле, независимо от моей роли в культурном, человеческом мире. Животная жизнь намного сложнее растительной, а жизнь человека неизмеримо сложнее жизни животных, однако я четко прослеживаю эту общую связь, как и Дарвин.
Скорость
Еще в детстве я был очарован скоростью, самой по себе, и огромным разнообразием скоростей в окружавшем меня мире. С разными скоростями передвигались люди, а диапазон скоростей у животных был еще больше. Крылья насекомых мелькали так быстро, что за их движениями было невозможно уследить, но о частоте взмахов можно было судить по высоте издаваемого ими звука – противного писка комаров или приятного басовитого гудения шмелей, которые каждое лето навещали свои любимые розы. Нашей черепахе требовался целый день, чтобы пересечь лужайку, и мне казалось, будто она живет в каком-то ином временно?м измерении. Но что можно было сказать о движении растений? Утром я подходил к розам и замечал, что за прошедший день они стали выше, сильнее закручивались вокруг стоек, но, как я ни был терпелив, мне не удавалось увидеть самого движения.
Впечатления такого рода сыграли свою роль в моем увлечении фотографией. Они позволили мне изменять скорость движения, ускорять или замедлять его, приспособив к уровню человеческого восприятия детали движения или другие изменения, недоступные невооруженному глазу. Увлекшись также микроскопами и телескопами (они хранились у нас дома, потому что мои старшие братья были студентами-медиками и орнитологами-любителями), я стал думать о замедлении и ускорении как о временных эквивалентах микроскопии (замедление) или телескопии (ускорение).
Я экспериментировал, фотографируя растения. Особенно мне нравилось снимать папоротники, их молодые, свернутые листья или сережки, буквально лопавшиеся от сжатого в них, как пружина, времени. В них было «свернуто» будущее. Я устанавливал фотоаппарат на треногу и фотографировал сережки с интервалом в час. Потом проявлял пленку, печатал с негативов снимки и укладывал их в книжку-гармошку. Вскоре, как в волшебном фонаре, я наблюдал, как разворачиваются сережки, словно бумажные трубки. За мгновение протекал процесс, который в реальности мог занять пару дней.
Замедлять движение было труднее, чем ускорять его, и здесь я полностью зависел от своего двоюродного брата, фотографа, у которого была кинокамера, позволявшая снимать несколько сотен кадров в секунду. С помощью камеры я ловил за работой шмелей, склонившихся над цветками, и настолько замедлял биения их крыльев, что мог отчетливо, во всех подробностях, наблюдать, как они поднимают их и опускают.
Мой повышенный интерес к скорости, движению и времени, а также к способам их замедления и ускорения сподвиг меня с увлечением читать две книги Герберта Уэллса – «Машину времени» и «Новейший ускоритель», с их живыми, исполненными недюжинного воображения, почти кинематографическими описаниями изменения времени.
«Когда я прибавил скорость, ночь стала следовать за днем в виде стремительного взмаха черного крыла», – сообщает путешественник во времени Уэллса. —
«Я видел, как Солнце быстро несется по небу, проскакивая его за минуту, и каждая, таким образом, соответствовала одному дню. Самые медлительные улитки летели мимо меня так, что я не мог за ними уследить. Постепенно, когда я набрал приличную скорость, мелькания дня и ночи слились в одну сплошную серость… Солнце проносилось по небу, как огненный след, а Луна образовывала на небе бледную широкую полосу. Деревья вырывались из-под земли, словно клубы пара, огромные здания вырастали, как призраки, и исчезали, будто сновидения. Казалось, изменилась вся поверхность Земли – она плавилась и переливалась у меня на глазах».
Нечто противоположное происходило в «Новом ускорителе» – истории о лекарстве, ускорявшем восприятие, мысли и обмен веществ в несколько тысяч раз. Изобретатель и рассказчик, принявший это лекарство, оказывается в оцепеневшем, застывшем мире, наблюдая
«людей, которые вроде оставшись самими собой, изменились до неузнаваемости, застыв в причудливых позах, застигнутые в середине жеста. Некое существо, с черепашьей скоростью передвигавшееся по воздуху и лениво взмахивавшее крыльями, которые двигались со скоростью ленивой улитки, было пчелой».
«Машина времени» была опубликована в 1895 году, когда возник интерес к новым возможностям фотографии и кинематографа в их выявлении деталей движения, недоступных невооруженному глазу. Этьен-Жюль Маре, французский физиолог, был первым, кто с помощью киносъемки показал, что галопирующая лошадь в какой-то момент отрывает от земли все четыре копыта. Эта работа, как пишет историк Марта Браун, подвигла знаменитого фотографа Эдварда Мейбриджа к изучению движения. Маре, в свою очередь, вдохновленный работами Мейбриджа, усовершенствовал высокоскоростные кинокамеры. Они позволяли замедлять и даже останавливать в кадре движения птиц и насекомых в полете и, впадая в противоположную крайность, используя сделанные через разные интервалы времени фотографии, ускорять почти незаметные движения морских ежей, звезд и других животных.
Иногда я задумывался над тем, почему растения и животные движутся с разной скоростью. Насколько они ограничены в скорости своими внутренними свойствами и насколько внешними условиями – силой притяжения земли, количеством энергии, полученной от солнца, содержанием кислорода в атмосфере и так далее. Меня привлек еще один рассказ Герберта Уэллса «Первые люди на Луне» с его великолепными описаниями ускоренного роста растений на небесном теле, сила притяжения которого составляла лишь небольшую долю от земной силы тяготения.
«С непоколебимой уверенностью, даже рассудительностью эти удивительные семена стремительно выпускают корешки в глубь земли и необычные маленькие, похожие на связки прутьев, почки в воздух… Эти пучковидные почки набухали, окрашивались и с треском раскрывались венцом острых пик, которые быстро росли в длину, удлиняясь прямо на наших глазах. Движения эти были медленнее, чем у животных, но такой скорости я не видел ни у одного земного растения. Как мне передать вам это – тот способ, каким они растут? Приходилось ли вам в холодный день брать теплой рукой термометр и наблюдать, как тонкий столбик ртути ползет вверх по трубке? Вот так растут лунные растения».
Здесь, как в «Машине времени» и «Новом ускорителе», описания весьма кинематографичны, и мне порой казалось, что молодой Уэллс видел это либо сам экспериментировал с замедленной или ускоренной съемкой.
Через несколько лет, уже будучи студентом Оксфорда, я читал «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса[1 - В изданиях на русском языке встречается как Джемс.], и там в интересной главе «Восприятие времени» нашел такое описание:
«Мы имеем все основания полагать, что живые существа отличаются друг от друга тем количеством длительности, какое они чувствуют, заполняя мельчайшие промежутки между событиями. Фон Бэр произвел расчеты влияния таких различий на изменение представления о природе. Предположим, что за одну секунду мы способны воспринять по отдельности 10?000 событий, а не 10, как сейчас, и тогда, если бы мы должны были за всю жизнь набраться столько же впечатлений, сколько теперь, то наша жизнь могла бы стать короче в тысячу раз. Мы жили бы менее месяца и ничего не знали о смене времен года. Если бы мы родились летом, то верили бы в лето, как верим в жару каменноугольного периода. Движения живых существ казались бы нашим органам чувств такими медленными, что мы лишь предполагали бы эти движения, не будучи способными досмотреть их до конца. Солнце застыло бы на небе, а луна еле двигалась. Но давайте примем обратную гипотезу и предположим, что есть существо, которое воспринимает одну тысячную часть тех ощущений в единицу времени от того, что мы воспринимаем в реальности. Зимы и весны имели бы для такого существа продолжительность не более четверти часа. Грибы и другие еще быстрее растущие организмы выстреливались бы из-под земли так, словно находились в состоянии непрерывного творения. Однолетние травы поднимались бы и падали, как столбики на поверхности кипящей воды. Движения животных стали бы для подобного существа невидимыми, как невидим для нас полет пули или пушечного ядра. Солнце проносилось бы по небу со скоростью метеора, оставляя за собой огненный след. То, что такие воображаемые случаи могут быть реализованы в действительности в животном царстве, представляется чистейшей фантазией».
Этот отрывок был опубликован в 1890 году, когда Уэллс был молодым биологом. Мог ли он в то время читать Джеймса или, если уж на то пошло, ознакомиться с оригинальными вычислениями фон Бэра, написанными в 1860 году? Действительно, во всех этих сочинениях имплицитно присутствует кинематографическая модель, поскольку именно регистрация большего или меньшего числа событий в единицу времени и есть то, что делает кинокамера, если начать прокручивать пленку быстрее или медленнее обычной скорости в 24 кадра в секунду.
Другие электронные книги автора Оливер Сакс
Зримые голоса




 4.67
4.67
Глаз разума




 4.67
4.67