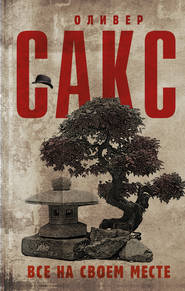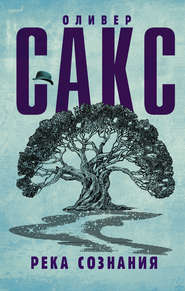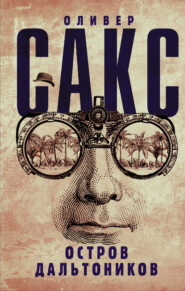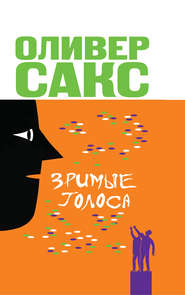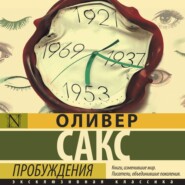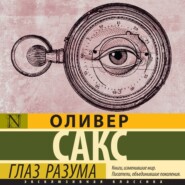По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глаз разума
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одна из страниц в тетрадке Пэт содержит список эмоциональных состояний (она выбрала их из списка слов, составленного логопедом Джаннет). Когда в 1998 году я спросил ее, какое настроение у нее превалирует, она указала на слово «счастлива». На той же странице были и другие прилагательные – «злобная», «испуганная», «усталая», «разбитая», – и в предыдущие годы она чаще всего предпочитала именно их.
Когда в 1999 году я спросил однажды Пэт, какое сегодня число, она, обидевшись на то, что я задаю такие элементарные вопросы, показала: «среда, 28 июля». Пользуясь своей «библией», она поведала мне, что за последние несколько месяцев побывала на полудюжине мюзиклов и дважды посещала картинные галереи, а вскоре собирается к Лари, на Лонг-Айленд, погостить и поплавать. «Поплавать?» – недоверчиво переспросил я. Да, подтвердила Пэт – несмотря на правосторонний парез, она до сих пор может плавать на боку. С помощью слов из той же книги она мне объяснила, что в юности была неплохой пловчихой на длинные дистанции. Пэт также поделилась со мной своей радостью по поводу того, что Лари через несколько месяцев усыновит ребенка. Во время этого посещения, восемь лет спустя после инсульта, я был впечатлен полнотой и богатством повседневной жизни Пэт, ее неутомимой любовью к жизни, невзирая на тяжелое поражение мозга, которое любой другой человек на ее месте мог бы посчитать концом всему.
В 2000 году Пэт показала мне как-то фотографии всех своих внуков. Накануне она побывала у дочерей в гостях по случаю Дня независимости, и они всей семьей смотрели по телевизору военно-морской парад и фейерверк. Она с большим удовольствием показала мне также художественную фотографию играющих в теннис сестер Вильямс. Теннис, заявила Пэт, один из ее любимых видов спорта, помимо лыж, верховой езды и плавания. Ей не терпелось показать мне свои ухоженные, наманикюренные ногти. Она была в широкополой шляпе и солнцезащитных очках, так как собиралась пойти позагорать во дворе больницы.
К 2002 году Пэт научилась отчетливо произносить несколько слов. Ей очень помогли в этом две песни: «С днем рожденья тебя» и «Велосипед для двоих», которые она пыталась петь вместе с Конни Томайно, музыкальным терапевтом «Бет Абрахам». Пэт уловила заложенные в музыке чувства и усвоила некоторые слова. Уже через несколько минут после прослушивания у Пэт «прорезался» голос, и она нараспев сумела произнести несколько слов. Она стала носить с собой портативный магнитофон с записями знакомых песен, чтобы пробудить и заставить работать утраченные речевые способности. Она продемонстрировала мне свои успехи, мелодично произнеся: «О, какое сегодня прекрасное утро!» и «Доброе утро, доктор Сакс!» – с сильным ударением на слово «утро».
Музыкальная терапия незаменима для некоторых больных с моторной (экспрессивной) афазией. Удостоверившись в том, что способны повторить вслух слова песен, эти больные начинают осознавать, что речевая функция не утрачена для них навсегда, что они могут добраться до залежей слов, затаившихся в каких-то закоулках сознания. Вопрос, правда, заключается в том, можно ли извлеченную из песни форму речи отделить от музыкального контекста и использовать для общения? Иногда это в какой-то степени достижимо с помощью переноса слов в своеобразный импровизированный речитатив[12 - Более подробно я писал об этом в посвященной афазии главе «Музыкофилии».]. Но душа Пэт не лежала к речитативам – она чувствовала, что ее подлинный дар проявляется в виртуозном владении, чтении и понимании языка мимики и жестов. В этой области она интуитивно достигла мастерства, граничащего с гениальностью.
Мимезис, сознательное и наглядное представление сцен, мыслей, намерений и так далее, является чисто человеческим изобретением и достижением, подобно языку и музыке. Обезьяны, которые способны подражать и передразнивать, тем не менее не способны создавать и разыгрывать миметические представления. (В книге «Происхождение современного разума» психолог Мерлин Дональд утверждает, что «миметическая» культура некогда была важнейшим этапом человеческой эволюции – промежуточным между «эпизодической» культурой обезьян и «теоретической» культурой современного человека.) Мимезис имеет более обширное и более элементарное представительство в нашем головном мозге, чем язык, и этим можно объяснить сохранение способности к мимезису у больных, утративших способность к членораздельной речи. Искусство мимезиса позволяет больным осуществлять богатое общение, в особенности если миметические способности достаточно развиты и сочетаются, как в случае Пэт, со специально разработанным словарем основных понятий.
Пэт всегда отличалась страстью к общению. («Это была женщина, способная говорить двадцать четыре часа в сутки», – по выражению ее дочери Даны.) Только энергия ярости и отчаяния в первые дни ее пребывания в больнице, вызванная утратой дара речи, и сильнейшая мотивация к успеху в общении по методу Джаннет в дальнейшем позволили ей сохранить рассудок и выжить.
Дочери Пэт не перестают поражаться ее стойкости. Дана вспоминает: «Почему у нее нет депрессии? Как она может так жить? – думала я сначала. Очень часто мать делала рукой жест, который, казалось, говорил: «Боже мой, что случилось? Что со мной? Почему я оказалась в этой комнате?!» Было впечатление, что невыносимый ужас инсульта снова и снова поражал ее». Но со временем Пэт поняла, что в общем-то ей повезло, несмотря на то что половина ее тела так и осталась парализованной. Ей повезло в том, что повреждение головного мозга, пусть и обширное, не лишило ее рассудка и не разрушило ядро личности. Повезло в том, что дочери, не жалея сил, боролись за спасение матери и возвращение к активной жизни, повезло, что они смогли обеспечить дополнительную помощь и оплатить услуги специалистов; а также что нашелся логопед, который разобрался в мельчайших деталях самочувствия своей пациентки и смог ее увлечь, снабдив важнейшим инструментом спасения – логопедической «библией», роль которой в ее реабилитации невозможно переоценить.
Пэт до сих пор остается очень активной и открытой миру. Ее дочь Дана утверждает, что мать осталась «жемчужиной» их семьи и, даже оказавшись в больнице, не утратила способности очаровывать людей. («Ведь она сумела очаровать даже вас, доктор Сакс», – сказала Дана.) Не говоря о том, что теперь она может рисовать левой рукой и благодарна небесам за то, что жива, за то, что способна многое делать сама. Именно поэтому так безоблачно ее настроение и так крепок моральный дух.
О том же, по сути, говорит и Лари. «Похоже, что все негативное в ее душе было смыто болезнью, – сказала она мне. – Мать стала более чуткой, она как никогда понимает теперь свою жизнь и жизнь окружающих. Она видит, что о ней заботятся, и это сделало ее саму добрее и заботливее по отношению к другим больным, состояние которых, быть может, не такое тяжелое, как у нее, но они менее «приспособлены», менее «счастливы», менее «удачливы». Она не считает уже себя жертвой, – говорит в заключение Лари. – Она всем сердцем чувствует, что Бог благословил ее».
Однажды в ноябре, прохладным субботним вечером, я присоединился к Пэт и Дане, чтобы заняться любимым делом Пэт – походом по магазинам на Аллертон-авеню по соседству с больницей. Когда мы пришли в палату Пэт, уставленную комнатными растениями, увешанную фотографиями, картинами, афишами и театральными программами, она уже дожидалась нас в своем любимом пальто.
Мы шли с ней сквозь субботнюю сутолоку по Аллертон-авеню, и я с удивлением увидел, что владельцы половины магазинов знают Пэт. Они кричали: «Привет, Пэт!», когда она катилась мимо их лавок. Пэт приветливо помахала рукой молодой женщине у входа в лавку здорового питания, где обычно покупала себе морковный сок, и женщина поприветствовала ее радостным возгласом. Она помахала рукой кореянке из химчистки, послав и получив в ответ воздушный поцелуй. Пэт сумела объяснить нам, что сестра приемщицы из химчистки работала прежде в магазине овощей и фруктов. Мы вошли в обувной магазин. Намерения Пэт были весьма прозрачны: она хотела купить на зиму сапоги на меху. Дана поинтересовалась: «На молнии или на липучке?» Пэт не стала ничего объяснять, а просто подкатилась к витрине с образцами и ткнула пальцем в приглянувшиеся ей сапоги. Дана воскликнула: «Но они же на шнурках!» Пэт улыбнулась и пожала плечами, всем своим видом говоря: «Ну и что? Мне их кто-нибудь завяжет». Пэт не лишена тщеславия и хочет, чтобы сапоги были одновременно элегантными и теплыми. («Вот еще, на липучках!» – говорило выражение ее лица.) Дана спросила: «Какой тебе размер? Девятый?» Нет, жестом ответила Пэт, согнув один палец и растопырив восемь, – восемь с половиной.
Задержались мы и в супермаркете, где она постоянно что-нибудь покупает для себя и своих знакомых по больнице. Пэт превосходно ориентировалась в лабиринте супермаркета и быстро выбрала два спелых манго для себя, большую связку бананов (большую часть которых она собиралась раздать), несколько маленьких пончиков и уже на кассе – три пакета сладостей, знаками объяснив нам, что это конфеты для детей одной из санитарок ее отделения.
Когда мы, нагруженные покупками, двинулись дальше, Дана спросила меня, где я был утром, и я ответил, что присутствовал на собрании Общества любителей папоротников в нью-йоркском Ботаническом саду, добавив, что я страстный любитель растений. Услышав это, Пэт сделала широкий жест и указала на себя, имея в виду вот что: «Вы – и я. Мы оба любители растений».
– Она совсем не изменилась после инсульта, – сказала Дана. – Сохранила все свои пристрастия и привязанности… Правда, теперь, – она улыбнулась, – сама стала нашей головной болью!
Пэт рассмеялась, полностью согласившись с дочерью.
Потом мы посидели в кафе. Пэт не испытывала никаких трудностей с чтением меню, показав, что предпочитает французскую жареную картошку с пшеничными тостами. После еды Пэт тщательно накрасила губы. («Какое щегольство!» – восхищенно воскликнула дочь.) Дана поинтересовалась у меня, можно ли взять маму в круиз. Я вспомнил громадные круизные лайнеры, ходившие на остров Кюрасао, и заинтригованная Пэт начала рыться в своей книге, чтобы спросить, отправляются ли эти корабли из Нью-Йорка. Я попытался изобразить круизный лайнер в блокноте, но Пэт, смеясь, отобрала у меня карандаш и левой рукой сделала это намного лучше, чем я.
Человек букв
В январе 2002 года я получил письмо от Говарда Энгеля, канадского писателя, автора детективного сериала о Бенни Купермене. В письме Энгель рассказал о своей странной проблеме. Несколько месяцев назад, писал Говард, он проснулся однажды утром в прекрасном настроении и, одевшись и приготовив завтрак, вышел на крыльцо, чтобы взять утреннюю газету. Однако лежавшая на ступенях газета неожиданно претерпела сверхъестественную метаморфозу.
«Номер «Глоб энд мэйл» от 31 июля 2001 года выглядел привычно – фотографии, крупные и мелкие заголовки, – вся разница состояла в том, что я был не в состоянии их прочесть. Я мог бы поклясться, что текст был набран теми двадцатью шестью буквами латинского алфавита, с которыми я родился и вырос, но стоило мне к ним присмотреться, как они начинали выглядеть то как кириллица, то как корейский алфавит. Может быть, это сербскохорватская версия газеты, предназначенная на экспорт? Или я стал жертвой глупой шутки? У меня имеются друзья, способные на такие розыгрыши. Я принялся раздумывать, как мне отнестись к их дурацкой выходке. Потом решил испробовать другой способ. Я раскрыл газету и попытался прочесть рекламу и комиксы, но не смог и этого.
По идее меня должно было окатить страхом и паникой, словно пресловутым ушатом холодной воды, но вместо этого меня поразило какое-то странное бесчувствие: “Если это не чья-то глупая шутка – значит, у меня просто инсульт”».
Заодно Энгель вспомнил описанный мной случай «Художника, страдавшего дальтонизмом»[13 - Это эссе вошло как отдельная глава в мою книгу «Антрополог на Марсе».], о котором читал несколько лет назад. Энгель вспомнил, в частности, как мой пациент мистер Л., получивший черепно-мозговую травму, оказался не в состоянии прочитать полицейский протокол об аварии. Он видел текст, набранный разными шрифтами, но не мог его разобрать, буквы были похожи на греческие или еврейские. Кроме того, Энгель вспомнил, что у мистера Л. алексия продолжалась пять дней, а затем исчезла.
Говард не успокоился и продолжал проверять себя, продолжая листать страницы и надеясь, что буквы вот-вот вернут себе свои привычные очертания и смысл. Потом он направился в библиотеку, видимо, решив, что «книги поведут себя лучше, чем газета», – тем более что он без труда определил по настенным часам, который был час. Но книги тоже оказались ему не по зубам, тем более что некоторые из них были на французском и немецком языках. Все они были теперь набраны каким-то «восточным» алфавитом.
Энгель разбудил сына, они вызвали такси и поехали в больницу. По дороге Говард думал, что видит «знакомые ориентиры в незнакомых местах». Он не мог прочитать названия улиц, по которым они проезжали, и даже не сумел прочесть вывеску «Неотложная помощь» на дверях приемного отделения, хотя узнал изображение машины «скорой помощи» на этой самой вывеске. Говарда подвергли массированному исследованию и подтвердили его догадку. Действительно, сказали ему, у него инсульт, поразивший небольшой участок зрительного отдела головного мозга слева. Во время сбора анамнеза при поступлении в больницу Говард, как он потом вспоминал, путался в некоторых деталях: «Я не мог указать степень родства со своим собственным сыном, я забыл, как меня зовут, не помнил ни свой возраст, ни адрес – как и десятки других вещей».
Всю следующую неделю Говард провел в неврологическом отделении больницы «Маунт Синай» в Торонто. За это время выяснилось, что у него имеются и другие зрительные расстройства наряду с потерей способности к чтению: в правом верхнем квадранте[14 - Квадрант – сектор, четверть круга. – Примеч. ред.] поля зрения появилась большая скотома[15 - Скотома – небольшой участок в пределах зрения, в котором зрение ослаблено или полностью отсутствует. – Примеч. ред.], у него возникли трудности в распознавании цветов, лиц и самых обычных предметов обихода. Энгель заметил, что эти расстройства то появлялись, то снова пропадали:
«Такие знакомые предметы, как яблоки и апельсины, вдруг принимали странный вид и становились мне незнакомыми, словно какие-нибудь экзотические азиатские фрукты вроде нефелиума. Я страшно удивлялся, не понимая, что именно держу сейчас в руке: апельсин, грейпфрут, помидор или яблоко? Мне пришлось научиться узнавать их по запаху или с помощью осязания».
Он стал часто забывать такие вещи, которые раньше прекрасно знал, – например, кто у нас премьер-министр или кто написал «Гамлета». Чтобы не попадать в неловкое положение, он стал избегать разговоров.
Он был безмерно удивлен, когда одна из медсестер заявила ему, что, даже потеряв способность читать, он может писать. По-медицински, сказала она, это называется «алексия без аграфии». Говард ей не поверил – как такое может быть, если чтение и письмо идут рука об руку? Как можно, утратив одну из этих способностей, сохранить другую?[16 - У Лилиан Каллир тоже была алексия без аграфии, и она продолжала писать письма своим друзьям, живущим во многих странах мира. Поскольку алексия развивалась у нее медленно, то она понемногу привыкла к факту, что чтение и письмо не зависят друг от друга.] Сестра предложила Говарду расписаться. Он поколебался, но, начав, понял, что письмо продолжается как бы само собой – плавно и без ошибок. К своей подписи он даже добавил пару предложений. Акт письма дался ему легко и просто – он писал без усилий, так же автоматически, как ходил или говорил. Медсестра без труда прочитала написанное Говардом, но сам он не смог прочесть ни единого слова. Перед его глазами снова оказалась та же «сербскохорватская абракадабра», какую он видел в газете.
Мы часто думаем, что чтение – это плавный и нераздельный процесс. Читая, мы понимаем смысл и замечаем красоту языка, не сознавая, как много процессов обеспечивают саму возможность такого слитного и плавного восприятия письменной речи. Надо столкнуться с таким расстройством, как у Говарда Энгеля, чтобы понять, что в действительности чтение зависит от целой иерархии или каскада процессов, который может нарушиться в любом звене.
В 1890 году немецкий невролог Генрих Лиссауэр ввел термин «психическая слепота», чтобы описать больных, которые после инсультов становились неспособными зрительно распознавать знакомые прежде предметы[17 - Современный термин «зрительная агнозия» был предложен Зигмундом Фрейдом в 1891 году.]. Больные с этим расстройством, со зрительной агнозией, могут иметь превосходную остроту зрения, правильно воспринимать цвета, не страдать дефектами полей зрения и так далее, но те же люди оказываются совершенно неспособными узнать или понять, что они видят перед собой.
Алексия – это специфическая форма зрительной агнозии, неспособность к распознаванию письменного языка. В 1861 году французский невролог Поль Брока описал центр «двигательных образов слов», как он его назвал, а несколько лет спустя его германский коллега Карл Вернике идентифицировал центр «слуховых образов» слов. После этого неврологи девятнадцатого века совершенно логично предположили, что должен существовать также центр «зрительных образов» слов. При повреждении этой гипотетической области, естественно, должна развиться неспособность читать – «слепота на слова»[18 - Врожденная «слепота на слова» (которую мы теперь называем дизлексией) была открыта неврологами в восьмидесятые годы девятнадцатого века, приблизительно в то же время, когда Шарко, Дежерин и другие описали приобретенную алексию. Дети, страдающие тяжелым расстройством способности к чтению (а иногда и к письму, чтению музыкальной нотации и счету), часто считаются умственно отсталыми, несмотря на очевидные признаки отсутствия всякой умственной отсталости. В. Прингл Морган, написавший в 1896 году статью для «Британского медицинского журнала», представил в ней подробную историю болезни развитого и умного четырнадцатилетнего мальчика, который испытывал большие трудности в чтении и правописании. В написании собственного имени он делал ошибку, записывая «Преси» вместо «Перси», и не замечал своей ошибки до тех пор, пока ему несколько раз на нее не указывали. Написанные и напечатанные слова не воспринимались его разумом, и только после трудоемкого побуквенного воспроизведения написанного он мог понять значение написанного. Легко он распознавал только такие простые слова, как «и», «это», «из» и т.д. Он не в состоянии был запомнить другие слова, как бы часто с ними ни сталкивался. Занимавшийся с ним преподаватель говорил, что Перси считался бы самым умным парнем в школе, если бы все обучение было устным.В настоящее время установлено, что от пяти до десяти процентов населения в той или иной мере страдают дизлексией и что либо вследствие «компенсации», либо вследствие иной организации нервной системы многие люди с дизлексией проявляют экстраординарные способности в других областях. Более подробно различные аспекты дизлексии описаны в книге Марианны Вольф «Пруст и кальмар: история науки о читающем мозге» и в книге Томаса Г. Уэста «В оке разума».].
В конце 1887 года офтальмолог Эдмунд Ландольт попросил своего коллегу, французского невролога Жана Жюля Дежерина, проконсультировать интеллигентного, образованного больного, который внезапно потерял способность читать. Ландольт набросал краткий, но яркий и выразительный портрет этого больного, и Дежерин позднее включил большой фрагмент из его описания в свою научную статью.
В октябре того года этот больной, отошедший от дел коммерсант Оскар К., вдруг обнаружил, что разучился читать. В течение нескольких предыдущих дней его беспокоило онемение в правой ноге, но он не обратил на него особого внимания. Невзирая на то что чтение сделалось для него недоступным, месье К. без труда узнавал окружавших его людей и знакомые предметы. Решив, однако, что у него что-то не в порядке с глазами, он отправился к Ландольту на консультацию.
«Когда я попросил больного назвать буквы в строках таблицы, он оказался неспособным прочесть ни единой буквы. Тем не менее пациент утверждал, что прекрасно их видит. Инстинктивно он чертит изображение букв в воздухе, но не способен назвать ни одной из них. Когда я попросил его нарисовать на бумаге то, что он видит, месье К. принялся с огромным трудом копировать буквы – линию за линией, словно выполняя технический чертеж. Он внимательно проверял каждый штрих, чтобы удостовериться, что рисунок точен и соответствует оригиналу. Усилия оказались напрасными, он так и не смог назвать буквы. Букву А он сравнивает с мольбертом, букву Z со змеей, а букву Р с пряжкой. Эта неспособность к чтению страшно пугает больного. Он думает, что «сошел с ума», так как прекрасно понимает, что знаки, которые он не может прочесть, являются обычными буквами»[19 - Я цитирую здесь и далее перевод, сделанный Израэлем Розенфилдом в его великолепной книге «Изобретение памяти».].
Подобно Говарду Энгелю, месье К. оказался не способен прочесть даже заголовки давно знакомой и любимой им газеты, хотя и понимал, что держит в руках утренний выпуск «Матэн». При этом, как Говард, месье К. полностью сохранил способность к письму.
«Несмотря на то что чтение ему недоступно, пациент легко и без ошибок пишет под диктовку. Но если приостановить диктовку на середине фразы, а затем продолжить, пациент путается и не в состоянии вернуться к написанному. Сделав ошибку, он бессилен ее обнаружить, поскольку не может читать даже отдельные буквы. Он узнает букву, только обводя рукой ее контур. Похоже, что именно мышечное движение помогает ему вспомнить название буквы…
Больной может складывать числа, так как с относительной легкостью читает цифры. Однако считает он медленно. Это потому, что не способен воспринять и прочесть все число сразу. Так, если ему показывают число 112, он говорит: “1, 1 и еще 2”, – и только записав эти цифры подряд, он отвечает: “Сто двенадцать”»[20 - Израэль Розенфилд отмечает, что главной проблемой Оскара К. была не только неспособность распознавать буквы, но и воспринимать их последовательность. Аналогичная трудность возникала у него и при чтении чисел. Числа, пишет Розенфилд, всегда читаются одинаково в любом контексте. 3 – это «три», появляется ли оно во фразе «три яблока» или во фразе «трехпроцентная скидка». Но значение цифры в многоразрядном числительном зависит от ее позиции. То же самое касается нот, значение которых зависит от контекста и положения на стане.Со словами, пишет Розенфилд, происходит нечто подобное.Изменение одной-единственной буквы может изменить как произношение, так и значение слова. Значение буквы зависит от того, что за ней следует и что ей предшествует. Неспособность уловить эту универсальную организацию – в которой идентичные символы, буквы, постоянно меняют свое значение – характерна для больных со словесной слепотой. Они не способны понять принцип организации символов, порождающих смысл.].
У месье К. были и другие зрительные расстройства – предметы представлялись ему более тусклыми и смазанными в правой половине поля зрения и, кроме того, были бесцветными. Эти проблемы наряду с особенностями алексии Оскара К. подсказали Ландольту, что основное заболевание локализовано не в глазах, а в мозге, что и побудило его направить больного к Дежерину.
Дежерин так заинтересовался заболеванием месье К., что стал наблюдать его дважды в неделю в своей парижской клинике. В фундаментальной статье, напечатанной в 1892 году, Дежерин кратко подытожил обнаруженные неврологические данные, а затем более щедрыми мазками обрисовал общую картину жизни больного.
«К. проводит свои дни в дальних прогулках вместе с женой. Он не испытывает никаких затруднений при ходьбе, и он каждый день совершает прогулку от бульвара Монмартра до Триумфальной арки и обратно. Он прекрасно понимает, что происходит вокруг, останавливается у магазинов, рассматривает картины, выставленные в витринах галерей. Афиши и вывески магазинов остаются для него бессмысленным скоплением букв. Часто это приводит его в отчаяние, так как за четыре года своего заболевания он так и не смирился с мыслью о том, что не может читать, хотя и сохранил способность писать. Несмотря на упорные упражнения и неимоверные усилия, предпринятые больным, он так и не смог заново усвоить буквы и заново научиться читать ноты».
Но и без нот Оскар К., великолепный певец, продолжал разучивать новые песни на слух и каждый день музицировать с женой. Он продолжал получать удовольствие от игры в карты и совершенствоваться в ней. «Он очень хороший карточный игрок, хорошо рассчитывает тактику, загодя продумывает ходы и по большей части выигрывает партии», – пишет Дежерин, не объясняя, правда, каким образом месье К. различал карты. Можно предположить, помогали ему в этом картинки – эмблемы масти, портреты старших карт и узоры младших, – ровно так же, как Говарду Энгелю подсказкой послужило изображение машины «скорой помощи» на дверях приемного отделения больницы.
Когда Оскар К. умер от второго инсульта, Дежерин сам выполнил вскрытие и нашел в его мозгу два очага поражения: старое, разрушившее часть левой затылочной доли и вызвавшее, по мнению врача, алексию месье К., и более обширное новое поражение, вероятно, и послужившее причиной смерти[21 - В течение тех нескольких дней, что Оскар К. прожил после второго инсульта, к его алексии присоединилась афазия. Он стал путать слова или произносить вместо них нечто совершенно невнятное. Ему пришлось пользоваться для общения мимикой и жестами. Его жена с ужасом обнаружила также, что он разучился писать. Израэль Розенфилд, анализируя этот случай в книге «Изобретение памяти», утверждает, что можно страдать алексией без аграфии, – это встречается достаточно часто, – но не бывает аграфии без алексии. «Аграфия, – пишет Розенфилд, – всегда сочетается с утратой способности к чтению». Тем не менее появились сообщения о чрезвычайно редких случаях изолированной аграфии, так что дебаты по этому поводу нельзя считать законченными.].
Делать однозначные выводы на основании патологоанатомического исследования головного мозга всегда трудно. Даже обнаружив поврежденные области, трудно проследить их многочисленные связи с другими областями мозга и сказать, какие из них играют ведущую, а какие подчиненную роль. Дежерин понимал это лучше других. Тем не менее он посчитал, что в отношении специфического неврологического симптома – алексии – он обнаружил причину заболевания: необратимое повреждение в той доле мозга, которую он назвал «зрительным центром распознавания письма».
Когда в 1999 году я спросил однажды Пэт, какое сегодня число, она, обидевшись на то, что я задаю такие элементарные вопросы, показала: «среда, 28 июля». Пользуясь своей «библией», она поведала мне, что за последние несколько месяцев побывала на полудюжине мюзиклов и дважды посещала картинные галереи, а вскоре собирается к Лари, на Лонг-Айленд, погостить и поплавать. «Поплавать?» – недоверчиво переспросил я. Да, подтвердила Пэт – несмотря на правосторонний парез, она до сих пор может плавать на боку. С помощью слов из той же книги она мне объяснила, что в юности была неплохой пловчихой на длинные дистанции. Пэт также поделилась со мной своей радостью по поводу того, что Лари через несколько месяцев усыновит ребенка. Во время этого посещения, восемь лет спустя после инсульта, я был впечатлен полнотой и богатством повседневной жизни Пэт, ее неутомимой любовью к жизни, невзирая на тяжелое поражение мозга, которое любой другой человек на ее месте мог бы посчитать концом всему.
В 2000 году Пэт показала мне как-то фотографии всех своих внуков. Накануне она побывала у дочерей в гостях по случаю Дня независимости, и они всей семьей смотрели по телевизору военно-морской парад и фейерверк. Она с большим удовольствием показала мне также художественную фотографию играющих в теннис сестер Вильямс. Теннис, заявила Пэт, один из ее любимых видов спорта, помимо лыж, верховой езды и плавания. Ей не терпелось показать мне свои ухоженные, наманикюренные ногти. Она была в широкополой шляпе и солнцезащитных очках, так как собиралась пойти позагорать во дворе больницы.
К 2002 году Пэт научилась отчетливо произносить несколько слов. Ей очень помогли в этом две песни: «С днем рожденья тебя» и «Велосипед для двоих», которые она пыталась петь вместе с Конни Томайно, музыкальным терапевтом «Бет Абрахам». Пэт уловила заложенные в музыке чувства и усвоила некоторые слова. Уже через несколько минут после прослушивания у Пэт «прорезался» голос, и она нараспев сумела произнести несколько слов. Она стала носить с собой портативный магнитофон с записями знакомых песен, чтобы пробудить и заставить работать утраченные речевые способности. Она продемонстрировала мне свои успехи, мелодично произнеся: «О, какое сегодня прекрасное утро!» и «Доброе утро, доктор Сакс!» – с сильным ударением на слово «утро».
Музыкальная терапия незаменима для некоторых больных с моторной (экспрессивной) афазией. Удостоверившись в том, что способны повторить вслух слова песен, эти больные начинают осознавать, что речевая функция не утрачена для них навсегда, что они могут добраться до залежей слов, затаившихся в каких-то закоулках сознания. Вопрос, правда, заключается в том, можно ли извлеченную из песни форму речи отделить от музыкального контекста и использовать для общения? Иногда это в какой-то степени достижимо с помощью переноса слов в своеобразный импровизированный речитатив[12 - Более подробно я писал об этом в посвященной афазии главе «Музыкофилии».]. Но душа Пэт не лежала к речитативам – она чувствовала, что ее подлинный дар проявляется в виртуозном владении, чтении и понимании языка мимики и жестов. В этой области она интуитивно достигла мастерства, граничащего с гениальностью.
Мимезис, сознательное и наглядное представление сцен, мыслей, намерений и так далее, является чисто человеческим изобретением и достижением, подобно языку и музыке. Обезьяны, которые способны подражать и передразнивать, тем не менее не способны создавать и разыгрывать миметические представления. (В книге «Происхождение современного разума» психолог Мерлин Дональд утверждает, что «миметическая» культура некогда была важнейшим этапом человеческой эволюции – промежуточным между «эпизодической» культурой обезьян и «теоретической» культурой современного человека.) Мимезис имеет более обширное и более элементарное представительство в нашем головном мозге, чем язык, и этим можно объяснить сохранение способности к мимезису у больных, утративших способность к членораздельной речи. Искусство мимезиса позволяет больным осуществлять богатое общение, в особенности если миметические способности достаточно развиты и сочетаются, как в случае Пэт, со специально разработанным словарем основных понятий.
Пэт всегда отличалась страстью к общению. («Это была женщина, способная говорить двадцать четыре часа в сутки», – по выражению ее дочери Даны.) Только энергия ярости и отчаяния в первые дни ее пребывания в больнице, вызванная утратой дара речи, и сильнейшая мотивация к успеху в общении по методу Джаннет в дальнейшем позволили ей сохранить рассудок и выжить.
Дочери Пэт не перестают поражаться ее стойкости. Дана вспоминает: «Почему у нее нет депрессии? Как она может так жить? – думала я сначала. Очень часто мать делала рукой жест, который, казалось, говорил: «Боже мой, что случилось? Что со мной? Почему я оказалась в этой комнате?!» Было впечатление, что невыносимый ужас инсульта снова и снова поражал ее». Но со временем Пэт поняла, что в общем-то ей повезло, несмотря на то что половина ее тела так и осталась парализованной. Ей повезло в том, что повреждение головного мозга, пусть и обширное, не лишило ее рассудка и не разрушило ядро личности. Повезло в том, что дочери, не жалея сил, боролись за спасение матери и возвращение к активной жизни, повезло, что они смогли обеспечить дополнительную помощь и оплатить услуги специалистов; а также что нашелся логопед, который разобрался в мельчайших деталях самочувствия своей пациентки и смог ее увлечь, снабдив важнейшим инструментом спасения – логопедической «библией», роль которой в ее реабилитации невозможно переоценить.
Пэт до сих пор остается очень активной и открытой миру. Ее дочь Дана утверждает, что мать осталась «жемчужиной» их семьи и, даже оказавшись в больнице, не утратила способности очаровывать людей. («Ведь она сумела очаровать даже вас, доктор Сакс», – сказала Дана.) Не говоря о том, что теперь она может рисовать левой рукой и благодарна небесам за то, что жива, за то, что способна многое делать сама. Именно поэтому так безоблачно ее настроение и так крепок моральный дух.
О том же, по сути, говорит и Лари. «Похоже, что все негативное в ее душе было смыто болезнью, – сказала она мне. – Мать стала более чуткой, она как никогда понимает теперь свою жизнь и жизнь окружающих. Она видит, что о ней заботятся, и это сделало ее саму добрее и заботливее по отношению к другим больным, состояние которых, быть может, не такое тяжелое, как у нее, но они менее «приспособлены», менее «счастливы», менее «удачливы». Она не считает уже себя жертвой, – говорит в заключение Лари. – Она всем сердцем чувствует, что Бог благословил ее».
Однажды в ноябре, прохладным субботним вечером, я присоединился к Пэт и Дане, чтобы заняться любимым делом Пэт – походом по магазинам на Аллертон-авеню по соседству с больницей. Когда мы пришли в палату Пэт, уставленную комнатными растениями, увешанную фотографиями, картинами, афишами и театральными программами, она уже дожидалась нас в своем любимом пальто.
Мы шли с ней сквозь субботнюю сутолоку по Аллертон-авеню, и я с удивлением увидел, что владельцы половины магазинов знают Пэт. Они кричали: «Привет, Пэт!», когда она катилась мимо их лавок. Пэт приветливо помахала рукой молодой женщине у входа в лавку здорового питания, где обычно покупала себе морковный сок, и женщина поприветствовала ее радостным возгласом. Она помахала рукой кореянке из химчистки, послав и получив в ответ воздушный поцелуй. Пэт сумела объяснить нам, что сестра приемщицы из химчистки работала прежде в магазине овощей и фруктов. Мы вошли в обувной магазин. Намерения Пэт были весьма прозрачны: она хотела купить на зиму сапоги на меху. Дана поинтересовалась: «На молнии или на липучке?» Пэт не стала ничего объяснять, а просто подкатилась к витрине с образцами и ткнула пальцем в приглянувшиеся ей сапоги. Дана воскликнула: «Но они же на шнурках!» Пэт улыбнулась и пожала плечами, всем своим видом говоря: «Ну и что? Мне их кто-нибудь завяжет». Пэт не лишена тщеславия и хочет, чтобы сапоги были одновременно элегантными и теплыми. («Вот еще, на липучках!» – говорило выражение ее лица.) Дана спросила: «Какой тебе размер? Девятый?» Нет, жестом ответила Пэт, согнув один палец и растопырив восемь, – восемь с половиной.
Задержались мы и в супермаркете, где она постоянно что-нибудь покупает для себя и своих знакомых по больнице. Пэт превосходно ориентировалась в лабиринте супермаркета и быстро выбрала два спелых манго для себя, большую связку бананов (большую часть которых она собиралась раздать), несколько маленьких пончиков и уже на кассе – три пакета сладостей, знаками объяснив нам, что это конфеты для детей одной из санитарок ее отделения.
Когда мы, нагруженные покупками, двинулись дальше, Дана спросила меня, где я был утром, и я ответил, что присутствовал на собрании Общества любителей папоротников в нью-йоркском Ботаническом саду, добавив, что я страстный любитель растений. Услышав это, Пэт сделала широкий жест и указала на себя, имея в виду вот что: «Вы – и я. Мы оба любители растений».
– Она совсем не изменилась после инсульта, – сказала Дана. – Сохранила все свои пристрастия и привязанности… Правда, теперь, – она улыбнулась, – сама стала нашей головной болью!
Пэт рассмеялась, полностью согласившись с дочерью.
Потом мы посидели в кафе. Пэт не испытывала никаких трудностей с чтением меню, показав, что предпочитает французскую жареную картошку с пшеничными тостами. После еды Пэт тщательно накрасила губы. («Какое щегольство!» – восхищенно воскликнула дочь.) Дана поинтересовалась у меня, можно ли взять маму в круиз. Я вспомнил громадные круизные лайнеры, ходившие на остров Кюрасао, и заинтригованная Пэт начала рыться в своей книге, чтобы спросить, отправляются ли эти корабли из Нью-Йорка. Я попытался изобразить круизный лайнер в блокноте, но Пэт, смеясь, отобрала у меня карандаш и левой рукой сделала это намного лучше, чем я.
Человек букв
В январе 2002 года я получил письмо от Говарда Энгеля, канадского писателя, автора детективного сериала о Бенни Купермене. В письме Энгель рассказал о своей странной проблеме. Несколько месяцев назад, писал Говард, он проснулся однажды утром в прекрасном настроении и, одевшись и приготовив завтрак, вышел на крыльцо, чтобы взять утреннюю газету. Однако лежавшая на ступенях газета неожиданно претерпела сверхъестественную метаморфозу.
«Номер «Глоб энд мэйл» от 31 июля 2001 года выглядел привычно – фотографии, крупные и мелкие заголовки, – вся разница состояла в том, что я был не в состоянии их прочесть. Я мог бы поклясться, что текст был набран теми двадцатью шестью буквами латинского алфавита, с которыми я родился и вырос, но стоило мне к ним присмотреться, как они начинали выглядеть то как кириллица, то как корейский алфавит. Может быть, это сербскохорватская версия газеты, предназначенная на экспорт? Или я стал жертвой глупой шутки? У меня имеются друзья, способные на такие розыгрыши. Я принялся раздумывать, как мне отнестись к их дурацкой выходке. Потом решил испробовать другой способ. Я раскрыл газету и попытался прочесть рекламу и комиксы, но не смог и этого.
По идее меня должно было окатить страхом и паникой, словно пресловутым ушатом холодной воды, но вместо этого меня поразило какое-то странное бесчувствие: “Если это не чья-то глупая шутка – значит, у меня просто инсульт”».
Заодно Энгель вспомнил описанный мной случай «Художника, страдавшего дальтонизмом»[13 - Это эссе вошло как отдельная глава в мою книгу «Антрополог на Марсе».], о котором читал несколько лет назад. Энгель вспомнил, в частности, как мой пациент мистер Л., получивший черепно-мозговую травму, оказался не в состоянии прочитать полицейский протокол об аварии. Он видел текст, набранный разными шрифтами, но не мог его разобрать, буквы были похожи на греческие или еврейские. Кроме того, Энгель вспомнил, что у мистера Л. алексия продолжалась пять дней, а затем исчезла.
Говард не успокоился и продолжал проверять себя, продолжая листать страницы и надеясь, что буквы вот-вот вернут себе свои привычные очертания и смысл. Потом он направился в библиотеку, видимо, решив, что «книги поведут себя лучше, чем газета», – тем более что он без труда определил по настенным часам, который был час. Но книги тоже оказались ему не по зубам, тем более что некоторые из них были на французском и немецком языках. Все они были теперь набраны каким-то «восточным» алфавитом.
Энгель разбудил сына, они вызвали такси и поехали в больницу. По дороге Говард думал, что видит «знакомые ориентиры в незнакомых местах». Он не мог прочитать названия улиц, по которым они проезжали, и даже не сумел прочесть вывеску «Неотложная помощь» на дверях приемного отделения, хотя узнал изображение машины «скорой помощи» на этой самой вывеске. Говарда подвергли массированному исследованию и подтвердили его догадку. Действительно, сказали ему, у него инсульт, поразивший небольшой участок зрительного отдела головного мозга слева. Во время сбора анамнеза при поступлении в больницу Говард, как он потом вспоминал, путался в некоторых деталях: «Я не мог указать степень родства со своим собственным сыном, я забыл, как меня зовут, не помнил ни свой возраст, ни адрес – как и десятки других вещей».
Всю следующую неделю Говард провел в неврологическом отделении больницы «Маунт Синай» в Торонто. За это время выяснилось, что у него имеются и другие зрительные расстройства наряду с потерей способности к чтению: в правом верхнем квадранте[14 - Квадрант – сектор, четверть круга. – Примеч. ред.] поля зрения появилась большая скотома[15 - Скотома – небольшой участок в пределах зрения, в котором зрение ослаблено или полностью отсутствует. – Примеч. ред.], у него возникли трудности в распознавании цветов, лиц и самых обычных предметов обихода. Энгель заметил, что эти расстройства то появлялись, то снова пропадали:
«Такие знакомые предметы, как яблоки и апельсины, вдруг принимали странный вид и становились мне незнакомыми, словно какие-нибудь экзотические азиатские фрукты вроде нефелиума. Я страшно удивлялся, не понимая, что именно держу сейчас в руке: апельсин, грейпфрут, помидор или яблоко? Мне пришлось научиться узнавать их по запаху или с помощью осязания».
Он стал часто забывать такие вещи, которые раньше прекрасно знал, – например, кто у нас премьер-министр или кто написал «Гамлета». Чтобы не попадать в неловкое положение, он стал избегать разговоров.
Он был безмерно удивлен, когда одна из медсестер заявила ему, что, даже потеряв способность читать, он может писать. По-медицински, сказала она, это называется «алексия без аграфии». Говард ей не поверил – как такое может быть, если чтение и письмо идут рука об руку? Как можно, утратив одну из этих способностей, сохранить другую?[16 - У Лилиан Каллир тоже была алексия без аграфии, и она продолжала писать письма своим друзьям, живущим во многих странах мира. Поскольку алексия развивалась у нее медленно, то она понемногу привыкла к факту, что чтение и письмо не зависят друг от друга.] Сестра предложила Говарду расписаться. Он поколебался, но, начав, понял, что письмо продолжается как бы само собой – плавно и без ошибок. К своей подписи он даже добавил пару предложений. Акт письма дался ему легко и просто – он писал без усилий, так же автоматически, как ходил или говорил. Медсестра без труда прочитала написанное Говардом, но сам он не смог прочесть ни единого слова. Перед его глазами снова оказалась та же «сербскохорватская абракадабра», какую он видел в газете.
Мы часто думаем, что чтение – это плавный и нераздельный процесс. Читая, мы понимаем смысл и замечаем красоту языка, не сознавая, как много процессов обеспечивают саму возможность такого слитного и плавного восприятия письменной речи. Надо столкнуться с таким расстройством, как у Говарда Энгеля, чтобы понять, что в действительности чтение зависит от целой иерархии или каскада процессов, который может нарушиться в любом звене.
В 1890 году немецкий невролог Генрих Лиссауэр ввел термин «психическая слепота», чтобы описать больных, которые после инсультов становились неспособными зрительно распознавать знакомые прежде предметы[17 - Современный термин «зрительная агнозия» был предложен Зигмундом Фрейдом в 1891 году.]. Больные с этим расстройством, со зрительной агнозией, могут иметь превосходную остроту зрения, правильно воспринимать цвета, не страдать дефектами полей зрения и так далее, но те же люди оказываются совершенно неспособными узнать или понять, что они видят перед собой.
Алексия – это специфическая форма зрительной агнозии, неспособность к распознаванию письменного языка. В 1861 году французский невролог Поль Брока описал центр «двигательных образов слов», как он его назвал, а несколько лет спустя его германский коллега Карл Вернике идентифицировал центр «слуховых образов» слов. После этого неврологи девятнадцатого века совершенно логично предположили, что должен существовать также центр «зрительных образов» слов. При повреждении этой гипотетической области, естественно, должна развиться неспособность читать – «слепота на слова»[18 - Врожденная «слепота на слова» (которую мы теперь называем дизлексией) была открыта неврологами в восьмидесятые годы девятнадцатого века, приблизительно в то же время, когда Шарко, Дежерин и другие описали приобретенную алексию. Дети, страдающие тяжелым расстройством способности к чтению (а иногда и к письму, чтению музыкальной нотации и счету), часто считаются умственно отсталыми, несмотря на очевидные признаки отсутствия всякой умственной отсталости. В. Прингл Морган, написавший в 1896 году статью для «Британского медицинского журнала», представил в ней подробную историю болезни развитого и умного четырнадцатилетнего мальчика, который испытывал большие трудности в чтении и правописании. В написании собственного имени он делал ошибку, записывая «Преси» вместо «Перси», и не замечал своей ошибки до тех пор, пока ему несколько раз на нее не указывали. Написанные и напечатанные слова не воспринимались его разумом, и только после трудоемкого побуквенного воспроизведения написанного он мог понять значение написанного. Легко он распознавал только такие простые слова, как «и», «это», «из» и т.д. Он не в состоянии был запомнить другие слова, как бы часто с ними ни сталкивался. Занимавшийся с ним преподаватель говорил, что Перси считался бы самым умным парнем в школе, если бы все обучение было устным.В настоящее время установлено, что от пяти до десяти процентов населения в той или иной мере страдают дизлексией и что либо вследствие «компенсации», либо вследствие иной организации нервной системы многие люди с дизлексией проявляют экстраординарные способности в других областях. Более подробно различные аспекты дизлексии описаны в книге Марианны Вольф «Пруст и кальмар: история науки о читающем мозге» и в книге Томаса Г. Уэста «В оке разума».].
В конце 1887 года офтальмолог Эдмунд Ландольт попросил своего коллегу, французского невролога Жана Жюля Дежерина, проконсультировать интеллигентного, образованного больного, который внезапно потерял способность читать. Ландольт набросал краткий, но яркий и выразительный портрет этого больного, и Дежерин позднее включил большой фрагмент из его описания в свою научную статью.
В октябре того года этот больной, отошедший от дел коммерсант Оскар К., вдруг обнаружил, что разучился читать. В течение нескольких предыдущих дней его беспокоило онемение в правой ноге, но он не обратил на него особого внимания. Невзирая на то что чтение сделалось для него недоступным, месье К. без труда узнавал окружавших его людей и знакомые предметы. Решив, однако, что у него что-то не в порядке с глазами, он отправился к Ландольту на консультацию.
«Когда я попросил больного назвать буквы в строках таблицы, он оказался неспособным прочесть ни единой буквы. Тем не менее пациент утверждал, что прекрасно их видит. Инстинктивно он чертит изображение букв в воздухе, но не способен назвать ни одной из них. Когда я попросил его нарисовать на бумаге то, что он видит, месье К. принялся с огромным трудом копировать буквы – линию за линией, словно выполняя технический чертеж. Он внимательно проверял каждый штрих, чтобы удостовериться, что рисунок точен и соответствует оригиналу. Усилия оказались напрасными, он так и не смог назвать буквы. Букву А он сравнивает с мольбертом, букву Z со змеей, а букву Р с пряжкой. Эта неспособность к чтению страшно пугает больного. Он думает, что «сошел с ума», так как прекрасно понимает, что знаки, которые он не может прочесть, являются обычными буквами»[19 - Я цитирую здесь и далее перевод, сделанный Израэлем Розенфилдом в его великолепной книге «Изобретение памяти».].
Подобно Говарду Энгелю, месье К. оказался не способен прочесть даже заголовки давно знакомой и любимой им газеты, хотя и понимал, что держит в руках утренний выпуск «Матэн». При этом, как Говард, месье К. полностью сохранил способность к письму.
«Несмотря на то что чтение ему недоступно, пациент легко и без ошибок пишет под диктовку. Но если приостановить диктовку на середине фразы, а затем продолжить, пациент путается и не в состоянии вернуться к написанному. Сделав ошибку, он бессилен ее обнаружить, поскольку не может читать даже отдельные буквы. Он узнает букву, только обводя рукой ее контур. Похоже, что именно мышечное движение помогает ему вспомнить название буквы…
Больной может складывать числа, так как с относительной легкостью читает цифры. Однако считает он медленно. Это потому, что не способен воспринять и прочесть все число сразу. Так, если ему показывают число 112, он говорит: “1, 1 и еще 2”, – и только записав эти цифры подряд, он отвечает: “Сто двенадцать”»[20 - Израэль Розенфилд отмечает, что главной проблемой Оскара К. была не только неспособность распознавать буквы, но и воспринимать их последовательность. Аналогичная трудность возникала у него и при чтении чисел. Числа, пишет Розенфилд, всегда читаются одинаково в любом контексте. 3 – это «три», появляется ли оно во фразе «три яблока» или во фразе «трехпроцентная скидка». Но значение цифры в многоразрядном числительном зависит от ее позиции. То же самое касается нот, значение которых зависит от контекста и положения на стане.Со словами, пишет Розенфилд, происходит нечто подобное.Изменение одной-единственной буквы может изменить как произношение, так и значение слова. Значение буквы зависит от того, что за ней следует и что ей предшествует. Неспособность уловить эту универсальную организацию – в которой идентичные символы, буквы, постоянно меняют свое значение – характерна для больных со словесной слепотой. Они не способны понять принцип организации символов, порождающих смысл.].
У месье К. были и другие зрительные расстройства – предметы представлялись ему более тусклыми и смазанными в правой половине поля зрения и, кроме того, были бесцветными. Эти проблемы наряду с особенностями алексии Оскара К. подсказали Ландольту, что основное заболевание локализовано не в глазах, а в мозге, что и побудило его направить больного к Дежерину.
Дежерин так заинтересовался заболеванием месье К., что стал наблюдать его дважды в неделю в своей парижской клинике. В фундаментальной статье, напечатанной в 1892 году, Дежерин кратко подытожил обнаруженные неврологические данные, а затем более щедрыми мазками обрисовал общую картину жизни больного.
«К. проводит свои дни в дальних прогулках вместе с женой. Он не испытывает никаких затруднений при ходьбе, и он каждый день совершает прогулку от бульвара Монмартра до Триумфальной арки и обратно. Он прекрасно понимает, что происходит вокруг, останавливается у магазинов, рассматривает картины, выставленные в витринах галерей. Афиши и вывески магазинов остаются для него бессмысленным скоплением букв. Часто это приводит его в отчаяние, так как за четыре года своего заболевания он так и не смирился с мыслью о том, что не может читать, хотя и сохранил способность писать. Несмотря на упорные упражнения и неимоверные усилия, предпринятые больным, он так и не смог заново усвоить буквы и заново научиться читать ноты».
Но и без нот Оскар К., великолепный певец, продолжал разучивать новые песни на слух и каждый день музицировать с женой. Он продолжал получать удовольствие от игры в карты и совершенствоваться в ней. «Он очень хороший карточный игрок, хорошо рассчитывает тактику, загодя продумывает ходы и по большей части выигрывает партии», – пишет Дежерин, не объясняя, правда, каким образом месье К. различал карты. Можно предположить, помогали ему в этом картинки – эмблемы масти, портреты старших карт и узоры младших, – ровно так же, как Говарду Энгелю подсказкой послужило изображение машины «скорой помощи» на дверях приемного отделения больницы.
Когда Оскар К. умер от второго инсульта, Дежерин сам выполнил вскрытие и нашел в его мозгу два очага поражения: старое, разрушившее часть левой затылочной доли и вызвавшее, по мнению врача, алексию месье К., и более обширное новое поражение, вероятно, и послужившее причиной смерти[21 - В течение тех нескольких дней, что Оскар К. прожил после второго инсульта, к его алексии присоединилась афазия. Он стал путать слова или произносить вместо них нечто совершенно невнятное. Ему пришлось пользоваться для общения мимикой и жестами. Его жена с ужасом обнаружила также, что он разучился писать. Израэль Розенфилд, анализируя этот случай в книге «Изобретение памяти», утверждает, что можно страдать алексией без аграфии, – это встречается достаточно часто, – но не бывает аграфии без алексии. «Аграфия, – пишет Розенфилд, – всегда сочетается с утратой способности к чтению». Тем не менее появились сообщения о чрезвычайно редких случаях изолированной аграфии, так что дебаты по этому поводу нельзя считать законченными.].
Делать однозначные выводы на основании патологоанатомического исследования головного мозга всегда трудно. Даже обнаружив поврежденные области, трудно проследить их многочисленные связи с другими областями мозга и сказать, какие из них играют ведущую, а какие подчиненную роль. Дежерин понимал это лучше других. Тем не менее он посчитал, что в отношении специфического неврологического симптома – алексии – он обнаружил причину заболевания: необратимое повреждение в той доле мозга, которую он назвал «зрительным центром распознавания письма».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: