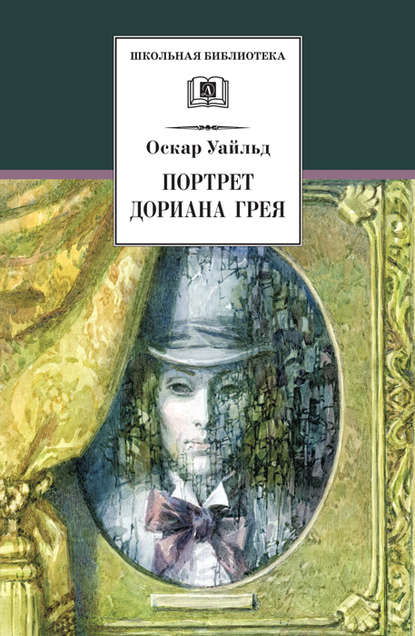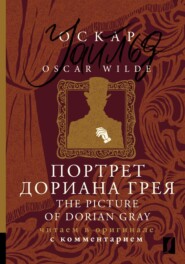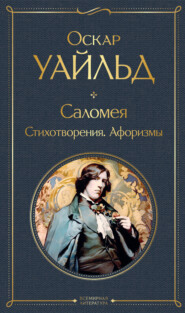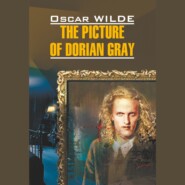По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Портрет Дориана Грея
Автор
Жанр
Год написания книги
1890
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Спасая его репутацию, друзья впоследствии утверждали, что для Уайльда дендизм остался только игрой, экспериментом, естественным проявлением артистичной натуры. В действительности все намного сложнее. Уайльд увлекся им по-настоящему глубоко и преодолевал его трудно, глубокий след остался в его книгах, во многом определив их притягательность, как и уязвимость.
Даже восторженные поклонники должны были согласиться с тем, что тепло обыденности с ее заботами, драмами и надеждами оставляло Уайльда равнодушным. Поэтому книги Уайльда иногда кажутся блестяще написанными, но уж слишком далекими от круга жизни, свершающейся день за днем. Эта жизнь его и вправду не интересовала, пока судьба не заставила с ней соприкоснуться напрямик, причем в травмирующем и жестоком обличье. Тюрьма была потрясением, перевернувшим его душу, – об этом можно судить по исповедальной книге, написанной под самый конец недолгого творческого пути Уайльда, и по знаменитой балладе, сочиненной им еще в камере.
Но эти замечательные произведения все-таки для него нехарактерны. Его сила как писателя – в непринужденном изяществе, в естественности юмора и парадокса, в остроумии, изобретательности и умении создавать пленительную атмосферу чудесного. Сказка, рожденная фантазией и вдохновением, вероятно, была для него самым органичным жанром.
О. Уайльд выпустил два сборника сказок: «Счастливый принц» в 1888 году и три года спустя – «Гранатовый домик». Сказки предназначались не детям, а скорее взрослым, «которые не утратили дара радоваться и изумляться». Критика отзывалась об этих книжках прохладно, но теперь они стали бесспорной классикой. Мало кому дано было с такой убедительностью «описать то, чего никогда не было», – так сформулировал свою задачу сам Уайльд. И решал ее очень последовательно, вступая в спор с тогдашней прозой, которая добивалась прямо противоположного эффекта – сходства с действительностью, узнаваемой в каждой подробности рассказа.
Это была принципиальная полемика. Уайльду говорили, что он пишет о пустяках, вместо того чтобы озаботиться серьезными социальными проблемами, что превращает литературу в беспечную забаву. Он возражал: насупленная серьезность – вовсе не ручательство, что писатель создал что-то настоящее. Нужно вернуть ощущение творчества как магии и волшебства. Нужно, чтобы проза стала не просто хроникой или проповедью, а искусством, в котором так много значит выдумка, красочность, гротеск, условность, игра.
Правота в конечном счете была на его стороне. Это подтверждено его реальными свершениями. Сказки Уайльда распахнули перед читателями двери в захватывающий, необычный мир, где красные ибисы подстерегают на отмелях золотых рыбок, а свадебные пиры увенчивает Танец розы. Где чудесные превращения естественны настолько, что их просто не замечают. Где помыслы персонажей всегда несвоекорыстны и у них в помине нет разлада между чувством и поступком.
Хотя бы на мгновение читатель этих сказок забывал о том, как тягостно, как бесцветно существование, подчиненное требованиям житейской выгоды, и переносился в совсем другой мир. Здесь истиной признавалось только исключение, а не правило, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. Творческое, артистическое начало провозглашалось высшей ценностью, и самым главным было его высвободить из-под власти косных представлений, из-под гнета внешне разумных, а по существу нелепых общественных порядков. Вот чему хотел Уайльд посвятить свою жизнь.
С ним и еще несколькими писателями того времени в литературу стала возвращаться романтика. Заговорили даже о целом художественном направлении, которое было названо неоромантизмом. Если и правда существовало это направление, то век его оказался коротким. Однако о том, что в искусстве начинаются глубокие перемены, приверженцами романтики, и особенно Уайльдом, было возвещено со всей несомненностью. Подошли к концу времена, когда превыше всего ставили способность писателя изображать события и людей так, чтобы получалось «как в жизни». Приблизилось время дерзких экспериментов, и в цене было умение не подражать жизни, а изобретать что-то диковинное, невозможное, но дающее почувствовать тайные связи и соприкосновения вещей как будто совершенно разнородных, хотя художник открывает, что они родственны друг другу.
Уайльд был одним из первых, кто пошел в литературу по этому пути. Было бы натяжкой утверждать, что он создал нечто новое и небывалое, – это не так. Скорее он возвращал или по-своему переосмыслял полузабытые художественные ходы, которые были отлично известны еще на заре девятнадцатого столетия, когда романтизм переживал свои звездные часы. Но его усилия приобретали особый смысл, если вспомнить, какие художественные приоритеты признавала эпоха. Она дорожила фактологией, объективностью, правдоподобием. Уайльд возвеличил воображение, интуицию, грезу. И свое творчество определил как «опыт изображения нынешней жизни в формах, далеких от реального».
Так оно и было, если подразумевать сюжеты да и формы. Уайльд снова и снова создавал что-то очень непривычное для своего времени. Вслед за сказками сочинил большой рассказ о привидении, и очень убедительный по ходу повествования, хотя ирония чувствуется поминутно. Затем ошеломил читателей своей изложенной в виде новеллы версией самого таинственного эпизода из биографии Шекспира: кем была Смуглая леди, к которой обращены сонеты великого мастера? Напечатал стихотворения в прозе, доказав, что можно добиться необыкновенной выразительности в этом жанре, считавшемся чем-то наподобие музейного экспоната. Написал драму, выбрав для нее сюжет из Библии, причем самый рискованный, по тогдашним ханжеским меркам. Да еще написал ее по-французски.
Его изобретательности оставалось только позавидовать. Но фразу о том, что он описывает нечто далекое от реального, следует понимать как метафору, не больше. Реальное отсутствовало в том смысле, что отсутствовали узнаваемые жизненные положения. Но дух времени, конфликты времени – все это напоминало о себе. Даже в сказках.
Достаточно задуматься над теми историями, которые Уайльд рассказывает на страницах обеих своих сказочных книг. Счастливый Принц и Ласточка самоотверженно служат людям, удостаиваясь за это единственной награды – им суждено валяться среди ненужного сора. Соловей принимает смерть во имя любви, а взбалмошная барышня выбрасывает на дорогу цветок, окрашенный его кровью, да еще некий молодой схоласт рассуждает о вздорности чувств и преимуществах логики. Прелестная Инфанта, узнав истинную преданность, не поняла, что это высшее счастье, – она потребовала, чтобы отныне к ней приводили только тех, у кого нет сердца. А Мальчик-звезда, случайный гость нашего мира, осознал, что даже красота способна скрывать в себе зло.
Романтика оказывалась не в ладу с реальными обстоятельствами жизни. Торжествовали те, кто, подобно Волку из сказки Уайльда, были наделены «очень трезвым взглядом на вещи». И расплачивались за торжество ощущением ненужности своей победы. Как Инфанте, она приносила триумфаторам лишь понимание, что они равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя.
Скепсис и мечтательность, романтика и насмешливое недоверие к любой восторженности – такое сочетание выглядело, должно быть, самым большим парадоксом из всех, которые прочно срослись с представлением об Уайльде. Но таким он и был – ироничным романтиком, романтически настроенным скептиком. Автором неподражаемых книг, среди которых его единственный роман остается самой значительной и известной.
«Портрет Дориана Грея» был напечатан в 1890 году. Это наиболее бестревожный период в биографии Уайльда. Сказки и необыкновенно остроумные комедии уже составили ему литературное имя: его знают повсюду в Европе. Репутация денди еще не сделалась постыдной славой аморалиста, по большей части на Уайльда смотрят просто как на чудака.
Заботы о благоденствии семьи заставляют его принять на себя обязанности редактора дамского журнала, которому Уайльд старается придать хороший уровень. Семья поначалу кажется на редкость счастливой. Через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уайльд вынудят порвать с мужем, и он никогда больше не увидит двух своих сыновей. Кстати, сказки он написал для них.
В обществе Уайльд все чаще появляется вместе с лордом Элфредом Дугласом, юношей поразительной внешности. Никто еще не догадывается, что их дружба станет поводом для самых грязных намеков и сплетен. Что письмо, написанное с обычной для Уайльда поэтической приподнятостью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас так и не явился. Что обожаемый Бози, как его называли в своем кругу, не окажет никакой поддержки ни узнику Редингской тюрьмы, ни изгнаннику, мучительно угасавшему в жалком парижском пансионе.
Лорд Дуглас был законченным денди, воплощением того человеческого типа, который прошел через многие произведения Уайльда. Чаще всего он представал в комическом освещении. Так было в двух пьесах, имевших огромный сценический успех, – «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Уайльд говорил, что несложно прославиться в качестве театрального автора: для этого достаточно навыка «подмечать серьезное в любых пустяках и пустячное во всем серьезном». Слово «серьезный», стоящее в заглавии комедии, которая вот уже более века не сходит со сцены, виртуозно обыграно: по-английски есть так же звучащее мужское имя, а героиня и слышать не желает о муже, которого звали бы по-другому. Возникает много недоразумений, персонажи проявляют замечательную находчивость, при этом сохраняя все отличительные свойства денди, и дело кончается свадебными колоколами.
В романе все совершенно не так, и преобладающая тональность сумрачная, чтобы не сказать – трагическая. Никто из современников не ожидал от Уайльда книги, столь мало отвечающей его известности блистательного, но неглубокого остроумца. Решили, что книга, во всяком случае, для него нетипична. А между тем у нее немало общего с другими его произведениями, особенно со сказками. И дело не только в том, что «Портрет Дориана Грея» тоже построен на условном, фантастическом сюжете.
Персонажи сказок меняются. В «Счастливом принце» они еще не знают сложностей жизни и, как ни печально приобщение к истинам, мир для них окрашен поэзией и радостью. Ничего этого не остается в «Гранатовом домике». Там все предопределено, там властвует судьба, и она беспощадна.
Этот путь от простодушия к познанию у нас на глазах совершается в «Дориане Грее». И, по словам самого Уайльда, «очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу» книги.
Рок становится возмездием, оно неотвратимо настигает героя, признавшего наслаждение высшей целью жизни и посвятившего себя погоне за наслаждением, ничему другому. Метафора портрета, центральная в романе, только кажется прозрачной. На самом деле в нее вложен глубокий и не всегда очевидный смысл.
За несколько десятилетий до Уайльда Оноре де Бальзак опубликовал философскую притчу «Шагреневая кожа». Там описана история молодого аристократа, завладевшего покрытым старыми письменами куском кожи, которая обладает магической способностью исполнять все, что ни пожелает владелец. Однако при этом она сжимается все больше и больше: каждое исполнившееся желание приближает роковой конец. И в ту минуту, когда у ног героя лежит, ожидая его повелений, чуть ли не весь мир, выясняется, что это никчемное свершение. Остался лишь крохотный лоскуток всесильного талисмана, а герой теперь «все мог – и не хотел уж ничего».
Бальзак рассказал грустную повесть о растлении легко обольщающейся души. Во многом его рассказ отзывается на страницах Уайльда, однако сама идея возмездия приобретает более сложный смысл.
Это не возмездие за бездумную жажду богатства, которое было синонимом могущества, а значит, своей человеческой состоятельности для Рафаэля де Валантена. Скорее, надо говорить о крахе исключительно притягательной, но все-таки в основании своем ложной идеи, о дерзком порыве, не подкрепленном нравственной твердостью. Тогда сразу возникают другие литературные параллели: уже не Бальзак, а Гёте, его «Фауст» в первую очередь. Очень соблазнительно отождествить Дориана с доктором-чернокнижником из старинной легенды. А Мефистофелем предстанет лорд Генри, тогда как Сибилу Вэйн можно будет воспринять как новую Гретхен.
Но, пожалуй, это слишком прямолинейная трактовка. Да и фактологически она не вполне точна. Известно, как возник замысел романа, – не из чтения, а из непосредственных впечатлений. Однажды в мастерской приятеля-живописца Уайльд застал натурщика, показавшегося ему самим совершенством. И воскликнул: «Какая жалость, что ему не миновать старости со всем ее уродством!» Художник заметил, что готов переписывать начатый им портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее разрушительная работа будет отражаться на полотне, но не на живом облике этого необычайного юноши. Дальше вступила в свои права фантазия Уайльда. Сюжет сложился как бы сам собой.
Это не значит, что Уайльд вовсе не вспоминал о предшественниках. Но действительно, смысл романа не сводится к опровержению той «глубоко эгоистической мысли», пленившей обладателя шагреневой кожи Рафаэля. Он иной и при сопоставлении с идеей, безраздельно владеющей Фаустом, который не желает оставаться земляным червем и жаждет – хотя не может – сравняться с богами, вершащими будущее человечества.
У героев Уайльда нет таких притязаний. Они всегда только хотели бы сохранить юность и красоту непреходящими – вопреки безжалостному закону естества. И это менее всего было бы благодеянием для человечества. Дориан, а тем более лорд Генри – олицетворенный эгоцентризм. Думать о других они попросту не способны. Оба достаточно ясно представляют себе, что вдохновивший их замысел нереален, но восстают против самой этой эфемерности или, по меньшей мере, не желают принять ее во внимание. Есть только культ юности, утонченности, искусства, безупречного художественного чутья, и не имеет значения, что реальная жизнь бесконечно далека от искусственного рая, который они вознамерились для себя создать. Что в этом Эдеме как бы отменены критерии морали. Что он, в сущности, только химера.
Когда-то эта химера обладала неоспоримой властью и над Уайльдом. Он тоже хотел вкусить всех плодов, произрастающих под солнцем, и не заботился о цене такого познания. Но все равно оставалось существенное различие между ним и его персонажами. Да, писатель, подобно своим героям, был убежден, что «цель жизни состоит не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы просто существовать». Однако, высказав эту мысль в одном эссе, тут же уточнил: «И не только существовать, а меняться». Вот с этой поправкой сама идея становится совсем не той, как ее понимают и Дориан, и лорд Генри. Ведь они хотели бы нетленной и застывшей красоты, и портрет должен был служить ее воплощением. Но оказался он зеркалом изменений, которых Дориан так страшился. И не мог избежать.
Как не смог он избежать и необходимости судить о происходящем по этическим критериям, сколько бы ни говорилось об их ненужности. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибилы остается виной, как бы, с помощью лорда Генри, ни пытался Дориан доказать себе, что этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой прозы жизни. И в конечном счете от его выбора зависели итоги, оказавшиеся катастрофическими.
Предпосланная роману страница афоризмов имела для Уайльда почти губительные последствия. Никто не проявил готовности вникнуть в его аргументы, да они и правда были изложены так, что неизбежными становились кривотолки. «Искусство чуждо морали, – заявлял он и шел еще дальше: – Всякое искусство совершенно бесполезно». Как тут было не возмутиться ревнителям полезности и назидательности?
Но они напрасно растрачивали свой обличительный пыл. Если вникнуть в смысл злоключений, испытанных главным героем книги, окажется, что Уайльд создал притчу, наделенную глубоким этическим содержанием. А если при этом он и говорил, что с моралью искусство не связано, то лишь желая покончить с ходячими суждениями о поступках героев, да еще выраженными очень прямолинейно, в лоб, как будто речь идет не о персонажах романа, а о неприятных соседях или о напроказивших юнцах с соседней улицы. Искусство он считал не подчиняющимся морали, но как бы создающим истинную мораль – благодаря тому, что в искусстве явлен пример совершенства, которого не приходится искать в реальной жизни. Оно представляет собой настолько высокий образец, что каждый, кто служит или хотя бы поклоняется ему, тем самым накладывает на себя серьезную обязанность – быть достойным эталона.
Дориан к совершенству стремился, но не достиг. Его банкротство осмыслено как крушение себялюбца. И как расплата за отступничество от идеала, выражающегося в единстве красоты и правды. Одна невозможна без другой – роман Уайльда говорит именно об этом. А критика сочла, что он восславляет аморальность.
Нечастый случай полной художественной слепоты! Но понадобились десятилетия, чтобы переломить инерцию таких мнений. Рецензии на «Дориана Грея» были затребованы прокурором, который с их помощью доказывал порочность человека, способного написать настолько постыдную книгу. Сегодня это кажется курьезом. Для Уайльда это было тяжелой драмой.
Из тюрьмы он вышел сломленным, измученным человеком, в котором не осталось и следа от щеголеватого лондонского денди, наделенного ярким, но, как полагали, пустым или даже опасным дарованием. Он утверждал, что не в состоянии оглядываться на собственное прошлое, до того оно ему непереносимо. Он говорил, что навсегда покончил с литературой. «Мне незачем писать, – сказал он одному из сохранившихся друзей, – потому что я постиг значение жизни. А писать о ней нельзя, ею можно только жить».
Но даже и на то, чтобы «только жить», у него не оставалось сил. Началась агония, воссозданная скупыми свидетельствами людей, оставшихся рядом с ним в последние месяцы и видевших этот печальный закат. Предательство тех, кому он бездумно доверял, нищета, травля, лицемерные вздохи над погубленным талантом и страхи, вызываемые его «растлевающим влиянием», едва скрытое торжество гонителей, узнавших, что его дни сочтены, – вот как завершался его путь.
В предисловии к «Дориану Грею» было сказано о ярости Калибана, которого заставили увидеть свой истинный облик. У Шекспира в «Буре» Калибан олицетворяет силу косную и злую. Она не исчезла, а, наоборот, только окрепла в доставшийся Уайльду лицемерный век. Но он верил, что искусство, подобно шекспировскому Просперо, сумеет совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдержать творцам истинной красоты.
Судьба Уайльда убеждает, что это была лишь благородная иллюзия. Век не переменился, и даже само искусство не обрело свободы от гнета действительности, внушавшей такое горькое чувство всем, кто не обманывался видимым благополучием, чутко распознавая за этим фасадом обезличенность и пустоту.
Заново сотворить человека, переменив его отношение к миру, в котором художник обнаруживает никем до него не замеченные ценности и смыслы, – такое едва ли под силу даже гению. Но если бы Оскар Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его уникальных книг.
А. Зверев
Портрет Дориана Грея[1 - «Портрет Дориана Грея» был опубликован летом 1890 г. в журнале «Липпинкот мэгезин». Для отдельного издания, появившегося через полгода, роман был переработан, появились пять новых глав (III и XV–XVIII).И сюжет книги, и ее герои имеют немало предшественников в европейской литературе, хотя замысел Уайльда остается глубоко оригинальным. Наиболее часто книгу сопоставляли с «Фаустом» Гёте и «Шагреневой кожей» Бальзака. Об этом – во вступительной статье.Есть и более близкий по времени опыт разработки той же темы; он, безусловно, был известен Уайльду. В 1884 г. французский писатель Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) опубликовал роман «Наоборот», имевший шумный и отчасти скандальный успех. В книге была рассказана история аристократа Дезэссента, типичного денди, который стремится создать вокруг себя искусственную среду, отгораживаясь от реальности и, насколько возможно, игнорируя ее законы. Окруженный любимыми им произведениями искусства, Дезэссент ведет жизнь гурмана, тщательно продумывая обстановку своего роскошного поместья и подчиняя «воображению, но не фактам» даже выбор блюд для ужина или сочетание ароматов в оранжерее, где растут невиданные растения.Принужденный, по настоянию врачей, вернуться из своего уединения в Париж, Дезэссент испытывает приступы отчаяния, соприкасаясь с грубой повседневностью, и горько сетует на «всесветную глупость». От нее способно защитить только искусство, сохраняющее высшие ценности человеческого существования, – ими становятся для героя изысканное изящество средневековой живописи и одухотворенность старинной музыки, в которой он распознает живое присутствие Бога, уже не ощущаемое им самим.Считавшийся «молитвенником декаданса», этот роман теперь воспринимается главным образом как подтверждение того, что настроения и взгляды, отразившиеся на страницах «Дориана Грея», были очень широко распространены в ту эпоху. Говорить о влиянии Гюисманса на Уайльда едва ли корректно: книга Уайльда несравнимо более значительна по своим основным идеям, отличается широтой эмоционального спектра и духовного диапазона – качества, недоступные французскому автору.Для Уайльда характерна свобода в использовании ассоциаций и параллелей, подчас представляющих собой очень вольное изложение тех или иных исторических эпизодов, мифов, преданий, литературных источников. Все подчинено созданию атмосферы, необходимой для изображаемой сцены; заботы о точности в обращении с заимствованным материалом отступают на второй план. Надо учитывать и особое пристрастие писателя к парадоксу, которое иногда заставляет его придавать скорее игровой, чем серьезный характер даже цитатам из библейских текстов, не говоря уже об античных мифах, составивших в романе особый пласт образности.Критические отклики на «Дориана Грея» почти все носили резко отрицательный характер. Высказывались даже требования подвергнуть книгу запрету за «аморальность», а автора по тем же соображениям предать суду. Впадая в полемические крайности, сам Уайльд в одном из интервью готов был признать, что «роман, быть может, и аморален, но он совершенен, а совершенство есть единственное стремление художника».В других своих высказываниях о романе автор, однако, проявил больше сдержанности. Отвечая на рецензию в журнале «Скотс обсервер», где снова говорилось о «безнравственности», он писал редактору: «Ваш рецензент совершает вопиющую, непростительную, преступную ошибку, пытаясь поставить знак равенства между художником и предметом его изображения. Китс (великий поэт-романтик начала XIX в. Джон Китс. – А. З.) заметил, что изображать зло доставляло ему не меньшее наслаждение, чем изображать добро… Чем дальше от художника изображаемое, тем свободнее он может творить». Очевидная справедливость этой мысли тем не менее не поколебала общего враждебного отношения к «Портрету Дориана Грея». Уайльда это не смущало, и свое письмо в «Скотс обсервер» он завершил характерным для него пассажем из тех, что провоцировали гневные отповеди возмущенных блюстителей литературной этики, – «Оставьте мою книгу для вечности, которую она, несомненно, заслуживает».Насколько это несомненно, гораздо легче судить через сто лет после появления книги, которая, по характеру отношения к ней и ее восприятия, особенно в России, кажется, опровергла убеждение ее автора, выраженное им в предисловии и много раз повторенное: «Искусство бесполезно, потому что его цель – лишь создавать настроение. В его задачу не входит ни поучать, ни как-либо влиять на поступки». На самом деле «Дориан Грей» и поучал, и, во всяком случае, оказывал прямое влияние на поступки тех, кто испытал магическую притягательность этой книги.]
Предисловие
Художник – тот, кто создает прекрасное.
Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство.
Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.
Высшая, как и низшая, форма критики – один из видов автобиографии.
Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.
Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны.
Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.
Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.
Даже восторженные поклонники должны были согласиться с тем, что тепло обыденности с ее заботами, драмами и надеждами оставляло Уайльда равнодушным. Поэтому книги Уайльда иногда кажутся блестяще написанными, но уж слишком далекими от круга жизни, свершающейся день за днем. Эта жизнь его и вправду не интересовала, пока судьба не заставила с ней соприкоснуться напрямик, причем в травмирующем и жестоком обличье. Тюрьма была потрясением, перевернувшим его душу, – об этом можно судить по исповедальной книге, написанной под самый конец недолгого творческого пути Уайльда, и по знаменитой балладе, сочиненной им еще в камере.
Но эти замечательные произведения все-таки для него нехарактерны. Его сила как писателя – в непринужденном изяществе, в естественности юмора и парадокса, в остроумии, изобретательности и умении создавать пленительную атмосферу чудесного. Сказка, рожденная фантазией и вдохновением, вероятно, была для него самым органичным жанром.
О. Уайльд выпустил два сборника сказок: «Счастливый принц» в 1888 году и три года спустя – «Гранатовый домик». Сказки предназначались не детям, а скорее взрослым, «которые не утратили дара радоваться и изумляться». Критика отзывалась об этих книжках прохладно, но теперь они стали бесспорной классикой. Мало кому дано было с такой убедительностью «описать то, чего никогда не было», – так сформулировал свою задачу сам Уайльд. И решал ее очень последовательно, вступая в спор с тогдашней прозой, которая добивалась прямо противоположного эффекта – сходства с действительностью, узнаваемой в каждой подробности рассказа.
Это была принципиальная полемика. Уайльду говорили, что он пишет о пустяках, вместо того чтобы озаботиться серьезными социальными проблемами, что превращает литературу в беспечную забаву. Он возражал: насупленная серьезность – вовсе не ручательство, что писатель создал что-то настоящее. Нужно вернуть ощущение творчества как магии и волшебства. Нужно, чтобы проза стала не просто хроникой или проповедью, а искусством, в котором так много значит выдумка, красочность, гротеск, условность, игра.
Правота в конечном счете была на его стороне. Это подтверждено его реальными свершениями. Сказки Уайльда распахнули перед читателями двери в захватывающий, необычный мир, где красные ибисы подстерегают на отмелях золотых рыбок, а свадебные пиры увенчивает Танец розы. Где чудесные превращения естественны настолько, что их просто не замечают. Где помыслы персонажей всегда несвоекорыстны и у них в помине нет разлада между чувством и поступком.
Хотя бы на мгновение читатель этих сказок забывал о том, как тягостно, как бесцветно существование, подчиненное требованиям житейской выгоды, и переносился в совсем другой мир. Здесь истиной признавалось только исключение, а не правило, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. Творческое, артистическое начало провозглашалось высшей ценностью, и самым главным было его высвободить из-под власти косных представлений, из-под гнета внешне разумных, а по существу нелепых общественных порядков. Вот чему хотел Уайльд посвятить свою жизнь.
С ним и еще несколькими писателями того времени в литературу стала возвращаться романтика. Заговорили даже о целом художественном направлении, которое было названо неоромантизмом. Если и правда существовало это направление, то век его оказался коротким. Однако о том, что в искусстве начинаются глубокие перемены, приверженцами романтики, и особенно Уайльдом, было возвещено со всей несомненностью. Подошли к концу времена, когда превыше всего ставили способность писателя изображать события и людей так, чтобы получалось «как в жизни». Приблизилось время дерзких экспериментов, и в цене было умение не подражать жизни, а изобретать что-то диковинное, невозможное, но дающее почувствовать тайные связи и соприкосновения вещей как будто совершенно разнородных, хотя художник открывает, что они родственны друг другу.
Уайльд был одним из первых, кто пошел в литературу по этому пути. Было бы натяжкой утверждать, что он создал нечто новое и небывалое, – это не так. Скорее он возвращал или по-своему переосмыслял полузабытые художественные ходы, которые были отлично известны еще на заре девятнадцатого столетия, когда романтизм переживал свои звездные часы. Но его усилия приобретали особый смысл, если вспомнить, какие художественные приоритеты признавала эпоха. Она дорожила фактологией, объективностью, правдоподобием. Уайльд возвеличил воображение, интуицию, грезу. И свое творчество определил как «опыт изображения нынешней жизни в формах, далеких от реального».
Так оно и было, если подразумевать сюжеты да и формы. Уайльд снова и снова создавал что-то очень непривычное для своего времени. Вслед за сказками сочинил большой рассказ о привидении, и очень убедительный по ходу повествования, хотя ирония чувствуется поминутно. Затем ошеломил читателей своей изложенной в виде новеллы версией самого таинственного эпизода из биографии Шекспира: кем была Смуглая леди, к которой обращены сонеты великого мастера? Напечатал стихотворения в прозе, доказав, что можно добиться необыкновенной выразительности в этом жанре, считавшемся чем-то наподобие музейного экспоната. Написал драму, выбрав для нее сюжет из Библии, причем самый рискованный, по тогдашним ханжеским меркам. Да еще написал ее по-французски.
Его изобретательности оставалось только позавидовать. Но фразу о том, что он описывает нечто далекое от реального, следует понимать как метафору, не больше. Реальное отсутствовало в том смысле, что отсутствовали узнаваемые жизненные положения. Но дух времени, конфликты времени – все это напоминало о себе. Даже в сказках.
Достаточно задуматься над теми историями, которые Уайльд рассказывает на страницах обеих своих сказочных книг. Счастливый Принц и Ласточка самоотверженно служат людям, удостаиваясь за это единственной награды – им суждено валяться среди ненужного сора. Соловей принимает смерть во имя любви, а взбалмошная барышня выбрасывает на дорогу цветок, окрашенный его кровью, да еще некий молодой схоласт рассуждает о вздорности чувств и преимуществах логики. Прелестная Инфанта, узнав истинную преданность, не поняла, что это высшее счастье, – она потребовала, чтобы отныне к ней приводили только тех, у кого нет сердца. А Мальчик-звезда, случайный гость нашего мира, осознал, что даже красота способна скрывать в себе зло.
Романтика оказывалась не в ладу с реальными обстоятельствами жизни. Торжествовали те, кто, подобно Волку из сказки Уайльда, были наделены «очень трезвым взглядом на вещи». И расплачивались за торжество ощущением ненужности своей победы. Как Инфанте, она приносила триумфаторам лишь понимание, что они равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя.
Скепсис и мечтательность, романтика и насмешливое недоверие к любой восторженности – такое сочетание выглядело, должно быть, самым большим парадоксом из всех, которые прочно срослись с представлением об Уайльде. Но таким он и был – ироничным романтиком, романтически настроенным скептиком. Автором неподражаемых книг, среди которых его единственный роман остается самой значительной и известной.
«Портрет Дориана Грея» был напечатан в 1890 году. Это наиболее бестревожный период в биографии Уайльда. Сказки и необыкновенно остроумные комедии уже составили ему литературное имя: его знают повсюду в Европе. Репутация денди еще не сделалась постыдной славой аморалиста, по большей части на Уайльда смотрят просто как на чудака.
Заботы о благоденствии семьи заставляют его принять на себя обязанности редактора дамского журнала, которому Уайльд старается придать хороший уровень. Семья поначалу кажется на редкость счастливой. Через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уайльд вынудят порвать с мужем, и он никогда больше не увидит двух своих сыновей. Кстати, сказки он написал для них.
В обществе Уайльд все чаще появляется вместе с лордом Элфредом Дугласом, юношей поразительной внешности. Никто еще не догадывается, что их дружба станет поводом для самых грязных намеков и сплетен. Что письмо, написанное с обычной для Уайльда поэтической приподнятостью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас так и не явился. Что обожаемый Бози, как его называли в своем кругу, не окажет никакой поддержки ни узнику Редингской тюрьмы, ни изгнаннику, мучительно угасавшему в жалком парижском пансионе.
Лорд Дуглас был законченным денди, воплощением того человеческого типа, который прошел через многие произведения Уайльда. Чаще всего он представал в комическом освещении. Так было в двух пьесах, имевших огромный сценический успех, – «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Уайльд говорил, что несложно прославиться в качестве театрального автора: для этого достаточно навыка «подмечать серьезное в любых пустяках и пустячное во всем серьезном». Слово «серьезный», стоящее в заглавии комедии, которая вот уже более века не сходит со сцены, виртуозно обыграно: по-английски есть так же звучащее мужское имя, а героиня и слышать не желает о муже, которого звали бы по-другому. Возникает много недоразумений, персонажи проявляют замечательную находчивость, при этом сохраняя все отличительные свойства денди, и дело кончается свадебными колоколами.
В романе все совершенно не так, и преобладающая тональность сумрачная, чтобы не сказать – трагическая. Никто из современников не ожидал от Уайльда книги, столь мало отвечающей его известности блистательного, но неглубокого остроумца. Решили, что книга, во всяком случае, для него нетипична. А между тем у нее немало общего с другими его произведениями, особенно со сказками. И дело не только в том, что «Портрет Дориана Грея» тоже построен на условном, фантастическом сюжете.
Персонажи сказок меняются. В «Счастливом принце» они еще не знают сложностей жизни и, как ни печально приобщение к истинам, мир для них окрашен поэзией и радостью. Ничего этого не остается в «Гранатовом домике». Там все предопределено, там властвует судьба, и она беспощадна.
Этот путь от простодушия к познанию у нас на глазах совершается в «Дориане Грее». И, по словам самого Уайльда, «очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу» книги.
Рок становится возмездием, оно неотвратимо настигает героя, признавшего наслаждение высшей целью жизни и посвятившего себя погоне за наслаждением, ничему другому. Метафора портрета, центральная в романе, только кажется прозрачной. На самом деле в нее вложен глубокий и не всегда очевидный смысл.
За несколько десятилетий до Уайльда Оноре де Бальзак опубликовал философскую притчу «Шагреневая кожа». Там описана история молодого аристократа, завладевшего покрытым старыми письменами куском кожи, которая обладает магической способностью исполнять все, что ни пожелает владелец. Однако при этом она сжимается все больше и больше: каждое исполнившееся желание приближает роковой конец. И в ту минуту, когда у ног героя лежит, ожидая его повелений, чуть ли не весь мир, выясняется, что это никчемное свершение. Остался лишь крохотный лоскуток всесильного талисмана, а герой теперь «все мог – и не хотел уж ничего».
Бальзак рассказал грустную повесть о растлении легко обольщающейся души. Во многом его рассказ отзывается на страницах Уайльда, однако сама идея возмездия приобретает более сложный смысл.
Это не возмездие за бездумную жажду богатства, которое было синонимом могущества, а значит, своей человеческой состоятельности для Рафаэля де Валантена. Скорее, надо говорить о крахе исключительно притягательной, но все-таки в основании своем ложной идеи, о дерзком порыве, не подкрепленном нравственной твердостью. Тогда сразу возникают другие литературные параллели: уже не Бальзак, а Гёте, его «Фауст» в первую очередь. Очень соблазнительно отождествить Дориана с доктором-чернокнижником из старинной легенды. А Мефистофелем предстанет лорд Генри, тогда как Сибилу Вэйн можно будет воспринять как новую Гретхен.
Но, пожалуй, это слишком прямолинейная трактовка. Да и фактологически она не вполне точна. Известно, как возник замысел романа, – не из чтения, а из непосредственных впечатлений. Однажды в мастерской приятеля-живописца Уайльд застал натурщика, показавшегося ему самим совершенством. И воскликнул: «Какая жалость, что ему не миновать старости со всем ее уродством!» Художник заметил, что готов переписывать начатый им портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее разрушительная работа будет отражаться на полотне, но не на живом облике этого необычайного юноши. Дальше вступила в свои права фантазия Уайльда. Сюжет сложился как бы сам собой.
Это не значит, что Уайльд вовсе не вспоминал о предшественниках. Но действительно, смысл романа не сводится к опровержению той «глубоко эгоистической мысли», пленившей обладателя шагреневой кожи Рафаэля. Он иной и при сопоставлении с идеей, безраздельно владеющей Фаустом, который не желает оставаться земляным червем и жаждет – хотя не может – сравняться с богами, вершащими будущее человечества.
У героев Уайльда нет таких притязаний. Они всегда только хотели бы сохранить юность и красоту непреходящими – вопреки безжалостному закону естества. И это менее всего было бы благодеянием для человечества. Дориан, а тем более лорд Генри – олицетворенный эгоцентризм. Думать о других они попросту не способны. Оба достаточно ясно представляют себе, что вдохновивший их замысел нереален, но восстают против самой этой эфемерности или, по меньшей мере, не желают принять ее во внимание. Есть только культ юности, утонченности, искусства, безупречного художественного чутья, и не имеет значения, что реальная жизнь бесконечно далека от искусственного рая, который они вознамерились для себя создать. Что в этом Эдеме как бы отменены критерии морали. Что он, в сущности, только химера.
Когда-то эта химера обладала неоспоримой властью и над Уайльдом. Он тоже хотел вкусить всех плодов, произрастающих под солнцем, и не заботился о цене такого познания. Но все равно оставалось существенное различие между ним и его персонажами. Да, писатель, подобно своим героям, был убежден, что «цель жизни состоит не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы просто существовать». Однако, высказав эту мысль в одном эссе, тут же уточнил: «И не только существовать, а меняться». Вот с этой поправкой сама идея становится совсем не той, как ее понимают и Дориан, и лорд Генри. Ведь они хотели бы нетленной и застывшей красоты, и портрет должен был служить ее воплощением. Но оказался он зеркалом изменений, которых Дориан так страшился. И не мог избежать.
Как не смог он избежать и необходимости судить о происходящем по этическим критериям, сколько бы ни говорилось об их ненужности. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибилы остается виной, как бы, с помощью лорда Генри, ни пытался Дориан доказать себе, что этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой прозы жизни. И в конечном счете от его выбора зависели итоги, оказавшиеся катастрофическими.
Предпосланная роману страница афоризмов имела для Уайльда почти губительные последствия. Никто не проявил готовности вникнуть в его аргументы, да они и правда были изложены так, что неизбежными становились кривотолки. «Искусство чуждо морали, – заявлял он и шел еще дальше: – Всякое искусство совершенно бесполезно». Как тут было не возмутиться ревнителям полезности и назидательности?
Но они напрасно растрачивали свой обличительный пыл. Если вникнуть в смысл злоключений, испытанных главным героем книги, окажется, что Уайльд создал притчу, наделенную глубоким этическим содержанием. А если при этом он и говорил, что с моралью искусство не связано, то лишь желая покончить с ходячими суждениями о поступках героев, да еще выраженными очень прямолинейно, в лоб, как будто речь идет не о персонажах романа, а о неприятных соседях или о напроказивших юнцах с соседней улицы. Искусство он считал не подчиняющимся морали, но как бы создающим истинную мораль – благодаря тому, что в искусстве явлен пример совершенства, которого не приходится искать в реальной жизни. Оно представляет собой настолько высокий образец, что каждый, кто служит или хотя бы поклоняется ему, тем самым накладывает на себя серьезную обязанность – быть достойным эталона.
Дориан к совершенству стремился, но не достиг. Его банкротство осмыслено как крушение себялюбца. И как расплата за отступничество от идеала, выражающегося в единстве красоты и правды. Одна невозможна без другой – роман Уайльда говорит именно об этом. А критика сочла, что он восславляет аморальность.
Нечастый случай полной художественной слепоты! Но понадобились десятилетия, чтобы переломить инерцию таких мнений. Рецензии на «Дориана Грея» были затребованы прокурором, который с их помощью доказывал порочность человека, способного написать настолько постыдную книгу. Сегодня это кажется курьезом. Для Уайльда это было тяжелой драмой.
Из тюрьмы он вышел сломленным, измученным человеком, в котором не осталось и следа от щеголеватого лондонского денди, наделенного ярким, но, как полагали, пустым или даже опасным дарованием. Он утверждал, что не в состоянии оглядываться на собственное прошлое, до того оно ему непереносимо. Он говорил, что навсегда покончил с литературой. «Мне незачем писать, – сказал он одному из сохранившихся друзей, – потому что я постиг значение жизни. А писать о ней нельзя, ею можно только жить».
Но даже и на то, чтобы «только жить», у него не оставалось сил. Началась агония, воссозданная скупыми свидетельствами людей, оставшихся рядом с ним в последние месяцы и видевших этот печальный закат. Предательство тех, кому он бездумно доверял, нищета, травля, лицемерные вздохи над погубленным талантом и страхи, вызываемые его «растлевающим влиянием», едва скрытое торжество гонителей, узнавших, что его дни сочтены, – вот как завершался его путь.
В предисловии к «Дориану Грею» было сказано о ярости Калибана, которого заставили увидеть свой истинный облик. У Шекспира в «Буре» Калибан олицетворяет силу косную и злую. Она не исчезла, а, наоборот, только окрепла в доставшийся Уайльду лицемерный век. Но он верил, что искусство, подобно шекспировскому Просперо, сумеет совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдержать творцам истинной красоты.
Судьба Уайльда убеждает, что это была лишь благородная иллюзия. Век не переменился, и даже само искусство не обрело свободы от гнета действительности, внушавшей такое горькое чувство всем, кто не обманывался видимым благополучием, чутко распознавая за этим фасадом обезличенность и пустоту.
Заново сотворить человека, переменив его отношение к миру, в котором художник обнаруживает никем до него не замеченные ценности и смыслы, – такое едва ли под силу даже гению. Но если бы Оскар Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его уникальных книг.
А. Зверев
Портрет Дориана Грея[1 - «Портрет Дориана Грея» был опубликован летом 1890 г. в журнале «Липпинкот мэгезин». Для отдельного издания, появившегося через полгода, роман был переработан, появились пять новых глав (III и XV–XVIII).И сюжет книги, и ее герои имеют немало предшественников в европейской литературе, хотя замысел Уайльда остается глубоко оригинальным. Наиболее часто книгу сопоставляли с «Фаустом» Гёте и «Шагреневой кожей» Бальзака. Об этом – во вступительной статье.Есть и более близкий по времени опыт разработки той же темы; он, безусловно, был известен Уайльду. В 1884 г. французский писатель Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) опубликовал роман «Наоборот», имевший шумный и отчасти скандальный успех. В книге была рассказана история аристократа Дезэссента, типичного денди, который стремится создать вокруг себя искусственную среду, отгораживаясь от реальности и, насколько возможно, игнорируя ее законы. Окруженный любимыми им произведениями искусства, Дезэссент ведет жизнь гурмана, тщательно продумывая обстановку своего роскошного поместья и подчиняя «воображению, но не фактам» даже выбор блюд для ужина или сочетание ароматов в оранжерее, где растут невиданные растения.Принужденный, по настоянию врачей, вернуться из своего уединения в Париж, Дезэссент испытывает приступы отчаяния, соприкасаясь с грубой повседневностью, и горько сетует на «всесветную глупость». От нее способно защитить только искусство, сохраняющее высшие ценности человеческого существования, – ими становятся для героя изысканное изящество средневековой живописи и одухотворенность старинной музыки, в которой он распознает живое присутствие Бога, уже не ощущаемое им самим.Считавшийся «молитвенником декаданса», этот роман теперь воспринимается главным образом как подтверждение того, что настроения и взгляды, отразившиеся на страницах «Дориана Грея», были очень широко распространены в ту эпоху. Говорить о влиянии Гюисманса на Уайльда едва ли корректно: книга Уайльда несравнимо более значительна по своим основным идеям, отличается широтой эмоционального спектра и духовного диапазона – качества, недоступные французскому автору.Для Уайльда характерна свобода в использовании ассоциаций и параллелей, подчас представляющих собой очень вольное изложение тех или иных исторических эпизодов, мифов, преданий, литературных источников. Все подчинено созданию атмосферы, необходимой для изображаемой сцены; заботы о точности в обращении с заимствованным материалом отступают на второй план. Надо учитывать и особое пристрастие писателя к парадоксу, которое иногда заставляет его придавать скорее игровой, чем серьезный характер даже цитатам из библейских текстов, не говоря уже об античных мифах, составивших в романе особый пласт образности.Критические отклики на «Дориана Грея» почти все носили резко отрицательный характер. Высказывались даже требования подвергнуть книгу запрету за «аморальность», а автора по тем же соображениям предать суду. Впадая в полемические крайности, сам Уайльд в одном из интервью готов был признать, что «роман, быть может, и аморален, но он совершенен, а совершенство есть единственное стремление художника».В других своих высказываниях о романе автор, однако, проявил больше сдержанности. Отвечая на рецензию в журнале «Скотс обсервер», где снова говорилось о «безнравственности», он писал редактору: «Ваш рецензент совершает вопиющую, непростительную, преступную ошибку, пытаясь поставить знак равенства между художником и предметом его изображения. Китс (великий поэт-романтик начала XIX в. Джон Китс. – А. З.) заметил, что изображать зло доставляло ему не меньшее наслаждение, чем изображать добро… Чем дальше от художника изображаемое, тем свободнее он может творить». Очевидная справедливость этой мысли тем не менее не поколебала общего враждебного отношения к «Портрету Дориана Грея». Уайльда это не смущало, и свое письмо в «Скотс обсервер» он завершил характерным для него пассажем из тех, что провоцировали гневные отповеди возмущенных блюстителей литературной этики, – «Оставьте мою книгу для вечности, которую она, несомненно, заслуживает».Насколько это несомненно, гораздо легче судить через сто лет после появления книги, которая, по характеру отношения к ней и ее восприятия, особенно в России, кажется, опровергла убеждение ее автора, выраженное им в предисловии и много раз повторенное: «Искусство бесполезно, потому что его цель – лишь создавать настроение. В его задачу не входит ни поучать, ни как-либо влиять на поступки». На самом деле «Дориан Грей» и поучал, и, во всяком случае, оказывал прямое влияние на поступки тех, кто испытал магическую притягательность этой книги.]
Предисловие
Художник – тот, кто создает прекрасное.
Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство.
Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.
Высшая, как и низшая, форма критики – один из видов автобиографии.
Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.
Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны.
Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.
Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.