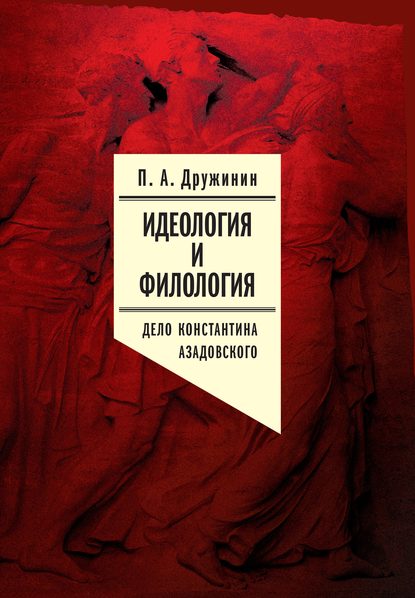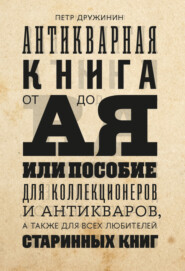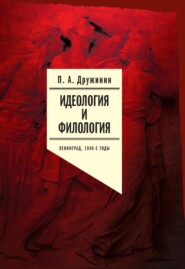По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Г.С. Макаров: …Я не наблюдал за сотрудником, осматривавшим стеллаж, находившийся между окнами. Услышал, что найден какой-то пакет… Пакет этот лежал на полке перед книгами, когда обыск только начался, этого пакета не было. Сотрудник нам показал место с левой стороны стеллажа за книгами. Азадовский сразу стал говорить, что пакет ему подложили.
А на следующий день в деле добавились показания инспектора Хлюпина:
18 декабря 1980 г. мой сослуживец Арцибушев пригласил меня с 2-мя понятыми помочь провести обыск в квартире у гр-на Азадовского… Я брал с полок несколько книг, вынимал их, не читая, быстро перелистывал страницы и ставил книги на место. Так я просмотрел несколько книг, дошел до четвертой полки снизу и стал справа налево вынимать книги и просматривать их. Когда я вынул с левой стороны последние несколько книг, просмотрел их и уже собирался ставить на место, то увидел в образовавшейся от выемки книг нише лежащий на освободившемся участке ниши пакет в бумаге-фольге. Я действительно немного растерялся, а потом взял пакет, переложил его на полку выше и спросил, что это такое. Азадовский в это время стоял около полки у окна и смотрел на меня. Он сразу стал кричать, что этот пакет я достал из кармана и подложил на полку. Пакет был развернут, и там было вещество бурого цвета…
После того, как я нашел этот пакет, обыск продолжался еще около четырех часов, мы продолжали осматривать книги; после того как были записаны все претензии Азадовского, он продолжал что-то говорить не по существу обыска, высказывал какие-то претензии, а я действительно торопился на работу, у меня были свои дела, и я сказал Арцибушеву, что могу подписать протокол, так как обыск закончен, и уйти.
Вскоре посетители ушли, забрав с собой и хозяина. Как отмечено в материалах дела, «в 14–00 он был задержан по подозрению в совершении преступления» и препровожден в то же самое 27-е отделение милиции. Капитан Арцибушев, передавая Азадовского в руки следователя Евгения Эмильевича Каменко, сказал напоследок: «Не по душе мне это все, я только выполняю приказ…»
Следователь Каменко сухо разъяснил Азадовскому, что ему вменяется «незаконное приобретение и хранение наркотических веществ без цели сбыта», то есть преступление, наказуемое в соответствии со статьей 224, пункт 3 УК РСФСР сроком до трех лет лишения свободы. Тогда же надлежало принять решение о мере пресечения обвиняемому (взятие под стражу, подписка о невыезде и т. п.), которое должен был утвердить начальник следственного отдела Куйбышевского района подполковник милиции И.А. Сапунов.
Ознакомившись с материалами обыска и задержания, Сапунов поначалу не дал разрешения на арест – мол, слишком уж слаба доказательная база. Ни отпечатков на фольге, ни показаний свидетелей, ни данных об употреблении – словом, ничего…
– Почему это наркотики именно Азадовского, если вчера с таким же пакетом была задержана его сожительница? А может, эти наркотики принадлежат ей? Почему нет показаний матери, проживающей в той же квартире? Зачем развернули сразу, не сняв отпечатки пальцев? Почему милиционер не сразу заявил об обнаружении, а после перекладываний и рассматриваний?..
Но тут выяснилось, что за ходом дела уже следят в главке и ожидают от Сапунова единственно верного решения. Но он все тянул и не соглашался. Ожидающие в коридоре Азадовский и понятой Макаров слышали обрывки телефонных разговоров строптивого начальника, где вперемешку с матом Сапунов растерянно повторял: «Как же мне его сажать? Ведь материалов-то никаких нет…»
И для укрепления «доказательной базы» в тот же вечер было произведено дополнительное действие: у Азадовского затребовали дубленку и пиджак, которые через полчаса вернули. О том, для чего это было сделано, он узнает позже, когда будет знакомиться с уголовным делом. Оказывается, в 22 часа следователь с коллегами произвел «исследование содержимого карманов дубленки и пиджака», изъяв «крупицы мусора», масса которых составила 0,22 грамма. Вскоре экспертиза установит, что в составе «крупиц мусора» имеется анаша. То обстоятельство, что это доказательство было добыто без соблюдения процессуальных норм (например, при отсутствии понятых), не изменит самого факта, приобщенного затем к набору «доказательств».
Чтобы оценить, насколько ситуация с задержанием Азадовского была для милиции неординарной, следует упомянуть эпизод, в реальность которого даже трудно поверить. Когда днем 19 декабря Азадовского доставили в отделение и милиционеры все не могли между собой договориться о дальнейшей процедуре, его попросили выйти из кабинета и ждать в коридоре. Он вышел, сел и некоторое время слушал, как собачатся между собой люди в погонах, обсуждая его участь. Но вдруг понял, что рядом-то никого нет – его никто не охраняет, наручников на нем тоже нет…
Он осторожно дошел по коридору до лестницы, потом спустился, вышел на крыльцо и оказался на улице. В те годы на входе в отделения милиции еще не было ни турникета, ни даже дежурного милиционера. По переулку Крылова он дошел до Садовой улицы, где на углу был телефон-автомат. Сперва, выпросив у прохожих монету, он позвонил маме, постарался ее, как мог, успокоить, посоветовал ждать развития событий. Затем позвонил на работу – трубку на кафедре подняла лаборантка Елена Кричевская, которой он сказал, что его несколько дней не будет. Светлане, увы, позвонить было уже невозможно.
Что делать, думал он. Если бы знать, что произошло со Светланой, было бы проще. Однако, по словам Арцибушева, она уже дала «признательные показания». В чем она могла «признаться»? Что будет с ней?
И тут ему в голову пришла идея пойти на вокзал и первым же дневным поездом уехать в Москву (железнодорожные билеты в то время еще не были именными, и для их приобретения не нужен был паспорт). А уже в Москве явиться в Генеральную прокуратуру СССР и сделать заявление – о подброшенном наркотике, незаконном обыске, задержании Светланы…
Однако светлая идея разбивалась о неодолимые (как ему казалось) препятствия. Удастся ли добраться до Москвы? У кого остановиться (с дневного поезда нужно будет ехать к кому-то из друзей на ночлег, тем самым можно превратить друга в укрывателя преступника и потащить его за собой). И, главное, где взять денег на билет? Ведь домой идти нельзя…
Одним словом, Азадовский решил вернуться в отделение милиции, чтобы не ухудшить своего и без того печального положения. К тому же он все-таки надеялся, что его отпустят, по крайней мере под подписку о невыезде. И тогда он пошел назад. Именно в тот момент встретил своего приятеля Вадима Жука (ныне известного актера и литератора) и, поведав ему о случившемся, просил сообщить об этом общим друзьям – Боре Ротенштейну и Гете Яновской.
Дадим слово Генриетте Яновской:
В середине декабря я ставила спектакль в [театре] Ленсовета. И в самый разгар репетиций у меня началась жуткая пневмония, температура под 40. Лежу дома, Кама [Гинкас] ставит во Владивостоке. Вдруг заходит в комнату Данька: «Мама, к тебе пришли». Кто? Зачем? Входит Вадька Жук почему-то в белых шерстяных носках и, ошалело глядя на меня в койке, тихо говорит: «Арестовали Костю Азадовского». Как? И Вадик рассказывает, как.
Утром он шел по переулку возле Садовой и вдруг увидел идущего навстречу Костю. Даже не успел поздороваться, Костя почему-то прошел мимо, но на ходу успел сказать: «Передай Гете, что меня арестовали. Подбросили наркотики». Всё. Растерянный, ничего не понявший Вадик пришел мне это передать.
Я до сих пор иногда себя спрашиваю, почему Костя просил передать это именно мне? Мы были не самыми близкими людьми. Думаю, просто потому, что, увидев Вадика, сообразил, что Жук из той же театральной среды, что и я, и он меня найдет. А уж я передам по цепочке.
И вот я лежу и совершенно не знаю, что делать. Но тут вспоминаю, что ровно подо мной живет Витя Топоров, который теперь пишет всякие злобные литературоведческие книжки. Вспоминаю, как однажды из нашего подъезда на меня вышли трое пьяных людей: Топоров, Лавров и Гречишкин, и Витя пытался нас знакомить, но опоздал, мы уже были знакомы через Костю. Значит, соображаю я, Витя Топоров тоже знает Костю. И я посылаю к нему Даньку. Витя, конечно, поднялся, я все ему рассказала: так, мол, и так, сообщите Лаврову и Гречишкину. Это уже потом обнаружилось, что матушка Вити, фантастически смелая женщина, прекрасный адвокат, не раз защищала диссидентов. В частности, Бродского.
Когда Азадовский вернулся в следственный отдел и занял свое место перед кабинетом следователя, то еще с полчаса был никому не нужен. Затем его пригласил Каменко и, помахав какими-то бумагами, сказал: «Следствию стало известно, что Вы уже в 1969 году привлекались по делу о наркотиках». После чего Азадовскому было предъявлено постановление об аресте. Выразительно взглянув на подозреваемого, Каменко в этот момент произнес: «Дело не в наркотиках, а в контактах». Было ли это сказано в порыве откровенности или по подсказке свыше, кто знает.
Ночь с 19 на 20 декабря, как и две следующие, Азадовский провел в КПЗ напротив Публичной библиотеки. Последним документом, который он подписал 22 декабря перед отправкой в Кресты, была доверенность на управление автомобилем «любому лицу по указанию моей матери», удостоверенная милицейской печатью. Вскоре в переулок Крылова прибыл автозак, и Азадовского принял конвой СИЗО № 1. Через час он уже был в Крестах.
Безжалостно, безучастно, без совести и стыда
воздвигали вокруг меня глухонемые стены.
Я замурован в них. Как я попал сюда?
Разуму в толк не взять случившейся перемены.
Я мог еще сделать многое: кровь еще горяча.
Но я проморгал строительство. Видимо, мне затмило,
и я не заметил кладки растущего кирпича.
Исподволь, но бесповоротно я отлучен от мира.
К. Кавафис. «Стены». Пер. Г. Шмакова
Глава 3
В ожидании суда
Книги и фотографии
Как мы упомянули, оперативники пришли за наркотиками, но углубились в изучение бумаг и книг. А когда добрались до коллекции фотографий, вызвали даже подмогу. Это в некотором смысле странно, поскольку четверо оперативников, ясно представлявшие себе, куда и зачем они идут, оказались совсем не готовы к обыску. Во всяком случае, 5 граммов анаши терялись на фоне тех сумок, которые они вынесли из квартиры Азадовского. Это обстоятельство получит в будущем свое объяснение.
Изъятые книги имели вполне очевидную направленность. В протоколе обыска значились: альбом «Марина Цветаева: Фотобиография» (Анн-Арбор, 1980); книги: Михаил Зощенко «Перед восходом солнца» (США, 1967), Борис Пильняк «Соляной амбар» (Чикаго, 1965), Евгений Замятин «Мы» (на немецком языке, 1975), «Письма Зинаиды Гиппиус к Н. Берберовой и В. Ходасевичу» (США, 1976); и др.
Но, повторимся, особый интерес у пришельцев вызвали фотографии. Вероятно, больше от безвыходности: все-таки ни сочинений Солженицына, ни текстов Сахарова обнаружено не было, даже в виде машинописи. А печатные издания, попавшие в протокол обыска, трудно было рассматривать как откровенную антисоветчину. Фотографий же оказалось много, к тому же все они относились приблизительно к одному периоду – началу ХХ века. Дело в том, что совсем незадолго до обыска собрание Константина Марковича пополнилось коллекцией фотографий его покойного друга Миши Балцвиника.
Михаил Абрамович Балцвиник (1931–1980) был выпускником отделения журналистики филологического факультета ЛГУ (1954), писал стихи. В начале 1960-х годов он попал в поле зрения органов: ему инкриминировалось «недонесение» на своих друзей, в т. ч. привлеченных «к ответственности». Он пережил обыск, допросы и «профилактические беседы» и в конечном итоге был исключен из партии, уволен с работы, отстранен от журналистской деятельности и навсегда лишен возможности работать по профессии. До конца жизни он зарабатывал себе на хлеб, числясь экономистом в отделе труда на ленинградской фабрике «Красный треугольник». В те годы он и начал собирать фотогалерею русских писателей ХХ века, и это новое увлечение стало для него смыслом жизни; он прекрасно фотографировал сам, а также умело переснимал фотографии литераторов начала века, главным образом из личных архивов. Именно стараниями Балцвиника были составлены свод фотографий Бориса Пастернака (он много переснимал тогда у Евгения Борисовича, сына поэта) и фотоальбом «Марина Цветаева», выпущенный Карлом и Эллендеей Проффер в небезызвестном издательстве «Ардис» (США) – именно этот альбом и был изъят в ходе обыска у Азадовского.
Цветаевский альбом имел большой успех и выдержал впоследствии еще два издания. Однако хранить его у себя было небезопасно; в своих воспоминаниях Ирма Кудрова, автор текста к этому фотоальбому, признается: «Помню, когда мне передали с оказией экземпляр долгожданного альбома (первого издания), я даже не решилась держать его дома – и отдала его на хранение моему другу Эльге Львовне Линецкой. А она, кажется, передала его еще кому-то…»
У Азадовского же хранился другой экземпляр, который в действительности предназначался Михаилу Балцвинику, но опоздал всего ненамного… Передать этот альбом уже не пришлось – 14 апреля 1980 года Михаил в состоянии тяжелейшей депрессии покончил с собой, выпив дозу лекарств, несовместимую с жизнью. Как написал его друг Сергей Дедюлин в парижской «Русской мысли», «в ночь с 13 на 14 апреля 1980, находясь один в своей квартире, М.А. выбрал для себя путь, показавшийся ему единственно возможным выходом». Нужно сказать, что, кроме труднейших личных обстоятельств, сыграла роль и общая давящая атмосфера той поры. Кроме того, совсем незадолго до смерти Балцвиник был вызван в Большой дом для очередной «профилактической беседы».
В тот роковой год он написал такое стихотворение:
Молитва о смерти
Есть минуты такого отчаяния
И такого безумия дни,
Что становится болью дыхание, —
О, проклятое существование,
Разорвись, уничтожься, усни!
Есть недели такой безнадежности
И такой напряженности страх,
Что и память о страсти и нежности —
Генерация мук безутешности,
И проклятьем скрипит на зубах.
Есть часы беспредельного ужаса
И такого кошмара порог,
За которым бессмысленны мужество,
Доброты и надежды содружество, —
И уходит земля из-под ног.