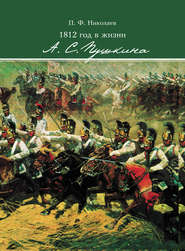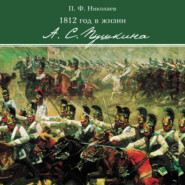По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Есенин в быту
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я тусклый, городской, больной,
Изношенный, продажный, чёрный.
Тебя увидел, и кругом
Запахло молоком, весной,
Травой густой, листвой узорной,
Сосновым свежим ветерком…
В ответ Есенин вручил новому другу стихотворение «Побирушка»:
Плачет девочка-малютка у окна больших хором,
А в хоромах смех весёлый так и льётся серебром.
Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз,
И ручонкою иззябшей вытирает капли слёз…
На следующий день Рюрик видел Есенина на большом вечере поэтов в Доме армии и флота и был удивлён познаниями Сергея Александровича в литературе:
– Как выяснилось на этом вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилёве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша.
«Но понимал ли это сам поэт?» – задавал себе вопрос Ивнев и так отвечал на него:
– Казалось, что он ещё и сам не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянён запахом славы и уже рвался вперёд. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять.
Не прост был Сергей Александрович, хватало в нём от лукавого. Даже в автобиографии писал: «Девятнадцати лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде». А в столице первое время рассказывал, что с голодухи направился в Ревель в надежде устроиться в порту грузчиком бочки катать; да вот повезло – задержался. На этот есенинский миф о себе его московский приятель А. Б. Мариенгоф говорил:
– Да какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом. Многослойность натуры «простого» рязанского парня с обаятельной улыбкой отмечал и Р. Ивнев:
«У него было удивительное умение перевести на „шутливые рельсы“ самый серьёзный разговор и, наоборот, шутливый разговор незаметно перевести в серьёзный. Иногда, как бы тасуя карты разговора, он, хитро улыбаясь, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, причём сразу нельзя было понять, говорит он серьёзно или шутит. Как-то беседуя с ним, я сказал, что у него хитрые глаза. Он засмеялся, зажмурился, потом открыл свои повеселевшие глаза и спросил улыбаясь:
– Хитрые? Ты находишь, что они хитрые? Значит, считаешь, что я хитрый? Да?
Он очень огорчился, когда я ему ответил, что хитрые глаза совсем не означают, что он хитрый.
– Пойми меня, – объяснил я ему, – что хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался. А если хитрость сама вылезает наружу, сияет в глазах и как бы довольна, что её замечают, какая же это хитрость?
Но Есенин не сдавался, он не скрывал своего огорчения моим „разъяснением“ и продолжал:
– Но как могут глаза быть хитрыми, если сам человек не хитёр?
– Значит, я неправильно выразился. Не хитрые, а кажущиеся хитрыми.
– Нет, нет, – не унимался Есенин, – вот ты хитришь со мной. Назвал хитрым, а теперь бьёшь отбой.
– Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость, как за высшую добродетель.
– Нет, нет, ты мне отвечай на вопрос: я хитрый? Да?
– Нет, ты совсем не хитрый. Но хочешь казаться хитрым.
– Значит, я всё же хитрый, раз хочу быть хитрым.
– Самый хитрый человек – это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитёр тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?
Есенин слушал меня внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:
– Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь».
30 марта редакция «Нового журнала для всех» устроила вечеринку для литературной молодёжи. Стихи читали Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве… Наибольший успех имел кандидат в мэтры О. Мандельштам. Попросили читать и Есенина. На этот раз его успех был весьма относительным. Объясняя причину этого, студент, будущий мастер слова В. С. Чернявский, говорил:
– В таком профессиональном и знающем себе цену обществе он несколько проигрывал. Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его «коровам» и «кудлатым щенкам». Идиллические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали презрительные усмешки.
В середине апреля литературный вечер устроил у себя Р. Ивнев. Рюрик снимал комнату у Павловых на Симеоновской улице, 5. Хозяева занимали весь первый этаж. Ивнев упросил их уступить большой зал библиотеки. По определению Чернявского, вечер был безалаберно-богемный и очень характерный для того времени. На нём преобладали снобы и «иронические и зеленолицые молодые поэты», которых объединяло равнодушие к женщине. Они бывали остроумны, но постоянно сплетничали и хихикали. Их называли нарицательно «юрочками», по имени наиболее характерного представителя «голубых».
Ни стихи Есенина, ни он сам этой публике не понравились. Петербургский снобизм и затаённая зависть к талантливой «деревенщине» отталкивали от него, и они поспешили закрепить за ним ярлык «кустарного петушка», сусального поэта в пейзанском[8 - В пейзанском – в приукрашенном сельском быте.] стиле.
После чтения стихов и чая гости собрались в небольшой комнате хозяина вечера и попросили Есенина спеть им частушки, напомнив при этом о похабных, о которых он сам говорил. С лёгкой ухмылкой Сергей согласился, но рязанская похабщина не впечатлила «избранное» общество. Слушали его плохо, по углам шушукались, раздавались отдельные выкрики. Есенин стал сбиваться и наконец замолчал. Вечер не удался, контакта со сверстниками не получилось, и поэт не жалел об этом, ориентируясь в основном на литераторов более зрелого возраста.
Таковым был М. В. Бабенчиков, преподаватель искусствоведения. С ним Сергей Александрович любил бродить по Петербургу и разговаривать, разговаривать…
«Петербург в такие минуты, – писал позднее Михаил Васильевич, – владел всеми нашими помыслами. Акварельные фасады лимонно-жёлтых и нежно-фисташковых зданий, отражающиеся в тёмной глади Невы, каналы, тенистые сады, ажурный взлёт мостов и казавшаяся гигантской фигура Медного всадника, простёршего свою длань над городом, будили в нас поэтические чувства. Помню, раз после одной из таких длинных прогулок стеклянным петербургским вечером мы остановились с Есениным на набережной Невы. Он вспоминал родную Оку, что-то говорил о своём будущем, и нам было отрадно думать, что когда-то здесь, быть может, стоял и Пушкин. Петербург, Пушкин, пушкинская эпоха были в центре художественных интересов тогдашней литературной молодёжи.
Несмотря на всю откровенность, с какой Есенин говорил о себе, некоторая сторона его жизни долго оставалась для меня неизвестной. Я почти ничего не знал о его пребывании перед тем в Москве, и большинство рассказов Есенина сводилось к детским годам, проведённым в родной рязанской деревне. Вспоминая со мной о своём деревенском прошлом, молодой Есенин радостно и весело раскрывал себя. И самые слова, произносимые им по этому поводу, были тоже какими-то особенными, солнечными, лучезарными, не похожими на обычные будничные слова. А голос чистым и звонким.
– Весенний! Есенин! – невольно как-то вырвалось у меня при взгляде на его сияющее улыбчивое лицо.
И он тотчас же на лету подхватил мою шутку.
– Весенний! Есенин! Ловко ты это придумал, хотя и не сам, сознайся, а Лев Толстой. Есть у него в „Войне и мире“ что-то вроде. Люблю и боюсь я этого старика. А отчего, не знаю. Даже во сне вижу. Махонький такой, мохнатенький, вроде лесовика. Идёт, палкой суковатой постукивает. И вдруг как заорёт:
„Серёга! Зачем дом бросил!“»
В Константинове. Лето 1915-го. Домом для Есенина была не созданная им семья (жена и сын), а Константиново. Проездом в пенаты он остановился на два дня в Москве. А. Р. Изряднова, любящая и всепрощающая, была счастлива жалким подарком судьбы и с благодарностью говорила, приукрашивая горькую действительность:
– В мае приехал в Москву уже другой. Был всё такой же любящий, внимательный, но не тот что уехал. Немного побыл в Москве, уехал в деревню, писал хорошие письма[9 - Ни одного письма Есенина к Изрядновой не сохранилось, и, судя по отношению его к первой жене, закрадывается сомнение в том, что они вообще были.].
В Константинове Сергей Александрович, пробыл пять месяцев, с 1 мая по 29 сентября. Там он написал свою единственную повесть «Яр» и подготовил к печати первый сборник стихов «Радуница». Возвращению в родное село посвятил следующие строки:
Туча кружево в роще связала,
Закурился пахучий туман.
Еду грязной дорогой с вокзала
Вдалеке от родимых полян.
Лес застыл без печали и шума,
Виснет темь, как платок, за сосной.
Сердце гложет плакучая дума…
Ой, не весел ты, край мой родной.
Пригорюнились девушки-ели,
И поёт мой ямщик наумяк[10 - Наумяк – наугад, наобум.]:
«Я умру на тюремной постели,