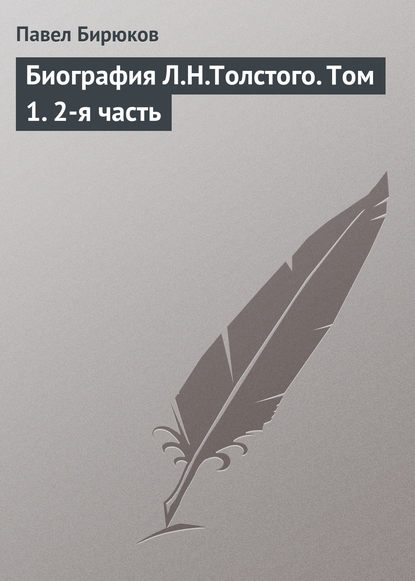По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Биография Л.Н.Толстого. Том 1. 2-я часть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И ей-то, ей-то я отказывал в той маленькой радости, которую ей доставляли финики, шоколад и не столько для себя, а чтобы угощать меня же, и возможность дать ей немного денег тем, кто просил ее. Этого не могу вспомнить без мучительного укора совести. Милая, милая тетенька, простите меня. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, не в смысле того блага, которого для себя не взял в молодости, а в смысле того блага, которого не дал, и зла, которое сделал тем, которых уже нет».
Лето 1858 года Лев Николаевич хотя и не постоянно живет в Ясной Поляне, уезжая на время в Москву, но жизнь народная интересует его все более и более, и он делает попытки сближения.
Фет в своих воспоминаниях приводит рассказ Ник. Ник. Толстого о его брате Льве, относящийся к этому времени и переданный с тонким юмором, свойственным Ник. Ник.
«На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате. «Левочка, – говорил он, – усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и мы все, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: «придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось; не то приказания слушать, не то на него дивиться». Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует».
В мае того же года Л. Н. Толстой писал А. А. Фету из Ясной Поляны:
«Драгоценный дяденька!
Пишу два слова, только чтобы сказать, что обнимаю вас изо всех сил, что письмо ваше получил, что М. П. целую руки, всем вашим кланяюсь. Тетенька очень благодарна за память и кланяется; и сестра кланяется. Что за весна была и есть чудная! Я в одиночку смаковал ее чудесно! Брат Николай должен быть в Никольском (Вяземском); поймайте его и не пускайте, – я в этом месяце хочу прийти к вам. Тургенев поехал в Винциг до августа, лечить свой пузырь.
Черт его возьми! Надоело любить его. Пузыря не вылечит, а нас лишит.
Затем прощайте, любезный друг; ежели до моего прихода не будет стихотворения, уж я его из вас выжму.
Ваш гр. Л. Толстой».
Какой Троицын день был вчера! Какая обедня с вянущей черемухой, седыми волосами и ярко-красным кумачом и горячее-горячее солнце!»
А затем он же:
«Ау, дяденька! Ауу! Во-первых, сами не отзоветесь ничем, когда весна, и знаете, что все о вас думают, и что я, как Прометей, прицеплен к скале и все-таки алкаю вас видеть и слышать. Или бы приехали, или хоть позвали бы к себе хорошенько. А во-вторых, зажилили брата, и очень хорошего брата, по прозвищу «Фирдуси». Главная тут преступница, я думаю, Мария Петровна, которой очень кланяюсь и прошу возвратить собственного нашего брата. Без шуток, он велел сказать, что на той неделе будет; Дружинин тоже будет; приезжайте и вы, голубчик дяденька».
После летних занятий по хозяйству мы видим Льва Николаевича и за общественными делами.
Осенью того же 1858 года в Туле происходил с 1-го по 4-е сентября съезд дворян всей губернии для избрания депутатов в тульский губернский комитет улучшения быта крестьян. На этом съезде, на основании устава о дворянских выборах, дозволяющего дворянам представлять свои соображения о местных нуждах и потребностях своей губернии, 105 дворян подали тульскому губернскому предводителю, для передачи на обсуждение губернского комитета, следующее мнение:
«Мы нижеподписавшиеся, в видах улучшения быта крестьян, обеспечения собственности помещиков и безопасности тех и других, полагаем необходимым отпустить крестьян на волю не иначе, как с наделом некоторого количества земли в потомственное владение, – и чтобы помещики за уступаемую ими землю получили бы полное, добросовестное денежное вознаграждение посредством какой-либо финансовой меры, которая не влекла бы за собою никаких обязательных отношений между крестьянами и помещиками, – отношений, которые дворянство предполагает необходимым прекратить»,
(Следуют подписи 105 тульских дворян, в числе которых подписался, конечно, и «крапивенский помещик граф Лев Толстой»).
Переходим опять к воспоминаниям Фета:
«Со времени нашего с женою отъезда в Москву, осенью 1858 г., – рассказывает он, – Лев Николаевич Толстой успел, как видно из следующего его письма, присланного мне в Москву из Новоселок, поохотиться с Борисовым, который и сдал ему на время своего доезжачего Прокофия с лошадью и гончими.
24 октября граф писал мне в Москву:
«Душенька, дяденька, Фетенька! Ей-Богу душенька, и я вас ужасно, ужасно люблю! Вот те и все! Повести писать глупо, стыдно. Стихи писать… Пожалуй, пишите; но любить хорошего человека очень приятно. А может быть, против моей воли и сознания не я, а сидящая во мне, еще не назревшая повесть заставляет любить вас. Что-то иногда так кажется. Что ни делай, а между навозом и коростой нет-нет да возьмешь и сочинишь. Спасибо, что еще писать себе не позволяю и не позволю. Изо всех сил благодарю вас за хлопоты о ветеринаре и пр. Нашел я тульского и начал лечение. Что будет – не знаю. Да и черт с ними со всеми! Дружинин просит по дружбе сочинить повесть. Я, право, хочу сочинить. Такую сочиню, что уж ничего не будет. Шах персидский курит табак, а я тебя люблю. Вот она шутка-то! Без шуток, что ваш Гафиз? Ведь как ни вертись, а верх мудрости и твердости для меня – это только радоваться чужою поэзиею, а свою собственную не пускать в люди в уродливом наряде, а самому есть с хлебом насущным. А иногда так вдруг захочется быть великим человеком, и так досадно, что до сих пор еще этого не сделалось. Даже поскорее торопишься вставать или доедать обед, чтобы начинать. Всех так называемых глупостей не переговорить, но приятно хотя одну сказать такому дяденьке, как вы, который живет только одними так называемыми глупостями, «закурдалами». Пришлите мне одно самое здоровое переведенное вами стихотворение Гафиза me fair venir l'eau a la bouche, а я вам пришлю образчик пшеницы. Охота надоела – смерть. Погода стоит прелестная, но я один не езжу.
Тетенька очень благодарит за память; и это не фраза, а всякий раз, как я прочту ей вашу приписку, она улыбается, наклонив голову, и скажет: «однако (почему однако?) какой славный человек этот Фет». А я знаю, за что славный – за то, что она думает, что он меня очень любит. Ну-с, прощайте. Пописывайте мне иногда без возбудителя ветеринара».
В декабре 1858 года со Львом Николаевичем произошел на охоте случай, едва не стоивший ему жизни. Вот как об этом рассказывает Фет:
«Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые – Николай и Лев – познакомились со Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками.
15 декабря 1858 года Громека писал:
«Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовыми), и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочек, прямо ко мне, без всяких церемоний, и что я буду ждать его с распростертыми объятиями: для него будет приготовлена комната. Если же он не приедет, то прошу вас уведомить меня к тому же времени.
Я полагаю, что охота состоится именно 19-го числа. Следовательно, всею лучше и даже необходимо приехать 18-го.
Если же Толстой пожелает отложить до 21-го, то уведомьте; дольше ждать невозможно».
Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился в квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурлило и зашумело. Ввиду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собой два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку, предназначенную для дроби. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.
Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье к стволу дерева, так чтобы, выпустив свои два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходивших на ближайшего справа ко Л. Н-чу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может, учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелился Лев Николаевич, спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидал перед собой набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как не отоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился на снег. Медведица с разбега перескочила через него. «Ну, – подумал граф, – все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз». Но в ту же минуту он увидал над головой что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может, вследствие таких инстинктивных приемов, зверь, промахнувшись зубами раза два, успел дать только одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: «куда ты? куда ты?» – Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добили на другой день.
Первым словом поднявшегося на ноги Толстого, с отвисшею на лицо кожею со лба, которую тут же перевязали платками, – было: «что-то скажет Фет?» Этим словом я горжусь и поныне».
Сам Лев Николаевич, оправившись, спешит уведомить тетку о случившемся и в письме от 25 декабря так рассказывает про этот случай:
«Во-первых, поздравляю вас, во-вторых, я боюсь, что до вас дойдет как-нибудь с прибавлениями мое приключение, и потому сам спешу известить вас о нем.
Мы были с Николенькой на медвежьей охоте, 21-го я убил медведя, 22-го мы снова пошли, и со мной случилось нечто самое необыкновенное. Медведь, не видя меня, бросился на меня; я выстрелил в него с 6-ти шагов, первый раз промахнулся, со второго выстрела в 2-х шагах я его смертельно ранил, но он бросился на меня, повалил на землю, и пока ко мне бежали, он укусил меня 2 раза в лоб над и под глазом. По счастью, это продолжалось не более 10 или 15 секунд; медведь убежал, и я поднялся с небольшой раной, которая не уродует меня и не причиняет мне страданий. Ни кость черепа, ни глаз не повреждены, – так что я отделался небольшим шрамом, который останется на лбу. Теперь я в Москве и чувствую себя совсем хорошо. Я пишу вам чистую правду, ничего не скрывая, чтобы вы не беспокоились. Теперь все прошло, и остается только благодарить Бога, который меня спас столь необычайным образом».
Этот эпизод послужил Льву Николаевичу темой для его рассказа «Охота пуще неволи», помещенного в «книжках для чтения». В этом рассказе много художественных подробностей, пропущенных Фетом, но так как в художественной обработке очень трудно отличить фактическую сторону рассказа от добавлений художественной фантазии, мы предпочли этому рассказу воспоминания друга Льва Николаевича и его собственное письмо, как более соответствующие нашей цели.
Первые месяцы 1859 года Лев Николаевич проводит в Москве, а в апреле едет в Петербург, где проводит 10 дней в обществе своего друга, А. А. Толстой. Об этой поездке у него сохранились самые лучшие воспоминания. В конце апреля он снова в Ясной Поляне, где остается все лето. Летом Лев Николаевич навестил Тургенева в его Спасском.
В своем стихотворении, посланном Фету от 16-го июля 1859 года, Тургенев пишет следующее:
Толстого Николая поцелуйте
И Льву Толстому поклонитесь, также
Сестре его. Он прав в своей приписке:
Мне «не за что» к нему писать. Я знаю,
Меня он любит мало, и его
Люблю я мало – слишком в нас различны
Стихии; но дорог на свете много:
Друг другу мы мешать не захотим.
Эти строки показывают, что отношения между ними продолжались взаимно уважительные, но дружелюбно-холодные.
Тем не менее это свидание прошло благополучно. 9-го октября того же года в письме к Фету Тургенев так отзывается об этом свидании:
«Дамы наши очень кланяются вам всем. С Толстым мы беседовали мирно и расстались дружелюбно. Кажется, недоразумений между нами быть не может, потому что мы друг друга понимаем ясно и понимаем, что тесно сойтись нам невозможно. Мы из разной глины слеплены».
В августе Лев Николаевич снова в Москве, где проводит осень.
1860 год он встречает уже в душевной тревоге:
«Тягота хозяйства, тягота одинокой жизни, всевозможные сомнения и пессимистические чувства обуревают душу».
Хотя зимой 59–60 года он еще находит отдохновение и умиление в школах. В «Исповеди» он так говорит об этом времени:
«Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидной, лжи, которая уже резала мне глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно, и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же, я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтобы учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности я понял, что нельзя учить, не зная чему, потому что я видел, что все учат различному и, споря между собой, скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же, с крестьянскими детьми, я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить свою похоть – учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу учить ничему такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно».