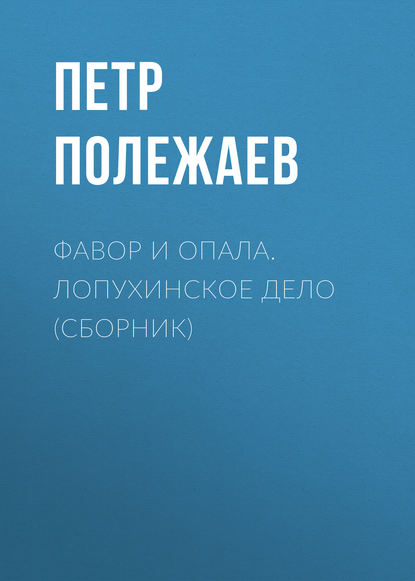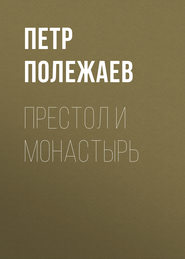По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Любишь ли ты меня, Стеня? – допрашивал Иван Степанович девушку, когда они сидели рядом на той же лужайке, на которой так часто совещались по части отыскивания птичьих гнезд.
– Люблю… но… – И девушка отклонялась.
– Если любишь, так зачем «но»?
– Послушай, Иван Степаныч, милый мой, давно я хотела сказать тебе, да все откладывала… боялась… больно было… Мне самой так сладко глядеть на тебя… быть с тобой… К чему наша любовь? Хорошо, я верю тебе, ты меня любишь, и я, да что же из этого выйдет? Ты – вельможа, а я – простолюдинка. Жениться на мне тебе нельзя, родители твои не позволят, а любовницей я не хочу быть: лучше руки на себя наложу…
Девушка говорила решительно, с раздирающим отчаянием в голосе; глаза ее горели диким блеском, во всех побледневших чертах выразилось такое глубокое страдание, что у Ивана Степановича невольно опустилась рука, протянутая к талии Стени.
Молодой человек задумался, но вдруг блеснула у него решительная мысль, и он бодро поднял голову.
– Знаешь что, Стеня, милая, ты не бойся, все может уладиться, – начал он даже весело, заглядывая ей в глаза.
– Уладиться? Нет, милый мой, нестаточное это дело: не обманывай ни себя, ни меня. Лучше расстанемся; ты поплачешь, потоскуешь, а потом утешишься, а я… да обо мне и говорить не стоит.
– Нет, не расстанемся, я не вынесу этого, да и незачем. Разве я не могу жениться на тебе? Кто были Гендриковы и Ефимовские, а теперь графини… Почему же не быть тебе Лопухиной? – утешал ее Ваня.
– А Степан Васильевич и Наталья Федоровна? Ведь они гордыня: потерпят ли, чтоб дочерью их стала своя же крепостная?
– И отец и мать сделают все, чего захочет государыня. Нынче не прежние времена. Надобно только правительницу привлечь на свою сторону, да ведь это нетрудно: она такая добрая и милостивая. Я буду теперь чаще бывать при дворе, заищу в графе Линаре, при его помощи – а он все может сделать, что захочет, – устрою так, чтоб тебя взяли во дворец. Ты понравишься государыне, сделаешься ее любимицей, и тогда…
Стеня порывисто обхватила голову Ивана Степановича, прижала ее к своей высоко поднимавшейся груди, страстно поцеловала в лоб и бросилась бежать. Голова ее горела, в висках билась кровь; наконец-то ее неопределенные мечты приняли ясные формы, будущее посулило почет, славу, силу великую!
Иван Степанович ретиво принялся приводить задуманный им план в исполнение.
Заручиться благосклонностью графа Линара оказалось делом нетрудным. Владея безграничным расположением принцессы-правительницы, но стоя особняком и даже в оппозиции ко всем политическим партиям того времени, граф-фаворит с удовольствием принимал искательства в себе молодого русского придворного из хорошей родовитой фамилии, а за ним стала приветливее, как заметил Иван Степанович, и сама правительница Анна Леопольдовна. Молодого Лопухина приняли в интимный кружок правительницы; нередко любимица Юлиана шутила с ним, играла в карты, обыгрывала и давала возможность все больше и больше выигрывать в придворном значении. Иван Степанович быстро пошел в гору; ему уже казалось близким то время, когда он с уверенностью обратится к графу Линару с просьбою о Стене, им уже мысленно назначался и день, как вдруг – крах – правительство Брауншвейгской фамилии рухнуло, уступив место императрице Елизавете, подозрительно и враждебно смотревшей на всех приближенных своей предшественницы.
В первые же дни правления Елизаветы на Лопухиных налегла опала. Степан Васильевич лишился должности и отставлен тем же чином генерал-поручика, без всякого повышения и награды; Иван Степанович тоже отчислен от камер-юнкеров, с переводом в армию подполковником, без назначения в полк; Наталья Федоровна хоть и получила даже назначение быть статс-дамою, но, чувствуя нерасположение к себе новой императрицы, завистливо смотревшей и прежде на ее очаровательную красоту, сначала показывалась при дворе, а потом и вовсе перестала бывать. Да и не в силах она была лицемерить: ее друг, к которому она так искренне привязалась, ее дорогой Рейнгольд Иваныч был судим вместе с Минихом и Остерманом. С горя Наталья Федоровна занемогла серьезно.
С Анной Леопольдовной рухнули все надежды Ивана Степановича и Стени, а между тем в это время счастливых призраков они сошлись ближе, Стеня бывала задушевнее, страстнее ласкала друга, хоть и твердо держалась своего слова. Иван Степанович опустился, часто стал заходить в бильярдные дома, кутил, искал спасения в вине, и вино оказывало ему добрую услугу: оно окрыляло воображение, рисовало в будущем возможность новой перемены, восстановления только что погибшего.
IV
Новая императрица должна была прежде всего обеспечить себя, оградить себя от таких ударов, какие нанесены были Минихом Бирону и ею самою брауншвейгцам. Сочинены и обнародованы были два манифеста, один за другим, в которых выставлялись права на престол Елизаветы, но эти манифесты только оправдывали, объясняли, но не ограждали фактически. Необходимо было избавиться от противной немецкой партии, враждебно властвовавшей до сих пор… И вот самые видные вожаки этой партии – Миних, Остерман, Менгден, Левенвольд и Головкин – с их конфидентами кто сослан, кто удален в надежные места тотчас же по воцарении Елизаветы. Вслед за тем или одновременно последовали милости, привязывавшие новых правительственных людей, посыпались ордена, небывалые прежде повышения и назначения, привилегии и пожалования. Был вызван и признан наследником престола сын старшей дочери Петра Великого Анны Петровны, Петр Федорович, который больше Елизаветы имел прав на престол, но который по молодости и незначительности своей не мог быть опасен тетке. И наконец, стали торопиться освятить вступление религиозным обрядом, осеняющим новую императрицу Божиим благословением.
Как только прошли в заботах и удовольствиях рождественские праздники и Святки, при дворе начали собираться к коронации. Царский выезд совершился 23 февраля, Великим постом, когда в Москве, более чем где-либо, дышится религиозным чувством.
Зима с 1741-го на 1742 год отличалась особенным постоянством; глубокие снега лежали ровной настилкой и представляли самый удобный путь. Благодаря прекрасной погоде поезд, состоявший из несметного числа колымаг, возков и кибиток, катился быстро, и 26-го числа назначен был торжественный въезд в Первопрестольную столицу, где в это время оканчивались обычные приготовления.
На рассвете торжественного дня грянули, как вестники великого дела, пушечные выстрелы на Красной площади, вслед за которыми раздался первый удар колокола с колокольни Ивана Великого. Этот удар подхватили другие сорок сороков, и несется по всей Москве ликующий и радостный гул.
Тысячные толпы со всех концов спешат к Тверским воротам – взглянуть на свою родную матушку-царицу, которую они все знали, которая не гнушалась, бывало, и сама участвовать в деревенских хороводах.
С полной, непритворной радостью встречала новую императрицу Москва, в которой русский дух живет везде: в каждом камне высоких стен, в каждой струе реки, в каждом облачке, несущемся над золотыми главами, в каждой нечесаной и чесаной голове обывателя.
Бывали и прежде торжественные встречи, но не было такой радостной и знаменательной. Долго Москва сиротела; грустную память оставила в ней по себе покойная Анна Иоанновна, потом уехавшая в Петербург, откуда доносились по временам тревожные слухи о принижении русских и невыносимой кичливости иноземцев, о кончине государыни, о регентстве курляндца и, наконец, о правлении молодой принцессы Анны Леопольдовны. Правительницу Москва почти вовсе не знала; она помнила ее только слабеньким, худеньким ребенком, грустным, прятавшимся при каждом шумном выражении или за юбки матери, строгой Катерины Ивановны, или за не менее суровую тетку Анну Иоанновну; а не зная, понятно, и жалеть не могла.
Нынешняя государыня – совсем иное дело: своя, кровная, русская, с русской речью, с русскою песнью, которую и слагала сама.
В девять часов утра экипаж Елизаветы Петровны в сопровождении многочисленной свиты, въехал в Тверскую слободу, где ожидала парадная карета, в которую пересела императрица, а свита устроилась и разместилась по заранее определенному церемониалу. Шествие началось между двумя рядами расставленных шпалерами войск и среди сгрудившейся массы народу, при звуках военной музыки и нескончаемых оглушительных криках.
В Успенском соборе императрица, приложившись к мощам святых угодников, встала на императорское место, а герцог Голштинский, Петр Федорович, занял Царицыно место. Позади обоих теснились иностранные послы и русские сановники, из числа которых выделялись новопожалованные лица: Алексей Григорьевич Разумовский, лейб-медик Лесток, граф Михаил Илларионович Воронцов, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Александр Иванович Шувалов, Петр Иванович Шувалов и сильно в последнее время постаревший московский градоначальник граф Семен Андреевич Салтыков.
Государыню приветствовал витиеватою речью новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, тот самый, который в должности епископа Вологодского два года назад сказал не менее витиеватую реплику по случаю венчания принцессы Анны и принца Антона.
Обойдя потом соборы Архангельский и Благовещенский, Елизавета в парадной карете направилась в приготовленный для нее зимний Яузский дворец, напутствуемая и сопровождаемая нерасходившимися народными массами.
У синодальных Триумфальных ворот, создания знаменитого в то время архитектора Бланка, императрицу встретили воспитанники Славяно-греко-латинской академии в эффектных белых одеждах с венками на головах и с лавровыми ветвями в руках, отменно пропевшие нарочно сочиненную для этого торжественного дня кантату:
Присне день красный
Воссияло ведро,
Милость России
Небеса прещедро
Давно желанну
Зрети показали.
Прошел Великий пост с прощением и говениями, строго соблюдаемыми тогда в Москве, совершилось коронование подряд со светлым праздником с обычными торжествами, с пожалованиями, милостями и наградами, миновались празднества с народными угощениями, ослепительными иллюминациями и фейерверками, настало будничное время, – а двор не готовился к отъезду, и даже не было речи о переезде в Петербург.
Прошел слух о перенесении навсегда столицы в Москву, и москвичи возликовали. Но к радости всегда примешивается горе: вместе с криками восторга послышались жалобы и ропот. Громадный наплыв всякого сброда по случаю коронации, а в особенности скопление войска, вызвал значительное увеличение беспорядков. Во всех харчевнях и постоялых дворах по целым ночам бражничали солдаты, безобразничавшие не менее, если не более, чем в Петербурге, уверенные, что все им благополучно сойдет с рук; каждую ночь совершались какие-нибудь преступления, убийства, грабежи, часто слышались выстрелы и крики о помощи; не только в отдаленных, но даже и в центральных улицах бывало небезопасно выходить из домов в сумерки. Все громче и громче раздавался ропот; все жаловались на бездействие полиции, но что она могла сделать при ничтожном составе, усиленном только пятьюдесятью драгунами, когда тысячи своевольных, разнузданных солдат считали себя полными хозяевами всякого достояния? Нередко полицейские обходы задерживали буянивших и вели их в кутузки, но на пути бродившие шайки нападали на полицейских, избивали их и освобождали арестантов. Гуляли лейб-кампанцы, гуляли гвардейцы, а за ними и солдаты армейских напольных полков, ободряемые несмелостью еще не установившейся и нетвердой власти. Солдаты ходили по домам всех особ, власть имеющих, с поздравлениями и получали обильно на водку, отчасти добровольно, отчасти из боязни грабежа, но чаще всего солдаты шатались к французскому посланнику маркизу Шетарди, которого считали самым искренним другом императрицы Елизаветы, называли отцом родным, высказывали свои симпатии к Франции и даже просили его скорее привезти в Россию французскую принцессу для супружества за герцога Голштинского, будущего наследника русского престола.
V
Ясное утро последних чисел мая; в растворенное окно кабинета Елизаветы Петровны широкой волной вливается свежий, благоухающий воздух; легкий ветерок ворвется в окно, пошелестит разбросанными по письменному столу бумагами, пробежит по лицу и открытым плечам сидящей у стола императрицы, отлетит в сторону, приподнимет кончики какой-то наколки на Мавре Егоровне Шепелевой, занятой разборкой в корзине, поиграет ими и улетит снова в то же окно для нового осмотра других лиц и других мест.
Елизавете Петровне тридцать три года. Роскошная, в ярком блеске красота ее напоминает красоту вполне развившейся розы. Полнота форм, обезобразившая ее впоследствии, теперь сохраняла еще легкость и упругость молодости, кипевшей жизнью и жаждавшей наслаждений. Государыня казалась задумчивой или утомленной. Правильного очертания голова несколько запрокинулась назад, выставляя очаровательную белую и полную шею; полузакрытые голубые глаза как будто тонули в пространстве, вызывая в памяти приятные грезы или создавая новые мечты.
Мавра Егоровна, углубленная в свое занятие, не нарушала молчания; по временам ее проницательные, умные взгляды окидывали государыню, и тогда какая-то неопределенная усмешка проскальзывала по губам, но такая быстрая, что уловить ее и подметить выражение не было возможности.
Мавра Егоровна Шепелева состояла фрейлиной старшей дочери Петра, Анны Петровны, с которою и жила в Голштинии, но всегда пользовалась особенным расположением, дружбою и полною доверенностью Елизаветы Петровны. Беспредельною откровенностью и доверчивостью дышит вся переписка Шепелевой с цесаревной Елизаветой, когда первая уехала вместе с Анной Петровной в Киль.
После смерти герцогини Голштинской Мавра Егоровна воротилась в Петербург и с тех пор постоянно находилась при Елизавете в качестве верной рабы и холопки, дочери и «кузыни», как она выражалась в своих письмах
.
Послышалось три удара в дверь кабинета, и вслед за тем вошел граф Лесток, лейб-медик, верный слуга и любимец, один из тех, которые имели право входить в кабинет государыни во всякое время без доклада. Лесток принадлежал к немалому числу смелых авантюристов, нахлынувших в Россию во время Петра Великого. Игрок и кутила, находчивый и неразборчивый в средствах, он после разных треволнений пристроился лейб-медиком при дворе цесаревны Елизаветы и приобрел ее доверенность.
Лейб-медик вошел самоуверенно, с видом обычного посетителя и домашнего человека, перед которым ничего нет скрытного. Развязно подошел он к Елизавете Петровне, взял ее руку и ощупал пульс. Государыня приподняла голову и молча взглядом ожидала совета.
– Хорошо, ваше величество, очень хорошо. Если б все мои пациентки пользовались таким же здоровьем, так мне пришлось бы медицину отложить в сторону.
– Однако, граф, я чувствую себя не совсем здоровой – какое-то расслабление и утомление, – лениво протянула Елизавета Петровна.
– Нервы немножко возбуждены, государыня, пульс потверже, чем бы следовало, но это ничего – кровь кипит, горячий темперамент… май… воздух такой… могу посоветовать только одно: быть поумереннее.
– Лекарства, граф, никакого не нужно?
– Решительно никакого. Как медик, я совершенно доволен вашим величеством, но как друг, озабоченный вашей безопасностью, я встревожен весьма важным замыслом…