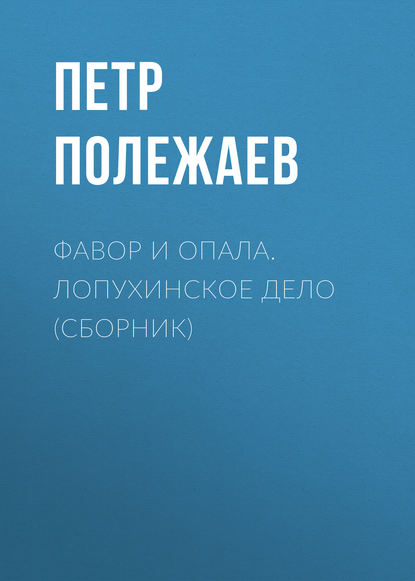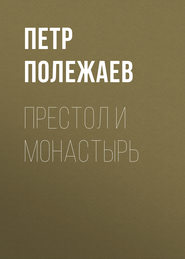По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Грюнштейн представлял собою резкий тип того вида авантюристов, которые нахлынули к нам в начале XVIII века, обогащались благодаря русской простоте и нахально глумились над ней.
К этому-то Грюнштейну, к его находчивости, и обратился в наступившие трудные минуты граф Арман.
– Верно, ты знаешь образ мыслей всех придворных служителей? – спросил он явившегося по его приказанию Грюнштейна.
– А как же мне не знать, ваше сиятельство, когда я читаю в душах их, как у себя на ладони? – отвечал, нисколько не стесняясь лганьем, еврей-адъютант.
– Я так и думал. Не замечал ли ты чего-нибудь сомнительного или подозрительного в их поведении? По моему мнению, они все преданы этой принцессе Анне Леопольдовне, которая их набаловала по своей глупости.
– Совершенно преданы, ваше сиятельство, до конца ногтей преданы, – вторил Грюнштейн, все еще не догадываясь, чего желает могущественный граф, но, во всяком случае, смело поддерживая его мнение.
– Что именно ты знаешь? Что слышал? Какие у них разговоры? – продолжал спрашивать граф.
Как ни был находчив Грюнштейн, но вопрос поставил его в тупик; вдруг он никак не мог придумать подходящей истории, а поэтому и нашел более удобным уклониться от ответа, подставив вместо себя жену:
– Я так занят службой, милостивый граф, что не имею свободного времени долго разговаривать с ними, но вот жена моя знает лучше, и если вы позволите, то она вам лично передаст.
– Хорошо, пришлите ее ко мне, а мне теперь только скажите: нет ли, как я подозреваю, недовольных в самых приближенных охранителях императрицы, в ее лейб-кампанцах?
Грюнштейн задумался было перед той ответственностью, какую может понести от своих товарищей, если откроется его донос, но тотчас же и ободрился тем, что, во-первых, никто об этом не может узнать, а во-вторых, тем, что в этом обстоятельстве представился лучший способ избавиться от вредных для себя лиц. И вот по его рассказам оказалось, что весьма многие лейб-кампанцы недовольны, ропщут на настоящее положение и что-то замышляют.
Граф Арман от удовольствия прищелкнул пальцами:
– О подробностях мы еще переговорим с тобой, почтеннейший, а теперь пришли ко мне свою жену, которая, верно, слышала разговоры лейб-кампанцев.
Через час приехала в дом Лестока, находившийся недалеко от Пяти Углов, где ныне пролегает Лештуков переулок, названный так, вероятно, в честь лейб-медика, сама супруга Грюнштейн, женщина средних лет, еще недурная собою, совершенно еврейского типа. Где и когда женился на ней предприимчивый авантюрист – никто не знал. Одни говорили, что будто она из богатого еврейского дома, бежала тихонько от родителей, которые поэтому лишили ее не только родительского благословения, навеки нерушимого, но и всякой материальной помощи; другие, напротив, рассказывали, что она сначала ходила по рукам знатных особ, а потом по милости их щедрот завела на свой счет игорный дом с отдельным секретным помещением, в котором и познакомился с нею Грюнштейн. Как бы то ни было, но почтенная дама бойкостью, развязностью и сообразительностью даже превосходила своего мужа. Она все видела, все знала, имела обширные знакомства и умела извлекать из этих знакомств всевозможную пользу.
С двух слов супруга Грюнштейна догадалась, чего желал граф, и вполне вошла во все его виды.
По ее рассказам, принявшим уже характер чистого доноса, все прежние придворные лакеи и камер-лакеи вздыхали о бывшей правительнице, милостивой государыне Анне Леопольдовне, и не прочь были содействовать к ее возвращению.
– Бездельники! Негодяи! – горячился с удовлетворительной естественностью граф. – От таких мерзавцев всего можно ожидать…
– Точно так, ваше сиятельство, это-то именно я и слышала в их разговорах промеж себя.
Затем из дальнейших переговоров обнаружилось, что некоторые из лейб-кампанцев, человек четырнадцать, высказывали крайнее неудовольствие на правительство, чернили всех знатных персон, а в особенности камергера Александра Ивановича Шувалова, лейб-медика Лестока и обер-шталмейстера Куракина, не ценивших будто бы их важных заслуг государству, и даже осмеливались осуждать безобразное поведение при дворе.
– Да это заговор, и заговор опасный! – решил не без удовольствия граф Арман.
– Заговор, ваше сиятельство, и каждый-то день они сочиняют этот заговор, ваша милость.
Таким образом составился донос о важном государственном заговоре, угрожавшем жизни государыни и некоторых первых сановников.
Чтобы придать этому заговору еще большее значение, а вместе с тем и из опасении обнаружения истины, граф Арман облек все дело таинственностью, рассказав о злых умыслах только государыне, Шувалову и Куракину, а прочим объяснив произведенные аресты лейб-кампанцев и придворных служителей незначительными будто бы проступками, ссорами, драками и неприличными выражениями. Наконец, чтоб лучше скрыть свое собственное участие, мнимых заговорщиков граф рассадил не по крепостным казематам, где они могли кому-нибудь да высказаться, а по подвалам Зимнего дворца, где они лишены были и света, и всякого сообщества.
Известно, что самым действенным средством для быстрого распространения какого-нибудь сведения служит сообщение этого сведения двум или трем, а иногда даже и одному специалисту в этом роде под видом тайны, по секрету и с просьбою не говорить никому.
Переданный на ухо секрет с поразительной быстротой пробегает тоже от уха к уху с многоразличными вариантами, прибавлениями, дополнениями, разъяснениями, и разрастается этот секрет, как снежный ком, до чудовищных размеров, до тех размеров, что, дойдя до первого автора, принимается им как нечто новое, ему совсем неизвестное.
Все придворные чины, не говоря уже о дамах, под страхом сделаться жертвою какой-то поголовной резни, проводили во дворце все ночи, прислушиваясь к каждому стуку.
Бедный животолюбивый князь Александр Борисович Куракин не только перестал совсем ночевать дома, а даже старался переменять каждый день место своего ночлега у светских приятелей. Какой был прекрасный случай выказать свое остроумие, с такой ядовитостью громившее несколько лет назад Артемия Петровича Волынского и других политических соперников, и этот случай пропал даром – остроумие Александра Борисовича оледенело. Во дворце у всех входов, во всех комнатах стояли часовые, которые получали прибавку к жалованью за ночные караулы, каждый по десяти рублей за каждый день.
Императрица не менее других разделяла этот страх, и, может быть, даже более.
Граф Арман знал впечатлительную природу Елизаветы Петровны, изучил ее и сумел обставить заговор самыми страшными картинами.
Не надеясь ни на кого, подозревая изменниками всех придворных служителей, государыня, естественно, подчинилась единственно бодрому человеку, графу Арману, которому, казалось, опасность придавала еще более энергии и самоуверенности.
– Мой добрый Лесток, – говорила Елизавета Петровна своей неизменной Мавре Егоровне, – как он хлопочет! Вот истинный друг, на которого могу положиться!
И Мавра Егоровна, получив должную инструкцию от своего мужа Петра Ивановича, а может быть, и по незнанию, не опровергала государыню.
Елизавета Петровна все ночи до полного рассвета проводила в обществе придворных и засыпала уже днем, когда пробудившаяся городская жизнь не допускала возможности тайных ночных предприятий. И нередко, среди одушевленных разговоров, которые из всех сил старались поддерживать окружающие, она вдруг умолкала, остановив неподвижный взгляд в пустом пространстве на невидимом для других предмете.
В таком постоянном нервном состоянии императрице было не до докладов.
Министры являлись и, безуспешно прождав долгие часы, уходили недопущенными, опять с теми же проектами.
А жизнь государства, как и жизнь каждого человека, шла все вперед, не останавливаясь, не откладывая вопросов до другого дня; накоплялись беспорядки, возникали смуты, общественный пульс колыхался неправильными ударами.
Следствие над преступными злодеями поручено было, конечно, единственному человеку, способному, не потерявшему головы, – Арману Лестоку, в помощь к которому назначили Александра Ивановича Шувалова как начальника Тайной канцелярии.
Лесток искусно повел дело, искусно до того, что никто из близких людей к государыне не подозревал его игры.
Небогатый умственными способностями и ослепленный страхом за императрицу, Александр Иванович менее всех мог обсудить хладнокровно истинное положение и более всех был склонен видеть и подозревать в каждой болтовне пьяного лакея или солдата серьезное покушение.
В подвалах Зимнего дома наскоро устроили пыточную, в которой несчастных поднимали на дыбу, секли кнутом, рвали в лоскутья тело и опаляли его огнем.
Несчастные под ударами винились в бывалых и небывалых винах, в оскорбительных словах о государыне, в безумных остротах насчет ее поведения и привычек, но никакие удары не могли выбить из них сознания в умысле на жизнь государыни, на низвержение ее правительства и возведения на его место Брауншвейгской фамилии. Все они каялись в симпатии к принцессе, в жалости к ней, даже в желании ее возвращения, но не было никакого проблеска мысли о возможности насильственного переворота.
Следствие протянулось на несколько месяцев – да и к чему было торопиться? Не скорое окончание, а бесконечное продолжение более было в интересах графа Армана.
Мало-помалу все стало приходить в прежний порядок; умы, освободившись от панического страха, стали успокаиваться и понемногу относиться к делу скептически; при разговорах о заговоре стали пробегать улыбки по оживленным лицам.
Обер-шталмейстер Александр Борисович опять стал ночевать дома, утопая в пуховой перине собственной постели, придворные собрания на всю ночь прекратились и начались обыкновенные занятия государыни с господами министрами.
С водворением спокойствия стала изменяться и роль графа Армана, что он и сам вскоре почувствовал. Правда, государыня обращалась с ним ласково, но временами, после доклада министров и в особенности после доклада Алексея Петровича Бестужева, в обращении ее с ним появлялись сдержанность и даже неудовольствие.
Граф Лесток начавшуюся перемену приписывал влиянию вице-канцлера и решился так или иначе покончить с ним. Два медведя в одной берлоге не уживаются.
XIV
Последние лучи заката играют золотом на вершинах деревьев, но внизу, в чаще дикого сада, в самом конце, где разделяются владения Лопухиных и Лопухинских дощатым забором из барочного леса с едва заметной калиткой посередине, уже совсем темно, там глубокие сумерки. Темно до того, что едва можно различить черты человека, прохаживающегося по природной аллее или, вернее, по широкой тропинке, взад и вперед вдоль забора мимо калитки. Прохаживается молодой Лопухин Иван Степанович. Иногда он останавливается, прислушивается, затаив дыхание, к стороне соседнего сада, где порою слышится шорох, но, видно, этот шорох нежеланный – шорох от птицы, запоздавшей на ночлег и зашелестевшей в сучках, или от какого-нибудь зверька, пробежавшего по своей надобности, не тот шорох, которого Иван Степанович ожидает с живым нетерпением. Затихнет шелест – и Иван Степанович снова зашагает на посту неровной поступью, сорвет с досады сучок, дерзко хлестнувший его по уху, и отбросит его в сторону, потом присядет на деревянной скамейке, сколоченной между двумя выбежавшими из ряда березками, и снова начинает отмеривать шаги.
Послышался шорох более явственный, слышно, будто захрустели сухие сучья под чьей-то осторожной и легкой ногой, едва слышно скрипнула калитка, и в ней показалась фигура девушки, Стени Лопухинской.
Прошел с лишком год, но в этот год не произошло никаких изменений в отношениях молодых людей. По-прежнему они виделись зимою реже в палатах Лопухиных, а летом чуть не каждый день в саду на обыкновенном месте у калитки. Но сами они много изменились. Иван Степанович, совершенно свободный от занятий, делил свою жизнь между бильярдными домами и свиданиями со Стеней, которую он любил по-прежнему; он пополнел за это время, от ночных оргий его лицо стало одутловато, манеры грубее и решительнее, в ласках более смелости, более требовательности, и если молодая девушка еще не погибла, то в этом она была обязана глубокой его любви, выросшей с детства, вместе с искренним к ней уважением. Стеня же, напротив, из здоровой, полной девушки сделалась болезненной и хрупкой. Правда, в последнюю зиму она вынесла тяжкую болезнь – воспаление легких от серьезной простуды, но не болезнь источила ее организм, сделала его восприимчивее, испортила характер, сделала его раздражительным, навела яркий ограниченный румянец на нежную, почти прозрачную кожу, не болезнь заставляла девушку то плакать по целым ночам, то испытывать жаркие волнения крови, не от болезни зажигались огоньком полуопущенные глаза. Девушка, видимо, боролась.
К этому-то Грюнштейну, к его находчивости, и обратился в наступившие трудные минуты граф Арман.
– Верно, ты знаешь образ мыслей всех придворных служителей? – спросил он явившегося по его приказанию Грюнштейна.
– А как же мне не знать, ваше сиятельство, когда я читаю в душах их, как у себя на ладони? – отвечал, нисколько не стесняясь лганьем, еврей-адъютант.
– Я так и думал. Не замечал ли ты чего-нибудь сомнительного или подозрительного в их поведении? По моему мнению, они все преданы этой принцессе Анне Леопольдовне, которая их набаловала по своей глупости.
– Совершенно преданы, ваше сиятельство, до конца ногтей преданы, – вторил Грюнштейн, все еще не догадываясь, чего желает могущественный граф, но, во всяком случае, смело поддерживая его мнение.
– Что именно ты знаешь? Что слышал? Какие у них разговоры? – продолжал спрашивать граф.
Как ни был находчив Грюнштейн, но вопрос поставил его в тупик; вдруг он никак не мог придумать подходящей истории, а поэтому и нашел более удобным уклониться от ответа, подставив вместо себя жену:
– Я так занят службой, милостивый граф, что не имею свободного времени долго разговаривать с ними, но вот жена моя знает лучше, и если вы позволите, то она вам лично передаст.
– Хорошо, пришлите ее ко мне, а мне теперь только скажите: нет ли, как я подозреваю, недовольных в самых приближенных охранителях императрицы, в ее лейб-кампанцах?
Грюнштейн задумался было перед той ответственностью, какую может понести от своих товарищей, если откроется его донос, но тотчас же и ободрился тем, что, во-первых, никто об этом не может узнать, а во-вторых, тем, что в этом обстоятельстве представился лучший способ избавиться от вредных для себя лиц. И вот по его рассказам оказалось, что весьма многие лейб-кампанцы недовольны, ропщут на настоящее положение и что-то замышляют.
Граф Арман от удовольствия прищелкнул пальцами:
– О подробностях мы еще переговорим с тобой, почтеннейший, а теперь пришли ко мне свою жену, которая, верно, слышала разговоры лейб-кампанцев.
Через час приехала в дом Лестока, находившийся недалеко от Пяти Углов, где ныне пролегает Лештуков переулок, названный так, вероятно, в честь лейб-медика, сама супруга Грюнштейн, женщина средних лет, еще недурная собою, совершенно еврейского типа. Где и когда женился на ней предприимчивый авантюрист – никто не знал. Одни говорили, что будто она из богатого еврейского дома, бежала тихонько от родителей, которые поэтому лишили ее не только родительского благословения, навеки нерушимого, но и всякой материальной помощи; другие, напротив, рассказывали, что она сначала ходила по рукам знатных особ, а потом по милости их щедрот завела на свой счет игорный дом с отдельным секретным помещением, в котором и познакомился с нею Грюнштейн. Как бы то ни было, но почтенная дама бойкостью, развязностью и сообразительностью даже превосходила своего мужа. Она все видела, все знала, имела обширные знакомства и умела извлекать из этих знакомств всевозможную пользу.
С двух слов супруга Грюнштейна догадалась, чего желал граф, и вполне вошла во все его виды.
По ее рассказам, принявшим уже характер чистого доноса, все прежние придворные лакеи и камер-лакеи вздыхали о бывшей правительнице, милостивой государыне Анне Леопольдовне, и не прочь были содействовать к ее возвращению.
– Бездельники! Негодяи! – горячился с удовлетворительной естественностью граф. – От таких мерзавцев всего можно ожидать…
– Точно так, ваше сиятельство, это-то именно я и слышала в их разговорах промеж себя.
Затем из дальнейших переговоров обнаружилось, что некоторые из лейб-кампанцев, человек четырнадцать, высказывали крайнее неудовольствие на правительство, чернили всех знатных персон, а в особенности камергера Александра Ивановича Шувалова, лейб-медика Лестока и обер-шталмейстера Куракина, не ценивших будто бы их важных заслуг государству, и даже осмеливались осуждать безобразное поведение при дворе.
– Да это заговор, и заговор опасный! – решил не без удовольствия граф Арман.
– Заговор, ваше сиятельство, и каждый-то день они сочиняют этот заговор, ваша милость.
Таким образом составился донос о важном государственном заговоре, угрожавшем жизни государыни и некоторых первых сановников.
Чтобы придать этому заговору еще большее значение, а вместе с тем и из опасении обнаружения истины, граф Арман облек все дело таинственностью, рассказав о злых умыслах только государыне, Шувалову и Куракину, а прочим объяснив произведенные аресты лейб-кампанцев и придворных служителей незначительными будто бы проступками, ссорами, драками и неприличными выражениями. Наконец, чтоб лучше скрыть свое собственное участие, мнимых заговорщиков граф рассадил не по крепостным казематам, где они могли кому-нибудь да высказаться, а по подвалам Зимнего дворца, где они лишены были и света, и всякого сообщества.
Известно, что самым действенным средством для быстрого распространения какого-нибудь сведения служит сообщение этого сведения двум или трем, а иногда даже и одному специалисту в этом роде под видом тайны, по секрету и с просьбою не говорить никому.
Переданный на ухо секрет с поразительной быстротой пробегает тоже от уха к уху с многоразличными вариантами, прибавлениями, дополнениями, разъяснениями, и разрастается этот секрет, как снежный ком, до чудовищных размеров, до тех размеров, что, дойдя до первого автора, принимается им как нечто новое, ему совсем неизвестное.
Все придворные чины, не говоря уже о дамах, под страхом сделаться жертвою какой-то поголовной резни, проводили во дворце все ночи, прислушиваясь к каждому стуку.
Бедный животолюбивый князь Александр Борисович Куракин не только перестал совсем ночевать дома, а даже старался переменять каждый день место своего ночлега у светских приятелей. Какой был прекрасный случай выказать свое остроумие, с такой ядовитостью громившее несколько лет назад Артемия Петровича Волынского и других политических соперников, и этот случай пропал даром – остроумие Александра Борисовича оледенело. Во дворце у всех входов, во всех комнатах стояли часовые, которые получали прибавку к жалованью за ночные караулы, каждый по десяти рублей за каждый день.
Императрица не менее других разделяла этот страх, и, может быть, даже более.
Граф Арман знал впечатлительную природу Елизаветы Петровны, изучил ее и сумел обставить заговор самыми страшными картинами.
Не надеясь ни на кого, подозревая изменниками всех придворных служителей, государыня, естественно, подчинилась единственно бодрому человеку, графу Арману, которому, казалось, опасность придавала еще более энергии и самоуверенности.
– Мой добрый Лесток, – говорила Елизавета Петровна своей неизменной Мавре Егоровне, – как он хлопочет! Вот истинный друг, на которого могу положиться!
И Мавра Егоровна, получив должную инструкцию от своего мужа Петра Ивановича, а может быть, и по незнанию, не опровергала государыню.
Елизавета Петровна все ночи до полного рассвета проводила в обществе придворных и засыпала уже днем, когда пробудившаяся городская жизнь не допускала возможности тайных ночных предприятий. И нередко, среди одушевленных разговоров, которые из всех сил старались поддерживать окружающие, она вдруг умолкала, остановив неподвижный взгляд в пустом пространстве на невидимом для других предмете.
В таком постоянном нервном состоянии императрице было не до докладов.
Министры являлись и, безуспешно прождав долгие часы, уходили недопущенными, опять с теми же проектами.
А жизнь государства, как и жизнь каждого человека, шла все вперед, не останавливаясь, не откладывая вопросов до другого дня; накоплялись беспорядки, возникали смуты, общественный пульс колыхался неправильными ударами.
Следствие над преступными злодеями поручено было, конечно, единственному человеку, способному, не потерявшему головы, – Арману Лестоку, в помощь к которому назначили Александра Ивановича Шувалова как начальника Тайной канцелярии.
Лесток искусно повел дело, искусно до того, что никто из близких людей к государыне не подозревал его игры.
Небогатый умственными способностями и ослепленный страхом за императрицу, Александр Иванович менее всех мог обсудить хладнокровно истинное положение и более всех был склонен видеть и подозревать в каждой болтовне пьяного лакея или солдата серьезное покушение.
В подвалах Зимнего дома наскоро устроили пыточную, в которой несчастных поднимали на дыбу, секли кнутом, рвали в лоскутья тело и опаляли его огнем.
Несчастные под ударами винились в бывалых и небывалых винах, в оскорбительных словах о государыне, в безумных остротах насчет ее поведения и привычек, но никакие удары не могли выбить из них сознания в умысле на жизнь государыни, на низвержение ее правительства и возведения на его место Брауншвейгской фамилии. Все они каялись в симпатии к принцессе, в жалости к ней, даже в желании ее возвращения, но не было никакого проблеска мысли о возможности насильственного переворота.
Следствие протянулось на несколько месяцев – да и к чему было торопиться? Не скорое окончание, а бесконечное продолжение более было в интересах графа Армана.
Мало-помалу все стало приходить в прежний порядок; умы, освободившись от панического страха, стали успокаиваться и понемногу относиться к делу скептически; при разговорах о заговоре стали пробегать улыбки по оживленным лицам.
Обер-шталмейстер Александр Борисович опять стал ночевать дома, утопая в пуховой перине собственной постели, придворные собрания на всю ночь прекратились и начались обыкновенные занятия государыни с господами министрами.
С водворением спокойствия стала изменяться и роль графа Армана, что он и сам вскоре почувствовал. Правда, государыня обращалась с ним ласково, но временами, после доклада министров и в особенности после доклада Алексея Петровича Бестужева, в обращении ее с ним появлялись сдержанность и даже неудовольствие.
Граф Лесток начавшуюся перемену приписывал влиянию вице-канцлера и решился так или иначе покончить с ним. Два медведя в одной берлоге не уживаются.
XIV
Последние лучи заката играют золотом на вершинах деревьев, но внизу, в чаще дикого сада, в самом конце, где разделяются владения Лопухиных и Лопухинских дощатым забором из барочного леса с едва заметной калиткой посередине, уже совсем темно, там глубокие сумерки. Темно до того, что едва можно различить черты человека, прохаживающегося по природной аллее или, вернее, по широкой тропинке, взад и вперед вдоль забора мимо калитки. Прохаживается молодой Лопухин Иван Степанович. Иногда он останавливается, прислушивается, затаив дыхание, к стороне соседнего сада, где порою слышится шорох, но, видно, этот шорох нежеланный – шорох от птицы, запоздавшей на ночлег и зашелестевшей в сучках, или от какого-нибудь зверька, пробежавшего по своей надобности, не тот шорох, которого Иван Степанович ожидает с живым нетерпением. Затихнет шелест – и Иван Степанович снова зашагает на посту неровной поступью, сорвет с досады сучок, дерзко хлестнувший его по уху, и отбросит его в сторону, потом присядет на деревянной скамейке, сколоченной между двумя выбежавшими из ряда березками, и снова начинает отмеривать шаги.
Послышался шорох более явственный, слышно, будто захрустели сухие сучья под чьей-то осторожной и легкой ногой, едва слышно скрипнула калитка, и в ней показалась фигура девушки, Стени Лопухинской.
Прошел с лишком год, но в этот год не произошло никаких изменений в отношениях молодых людей. По-прежнему они виделись зимою реже в палатах Лопухиных, а летом чуть не каждый день в саду на обыкновенном месте у калитки. Но сами они много изменились. Иван Степанович, совершенно свободный от занятий, делил свою жизнь между бильярдными домами и свиданиями со Стеней, которую он любил по-прежнему; он пополнел за это время, от ночных оргий его лицо стало одутловато, манеры грубее и решительнее, в ласках более смелости, более требовательности, и если молодая девушка еще не погибла, то в этом она была обязана глубокой его любви, выросшей с детства, вместе с искренним к ней уважением. Стеня же, напротив, из здоровой, полной девушки сделалась болезненной и хрупкой. Правда, в последнюю зиму она вынесла тяжкую болезнь – воспаление легких от серьезной простуды, но не болезнь источила ее организм, сделала его восприимчивее, испортила характер, сделала его раздражительным, навела яркий ограниченный румянец на нежную, почти прозрачную кожу, не болезнь заставляла девушку то плакать по целым ночам, то испытывать жаркие волнения крови, не от болезни зажигались огоньком полуопущенные глаза. Девушка, видимо, боролась.