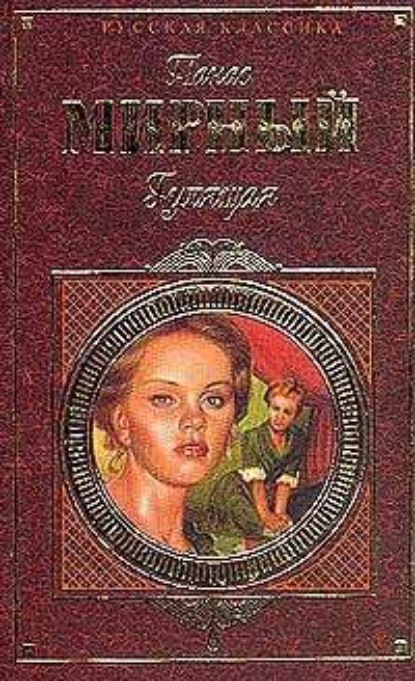По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гулящая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Горька ты и трудна, крестьянская доля! Утренними туманами обвита, дождями полита, потом и кровью омыта! Тяжелая ноша согнула тебя, хлебопашца: податями ты опутан, тяжелым трудом измучен, землей-матушкой обделен!.. А все же каждую весну сердце радуется, оживляет его обманщица-надежда…
Только сердце Приськи не обрадовалось весне – скоро Христя уйдет в город, внаймы. Зачем ей теперь эта весна, если не с кем встречать ее? Зачем это тепло, ясное солнышко, когда оно уже не согревает охладевшее сердце? Зачем эти зеленые поля, густо заросшие грядки, если по ним не ходить, урожая с них не собирать? Одно у нее было сокровище, для которого она день-деньской хлопотала, рук не покладала… Теперь и его отняли у нее! Пришли, силой взяли… и поведут ее, и отдадут чужим людям на тяжкий подневольный труд, на понукание горькое и обидное, на брань, на вечные укоры… За что? За какую провинность? За что такая напасть?
Не радовалась и Христя, когда она на рассвете, попрощавшись с матерью, с селом, неторопливо шла по широкому шляху в город. Позади – плач и горе матери, впереди – неведомая доля прислужницы. Что она сулит? Где уж там радостного ждать? Не от хорошей жизни уходят люди к чужим работать на них. Клонится все ниже и ниже голова Христи, все чаще катятся слезы из ее глаз. Христя, не замечая их, нехотя плетется дальше.
Не одна шла она. Сотского Кирила прислали за ней из волости, чтобы доставил ее на место. Это Грыцько Супруненко постарался.
Кирило – уже немолодой человек, невысокого роста, плотный, круглолицый, с рыжими усами и густыми бровями, из-под которых добродушно глядели карие глаза. Христя его знает давно. Он был бессменно сотским, сколько она его помнит. Другие год отслужат и уже отпрашиваются, а он – нет. Выйдя на волю из дворовых крестьян, без надела, он кое-как обзавелся хатой, приписался к Марьяновскому обществу и стал сотским, так и до сего дня был им. От общества на его долю перепадало столько-то ржи, пшеницы, ячменя, гречихи. Хоть и невелики были эти подачки, но он никогда не жаловался. Зато жена его Оришка, старая ворчливая баба, не раз сетовала на общество.
Все знали Оришку как ведьму и поэтому понемногу увеличивали жалованье сотскому Кириле, опасаясь, как бы она не причинила беды. Кирило жил больше в волостном правлении, чем дома. Домой он забегал только в случае крайней необходимости. Не выносил он ссор, а Оришка любила повздорить. Он убегал от нее в канцелярию или к кому-нибудь из соседей. Христя часто видела его в своей хате. Когда у ее отца случались какие-нибудь неприятности, он прежде всего искал Кирилу, чтобы поделиться с ним. Жалуется, бывало, на злую долю, на дурных людей, а Кирило его утешает. «Все это глупости, помяни о правде святой, – говорит Кирило. – Хоть и горя у нас немало, донимают беды и лиходеи, но правда на нашей стороне. Не горюй, брат! Помрут наши обидчики, как и мы, грешные… Помрут и ничего из награбленного добра с собой не возьмут. Всех нас сыра-земля сравняет».
Тихие речи сотского, его искренность, разумные доводы умеряли скорбь Филиппа, не раз приносили успокоение его встревоженному сердцу.
Отчего же теперь Кирило молчит? Почему не утешает дочку своего несчастного друга?
Он еле поспевает за ней – так она вдруг заторопилась.
– Легче, дочка, – сказал он. – Не спеши так. День большой, да и путь немалый, уморимся. Лишь бы к вечеру добраться. Пожалей мои старые ноги, да и свои побереги – им еще долго придется топтать землю.
Христя уменьшила шаг. Поравнявшись с ней, Кирило вытащил трубку и начал ее набивать. Шли молча. Снег сильно таял, дорогу заливала вода, и местами ноги вязли в жидком месиве. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее грело оно, веселые блики играли на обнажившихся курганах и талой воде. Становилось жарко. Пот выступил на лбу сотского. Сдвинув шапку на затылок и распустив полы сермяги, он плелся вслед за Христей, размахивая длинной палкой, стараясь ступать по сухим островкам среди луж. Трубка его дымилась, оставляя позади сизый след в чистом, прозрачном воздухе. Христя шагала прямо по дороге.
– Ну, сегодня снегу убудет, – сказал Кирило, чтобы завязать разговор. – Гляди, какая каша стала от воды! Хоть бы до города добраться! Верно, там, на гнилом переходе, вода теперь по колено. Чего доброго, и не пройдем. И утонуть можно, – закончил Кирило, потеряв надежду услышать от Христи хоть слово.
– Кабы! – откликнулась она.
– Что кабы? – спросил Кирило. – Утонуть?
– Ну да! – сказала Христя, вытирая слезы рукавом.
– Пусть Бог милует! Зачем торопиться? Как ни бывает горько иногда, а все же лучше жить… Тебе, молодой, не к лицу такое говорить. Матери плохо – одна она осталась, помочь ей некому, – а тебе что? Молодая, здоровая… Разве тебя работа страшит? Да в селе работа в десять раз тяжелее, чем в городе. Какая там работа? В поле тебе там не ходить, не жать, снопов не вязать. Домашняя работа. Как говорят там: помыть, подать – и ложись спать… Не горюй, лишь бы здоровье, а работа – что? Я сам, слоняясь по свету, служил в городе и хорошо знаю. Кабы не своя хата и служба обществу, я бы и сейчас в город ушел. Ей-Богу, правду говорю. Там уже то хорошо, что людей много. Хоть и чужие, так ты на это не смотри. Среди чужих иногда лучше, чем у своих: ты их не знаешь, они тебя не знают, допекать не станут. Не то что у нас в селе!
Христя уже не в первый раз слышит рассказы о городской жизни. Марина Кучерявенко, ее подруга, третий год служит в городе. Приходила она как-то на праздник в село и говорила, что лучшей службы нет, как в городе: и работы не много, и не тяжелая она, и люди там обходительные, и платят хорошо. За два года Марина скопила целый сундук всякого добра: и платков, и рушников, и юбок, и плахт, еще и тулупчик хороший. В селе за десять лет столько не наживешь. Отчего же мать так плачет? Отчего так убивается? Целая неделя прошла после суда, и всю эту неделю день и ночь мать не переставала плакать, рассказывая ей про горькую подневольную службу у чужих людей. Никто тебе и слова доброго не скажет, если обидят – никто не заступится; больна ли ты – не спросят; а работать заставляют без отдыха. Нанялся – продался!.. И с такой безнадежностью и отчаянием рассказывала все это мать, так горько поливала каждое слово горючими слезами! А Кирило вот совсем другое поет… и Марина тоже другое говорила… Где же правда?… И мать смолоду служила и должна все это знать… Разве тогда хуже было, жилось тяжелее?… Как в тумане Христя, словно бродит в пустыне темной осенней ночью… А может – как у кого: у одного хорошо, а у другого плохо. Ну, а у Загнибиды?
– Дядька! – окликнула она сотского. – Вы знаете Загнибиду? Что это за человек? Какая у него работа?
– Загнибиду? Ххе!.. – вынув изо рта трубку и сплюнув, сказал Кирило. – Загнибиду? Как же мне его не знать, если он в нашей волости писарем был?! Хорошо знаю. Еще отца его немного знавал. Пузатый такой – головой служил… И лютый, спаси Боже! За недоимки людей, бывало, раздевал догола и на мороз выводил, да еще водой обливал. Ну да и сын его – цаца. Этот, правда, голых на мороз не выводил, зато драл с живого и с мертвого. Пьявка – не человек был! Ну, а теперь – не знаю, может, и переменился. Люди рассказывали, что он очень рад, когда встречает кого-нибудь из нашего села – и напоит, и накормит… Понятно, не нас, голытьбу, а богачей… – добавил Кирило, делая ударение то на одном слове, то на другом.
– Ну, и служба, – начал снова Кирило, – какая же у него служба? Оставив должность писаря, он стал лавочником или прасолом… бес его знает… Вот посмотришь, какая у него работа. Жена у него, говорят, неусыпная хозяйка и добрый человек, а впрочем, я с ней дела не имел. Детей нет и не было. Кому только все добро достанется?… А добра много… Разве промотает его – говорят, выпивает сильно. Да не верь этому: мало ли что говорят. Верь только своим глазам. Вот поработаешь у него, так узнаешь, какой это Загнибида. Крутой был, пока в писарях служил, – без рубля к нему за паспортом и не ходи. Вы, говорит, на заработки уходите деньги загребать, а тут с голоду подыхай… клади рубль! Ну и давали, да еще и в шинок угощать водили. Такой он был, а теперь не знаю.
Христя глубоко вздохнула.
– А ты не вздыхай! Чего тебе? Нехорошо будет – не только света, что в окне, за окном больше. Лишь бы ты была старательной, а хорошей слугой все дорожат. Это тебе не село. А вот и Гнилой переход! – И Кирило стал спускаться с горы в балку, на дне которой протекал маленький ручеек. – Ну, это еще не беда. Воды немного, можно перескочить через этот ручеек! – крикнул он, разбегаясь для прыжка. Но только Кирило опустился на противоположный берег, как сразу и увяз по пояс. – Вот ловушка! – кряхтел он, выкарабкиваясь. – Черт бы его побрал, полны сапоги воды.
Христя еще стояла по ту сторону ручья, когда Кирило провалился в снег, и вся затряслась. Ей казалось, что он тонет. Когда же он выбрался, весь мокрый, ее разобрал смех.
– Хотели, дядька, по-молодецки? – улыбнувшись, спросила Христя.
– А вышло чертовски! – ответил Кирило, идя к мостику, чтобы переобуться. Вода чавкала в его сапогах.
Христя тоже взошла на мостик и, опершись на перила, ждала, пока Кирило переобуется.
– Вот тебе перешел и не замочился! – сердился Кирило. – И понесла же меня нелегкая! Думал – бугорок, откуда там вода возьмется? А она вверху присыпана снегом, а внизу воды – дна не достанешь…
– Вы бы, дядька, немного посидели, портянки просохли бы, – сказала Христя, – а то не годится мокрыми ноги обвертывать.
– Как это? – крикнул Кирило.
– Как бы чего не случилось.
– А случится – что же поделаешь? Все равно умирать придется.
Христя умолкла. Молчал и Кирило. Переобувшись, он встал, поглядел на ноги, надел сермягу и, взяв палку, вновь побрел к шляху.
Шли молча. Христя не решалась первая начать разговор. Кирило часто поглядывал на свои сапоги, словно хотел удостовериться, что они еще целы, сопел, сплевывал.
– Тут стой! – сказал он, когда показались Осипенковы хутора. – Отдохнем, подкрепимся. Половину дороги прошли – хватит!
Кирило повернул к хуторам. Христя остановилась, не зная, следовать ли ей за сотским, или подождать его у дороги.
– А ты чего стала? Иди. Люди добрые, не выгонят из хаты.
Две огромные собаки бросились на них из-за сарая. Тотчас же из хаты выбежала высокая, стройная молодица.
– Вон, проклятые! – крикнула она, запустив в собак снежным комом. Красивое лицо молодицы слегка зарумянилось, ее бархатистые глаза на миг сверкнули.
– Здорово, Марья! Ты ли это? – спросил Кирило. Молодица улыбнулась.
– Да я же! – вздохнув, ответила она.
– А Сидор дома? – спросил Кирило.
– Нет его. В город уехал. Одна мать… пошла браниться да никак не уймется… Идите в хату.
В хате они застали дородную старуху. Широкое лицо ее испещрено глубокими морщинами; губы толстые, отвисшие; нос сизый, с черной бородавкой на конце; злые зеленые глаза метали искры из-под насупленных бровей.
Христе она показалась ведьмой.
– Здорово, Явдоха! – сказал Кирило.
Явдоха, сидевшая на лавке, только повела глазами в ответ.
– Как живется-можется?
– Эх, живется… – заворчала старуха. Голос ее звучал, как надтреснутый колокол, и Христя даже вздрогнула. – Никак не живется! Поехал Сидор из дому, а мы и сложили ручки, – ворчала она, бросая злые взгляды на Марью.
Лицо Марьи сильно побледнело, а глаза блестели. Она неприязненно посмотрела на Явдоху, тряхнула головой и молча вышла из хаты.
– Так всегда, – не унималась старуха. – Хоть бы тебе слово сказала: будто сроду немая или у нее, прости Господи, язык отнялся… А зайдут чужие в хату, она хи-хи и ха-ха; целый день смеялась бы с ними. А для матери слова не найдет. Ну и взял Сидор жену! Выбрал себе пару! Говорила ему: не бери городских, это проклятущий народ!.. Там у них в городе роскошь, воля, не боятся никого… Вот так и привыкли без дела сидеть, по семь воскресений на одной неделе справлять! А приедет на хозяйство – лишь бы было есть да пить, а сама, черт ее батька, не позаботится… Где уж от прислуги добра ждать? Привыкнет о чужом не беспокоиться, да так и со своим. Говорила сыну: не бери ее, Сидор! Возьми лучше Приську Гаманенко, она тебе будет женой, а мне – невесткой… Придурковатый какой-то, прости Господи!.. Говорит, если не ее, так мне никого не надо… объегорила, видно, дурня; опоила колдовским зельем, городская шлюха!.. Не послушался. А теперь бейся с нею, тяни лямку. Он же никогда дома не сидит: то сюда, то туда слоняется, не видит, что матери достается!.. Вот беда на меня свалилась! Надеялась отдохнуть на старости лет – вот и отдохнула, – закончила она, тяжело сопя.
Только сердце Приськи не обрадовалось весне – скоро Христя уйдет в город, внаймы. Зачем ей теперь эта весна, если не с кем встречать ее? Зачем это тепло, ясное солнышко, когда оно уже не согревает охладевшее сердце? Зачем эти зеленые поля, густо заросшие грядки, если по ним не ходить, урожая с них не собирать? Одно у нее было сокровище, для которого она день-деньской хлопотала, рук не покладала… Теперь и его отняли у нее! Пришли, силой взяли… и поведут ее, и отдадут чужим людям на тяжкий подневольный труд, на понукание горькое и обидное, на брань, на вечные укоры… За что? За какую провинность? За что такая напасть?
Не радовалась и Христя, когда она на рассвете, попрощавшись с матерью, с селом, неторопливо шла по широкому шляху в город. Позади – плач и горе матери, впереди – неведомая доля прислужницы. Что она сулит? Где уж там радостного ждать? Не от хорошей жизни уходят люди к чужим работать на них. Клонится все ниже и ниже голова Христи, все чаще катятся слезы из ее глаз. Христя, не замечая их, нехотя плетется дальше.
Не одна шла она. Сотского Кирила прислали за ней из волости, чтобы доставил ее на место. Это Грыцько Супруненко постарался.
Кирило – уже немолодой человек, невысокого роста, плотный, круглолицый, с рыжими усами и густыми бровями, из-под которых добродушно глядели карие глаза. Христя его знает давно. Он был бессменно сотским, сколько она его помнит. Другие год отслужат и уже отпрашиваются, а он – нет. Выйдя на волю из дворовых крестьян, без надела, он кое-как обзавелся хатой, приписался к Марьяновскому обществу и стал сотским, так и до сего дня был им. От общества на его долю перепадало столько-то ржи, пшеницы, ячменя, гречихи. Хоть и невелики были эти подачки, но он никогда не жаловался. Зато жена его Оришка, старая ворчливая баба, не раз сетовала на общество.
Все знали Оришку как ведьму и поэтому понемногу увеличивали жалованье сотскому Кириле, опасаясь, как бы она не причинила беды. Кирило жил больше в волостном правлении, чем дома. Домой он забегал только в случае крайней необходимости. Не выносил он ссор, а Оришка любила повздорить. Он убегал от нее в канцелярию или к кому-нибудь из соседей. Христя часто видела его в своей хате. Когда у ее отца случались какие-нибудь неприятности, он прежде всего искал Кирилу, чтобы поделиться с ним. Жалуется, бывало, на злую долю, на дурных людей, а Кирило его утешает. «Все это глупости, помяни о правде святой, – говорит Кирило. – Хоть и горя у нас немало, донимают беды и лиходеи, но правда на нашей стороне. Не горюй, брат! Помрут наши обидчики, как и мы, грешные… Помрут и ничего из награбленного добра с собой не возьмут. Всех нас сыра-земля сравняет».
Тихие речи сотского, его искренность, разумные доводы умеряли скорбь Филиппа, не раз приносили успокоение его встревоженному сердцу.
Отчего же теперь Кирило молчит? Почему не утешает дочку своего несчастного друга?
Он еле поспевает за ней – так она вдруг заторопилась.
– Легче, дочка, – сказал он. – Не спеши так. День большой, да и путь немалый, уморимся. Лишь бы к вечеру добраться. Пожалей мои старые ноги, да и свои побереги – им еще долго придется топтать землю.
Христя уменьшила шаг. Поравнявшись с ней, Кирило вытащил трубку и начал ее набивать. Шли молча. Снег сильно таял, дорогу заливала вода, и местами ноги вязли в жидком месиве. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее грело оно, веселые блики играли на обнажившихся курганах и талой воде. Становилось жарко. Пот выступил на лбу сотского. Сдвинув шапку на затылок и распустив полы сермяги, он плелся вслед за Христей, размахивая длинной палкой, стараясь ступать по сухим островкам среди луж. Трубка его дымилась, оставляя позади сизый след в чистом, прозрачном воздухе. Христя шагала прямо по дороге.
– Ну, сегодня снегу убудет, – сказал Кирило, чтобы завязать разговор. – Гляди, какая каша стала от воды! Хоть бы до города добраться! Верно, там, на гнилом переходе, вода теперь по колено. Чего доброго, и не пройдем. И утонуть можно, – закончил Кирило, потеряв надежду услышать от Христи хоть слово.
– Кабы! – откликнулась она.
– Что кабы? – спросил Кирило. – Утонуть?
– Ну да! – сказала Христя, вытирая слезы рукавом.
– Пусть Бог милует! Зачем торопиться? Как ни бывает горько иногда, а все же лучше жить… Тебе, молодой, не к лицу такое говорить. Матери плохо – одна она осталась, помочь ей некому, – а тебе что? Молодая, здоровая… Разве тебя работа страшит? Да в селе работа в десять раз тяжелее, чем в городе. Какая там работа? В поле тебе там не ходить, не жать, снопов не вязать. Домашняя работа. Как говорят там: помыть, подать – и ложись спать… Не горюй, лишь бы здоровье, а работа – что? Я сам, слоняясь по свету, служил в городе и хорошо знаю. Кабы не своя хата и служба обществу, я бы и сейчас в город ушел. Ей-Богу, правду говорю. Там уже то хорошо, что людей много. Хоть и чужие, так ты на это не смотри. Среди чужих иногда лучше, чем у своих: ты их не знаешь, они тебя не знают, допекать не станут. Не то что у нас в селе!
Христя уже не в первый раз слышит рассказы о городской жизни. Марина Кучерявенко, ее подруга, третий год служит в городе. Приходила она как-то на праздник в село и говорила, что лучшей службы нет, как в городе: и работы не много, и не тяжелая она, и люди там обходительные, и платят хорошо. За два года Марина скопила целый сундук всякого добра: и платков, и рушников, и юбок, и плахт, еще и тулупчик хороший. В селе за десять лет столько не наживешь. Отчего же мать так плачет? Отчего так убивается? Целая неделя прошла после суда, и всю эту неделю день и ночь мать не переставала плакать, рассказывая ей про горькую подневольную службу у чужих людей. Никто тебе и слова доброго не скажет, если обидят – никто не заступится; больна ли ты – не спросят; а работать заставляют без отдыха. Нанялся – продался!.. И с такой безнадежностью и отчаянием рассказывала все это мать, так горько поливала каждое слово горючими слезами! А Кирило вот совсем другое поет… и Марина тоже другое говорила… Где же правда?… И мать смолоду служила и должна все это знать… Разве тогда хуже было, жилось тяжелее?… Как в тумане Христя, словно бродит в пустыне темной осенней ночью… А может – как у кого: у одного хорошо, а у другого плохо. Ну, а у Загнибиды?
– Дядька! – окликнула она сотского. – Вы знаете Загнибиду? Что это за человек? Какая у него работа?
– Загнибиду? Ххе!.. – вынув изо рта трубку и сплюнув, сказал Кирило. – Загнибиду? Как же мне его не знать, если он в нашей волости писарем был?! Хорошо знаю. Еще отца его немного знавал. Пузатый такой – головой служил… И лютый, спаси Боже! За недоимки людей, бывало, раздевал догола и на мороз выводил, да еще водой обливал. Ну да и сын его – цаца. Этот, правда, голых на мороз не выводил, зато драл с живого и с мертвого. Пьявка – не человек был! Ну, а теперь – не знаю, может, и переменился. Люди рассказывали, что он очень рад, когда встречает кого-нибудь из нашего села – и напоит, и накормит… Понятно, не нас, голытьбу, а богачей… – добавил Кирило, делая ударение то на одном слове, то на другом.
– Ну, и служба, – начал снова Кирило, – какая же у него служба? Оставив должность писаря, он стал лавочником или прасолом… бес его знает… Вот посмотришь, какая у него работа. Жена у него, говорят, неусыпная хозяйка и добрый человек, а впрочем, я с ней дела не имел. Детей нет и не было. Кому только все добро достанется?… А добра много… Разве промотает его – говорят, выпивает сильно. Да не верь этому: мало ли что говорят. Верь только своим глазам. Вот поработаешь у него, так узнаешь, какой это Загнибида. Крутой был, пока в писарях служил, – без рубля к нему за паспортом и не ходи. Вы, говорит, на заработки уходите деньги загребать, а тут с голоду подыхай… клади рубль! Ну и давали, да еще и в шинок угощать водили. Такой он был, а теперь не знаю.
Христя глубоко вздохнула.
– А ты не вздыхай! Чего тебе? Нехорошо будет – не только света, что в окне, за окном больше. Лишь бы ты была старательной, а хорошей слугой все дорожат. Это тебе не село. А вот и Гнилой переход! – И Кирило стал спускаться с горы в балку, на дне которой протекал маленький ручеек. – Ну, это еще не беда. Воды немного, можно перескочить через этот ручеек! – крикнул он, разбегаясь для прыжка. Но только Кирило опустился на противоположный берег, как сразу и увяз по пояс. – Вот ловушка! – кряхтел он, выкарабкиваясь. – Черт бы его побрал, полны сапоги воды.
Христя еще стояла по ту сторону ручья, когда Кирило провалился в снег, и вся затряслась. Ей казалось, что он тонет. Когда же он выбрался, весь мокрый, ее разобрал смех.
– Хотели, дядька, по-молодецки? – улыбнувшись, спросила Христя.
– А вышло чертовски! – ответил Кирило, идя к мостику, чтобы переобуться. Вода чавкала в его сапогах.
Христя тоже взошла на мостик и, опершись на перила, ждала, пока Кирило переобуется.
– Вот тебе перешел и не замочился! – сердился Кирило. – И понесла же меня нелегкая! Думал – бугорок, откуда там вода возьмется? А она вверху присыпана снегом, а внизу воды – дна не достанешь…
– Вы бы, дядька, немного посидели, портянки просохли бы, – сказала Христя, – а то не годится мокрыми ноги обвертывать.
– Как это? – крикнул Кирило.
– Как бы чего не случилось.
– А случится – что же поделаешь? Все равно умирать придется.
Христя умолкла. Молчал и Кирило. Переобувшись, он встал, поглядел на ноги, надел сермягу и, взяв палку, вновь побрел к шляху.
Шли молча. Христя не решалась первая начать разговор. Кирило часто поглядывал на свои сапоги, словно хотел удостовериться, что они еще целы, сопел, сплевывал.
– Тут стой! – сказал он, когда показались Осипенковы хутора. – Отдохнем, подкрепимся. Половину дороги прошли – хватит!
Кирило повернул к хуторам. Христя остановилась, не зная, следовать ли ей за сотским, или подождать его у дороги.
– А ты чего стала? Иди. Люди добрые, не выгонят из хаты.
Две огромные собаки бросились на них из-за сарая. Тотчас же из хаты выбежала высокая, стройная молодица.
– Вон, проклятые! – крикнула она, запустив в собак снежным комом. Красивое лицо молодицы слегка зарумянилось, ее бархатистые глаза на миг сверкнули.
– Здорово, Марья! Ты ли это? – спросил Кирило. Молодица улыбнулась.
– Да я же! – вздохнув, ответила она.
– А Сидор дома? – спросил Кирило.
– Нет его. В город уехал. Одна мать… пошла браниться да никак не уймется… Идите в хату.
В хате они застали дородную старуху. Широкое лицо ее испещрено глубокими морщинами; губы толстые, отвисшие; нос сизый, с черной бородавкой на конце; злые зеленые глаза метали искры из-под насупленных бровей.
Христе она показалась ведьмой.
– Здорово, Явдоха! – сказал Кирило.
Явдоха, сидевшая на лавке, только повела глазами в ответ.
– Как живется-можется?
– Эх, живется… – заворчала старуха. Голос ее звучал, как надтреснутый колокол, и Христя даже вздрогнула. – Никак не живется! Поехал Сидор из дому, а мы и сложили ручки, – ворчала она, бросая злые взгляды на Марью.
Лицо Марьи сильно побледнело, а глаза блестели. Она неприязненно посмотрела на Явдоху, тряхнула головой и молча вышла из хаты.
– Так всегда, – не унималась старуха. – Хоть бы тебе слово сказала: будто сроду немая или у нее, прости Господи, язык отнялся… А зайдут чужие в хату, она хи-хи и ха-ха; целый день смеялась бы с ними. А для матери слова не найдет. Ну и взял Сидор жену! Выбрал себе пару! Говорила ему: не бери городских, это проклятущий народ!.. Там у них в городе роскошь, воля, не боятся никого… Вот так и привыкли без дела сидеть, по семь воскресений на одной неделе справлять! А приедет на хозяйство – лишь бы было есть да пить, а сама, черт ее батька, не позаботится… Где уж от прислуги добра ждать? Привыкнет о чужом не беспокоиться, да так и со своим. Говорила сыну: не бери ее, Сидор! Возьми лучше Приську Гаманенко, она тебе будет женой, а мне – невесткой… Придурковатый какой-то, прости Господи!.. Говорит, если не ее, так мне никого не надо… объегорила, видно, дурня; опоила колдовским зельем, городская шлюха!.. Не послушался. А теперь бейся с нею, тяни лямку. Он же никогда дома не сидит: то сюда, то туда слоняется, не видит, что матери достается!.. Вот беда на меня свалилась! Надеялась отдохнуть на старости лет – вот и отдохнула, – закончила она, тяжело сопя.