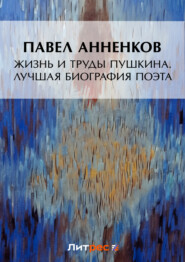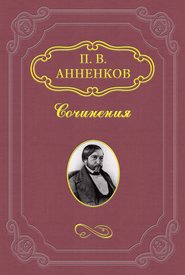По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года
Жанр
Год написания книги
1857
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В памяти у меня остается также довольно нелепый куплет, долженствовавший увековечить подвиги молодых учителей из его знакомых, отправлявшихся каждый день на свои лекции на Васильевский остров. Куплет, кажется, принадлежал Гоголю безраздельно:
Все бобрами завелись,
У Фаге все завились —
И пошли через Неву,
Как чрез мягку мураву и т. д.
Точно то же происходило и на обедах в складчину, где Гоголь сам приготовлял вареники, галушки и другие малороссийские блюда. Важнее других бывал складчинный обед в день его именин, 9 мая, к которому он обыкновенно уже одевался по-летнему, сам изобретая какой-то фантастический наряд. Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстучек, взбивал высоко свой завитой кок, облекался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых (Белоусова). Как далек еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». «Это вы говорите, – сказал он, – а другие считают ее фарсом». Вообще суждениями так называемых избранных людей Гоголь, по благородно высокой практической натуре своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячечная веселость – явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных. Вообще следует заметить, что природа его имела многие из свойств южных народов, которых он так ценил вообще. Он необычайно дорожил внешним блеском, обилием и разнообразием красок в предметах, пышными, роскошными очертаниями, эффектом в картинах и природе. «Последний день Помпеи» Брюллова привел его, как и следовало ожидать, в восторг. Полный звук, ослепительный поэтический образ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца
(#c_20). О метафизическом способе понимания явлений природы и искусства тогда и в помине не было. Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова
(#c_21). В жизни он был очень целомудрен и трезв, если можно так выразиться, но в представлениях он совершенно сходился со страстными, внешне великолепными представлениями южных племен. Вот почему также он заставлял других читать и сам зачитывался в то время Державина. Чтение его, если уже раз ухо ваше попривыкло к малороссийскому напеву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умел он сообщать наиболее эффектным частям произведения, и такой яркий колорит получали они в устах его! Можно сказать, что он проявлял натуру южного человека даже и светлым, практическим умом своим, не лишенным примеси суеверия… Если присоединить к этому замечательно тонкий эстетический вкус, открывавший ему тотчас подделку под чувство и ложные, неестественные краски, как бы густо или хитро ни положены они были, то уже легко будет понять тот род очарования, которое имела его беседа. Он не любил уже и в то время французской литературы, да не имел большой симпатии и к самому народу за «моду, которую они ввели по Европе», как он говорил «быстро создавать и тотчас же, по-детски, разрушать авторитеты». Впрочем, он решительно ничего не читал из французской изящной литературы и принялся за Мольера только после строгого выговора, данного Пушкиным за небрежение к этому писателю. Так же мало знал он и Шекспира (Гете и вообще немецкая литература почти не существовали для него), и из всех имен иностранных поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя – Вальтер Скотта. Зато и окружил он его необычайным уважением, глубокой почтительной любовью. Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска и потому не могли задобривать его в пользу автора… Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художнической точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам. В эту эпоху Гоголь был наклонен скорее к оправданию разрыва с прошлым и к нововводительству, признаки которого очень ясно видны и в его ученых статьях о разных предметах, чем к пояснению старого или к искусственному оживлению его… В тогдашних беседах его постоянно выражалось одно стремление к оригинальности, к смелым построениям науки и искусства на других основаниях, чем те, какие существуют, к идеалам жизни, созданным с помощью отвлеченной, логической мысли – словом, ко всем тем более или менее поэтическим призракам, которые мучат всякую деятельную благородную молодость. При этом направлении два предмета служили как бы ограничением его мысли и пределом для нее, именно: страстная любовь к песням, думам, умершему прошлому Малороссии, что составляло в нем истинное охранительное начало, и художественный смысл, ненавидевший все резкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, так сказать, умерителями его порывов. В этом соединении страсти, бодрости, независимости всех представлений со скромностию, отличающей практический взгляд, и благородством художественных требований заключался и весь характер первого периода его развития, того, о котором мы теперь говорим.
Никогда, однако ж, даже в среде одушевленных и жарких прений, происходивших в кружке по поводу современных литературных и жизненных явлений, не покидала его лица постоянная, как бы приросшая к нему наблюдательность. Он, можно сказать, не раздевался никогда, и застать его обезоруженным не было возможности. Зоркий глаз его постоянно следил за душевными и характеристическими явлениями в других: он хотел видеть даже и то, что легко мог предугадать. Сколько было тогда подмечено в некоторых общих приятелях мимолетных черт лукавства, мелкого искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствие производительных способов; сколько разоблачено риторической пышности, за которой любит скрываться бедность взгляда и понимания, сколько открыто скудного житейского расчета под маской приличия и благонамеренности! Все это составляло потеху кружка, которому немалое удовольствие доставлял и тогдашний союз денежных интересов в литературе со всеми его изворотами, войнами, триумфами и победными маршами! Для Гоголя как здесь, так и в других сферах жизни ничего не пропадало даром. Он прислушивался к замечаниям, описаниям, анекдотам, наблюдениям своего круга и, случалось, пользовался ими. В этом, да и в свободном изложении своих мыслей и мнений круг работал на него. Однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в 200 (асс.). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности на лице… Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер. Поэтический взгляд на предметы был так свойствен его природе и казался ему таким обыкновенным делом, что самая теория творчества, которую он излагал тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Он говорил, что для успеха повести и вообще рассказа достаточно, если автор опишет знакомую ему комнату и знакомую улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии», – говорил он. На этом основании он побуждал даже многих из своих друзей приняться за писательство. Но если теория была слишком проста и умалчивала о многих качествах, необходимых писателю, то критика Гоголя, наоборот, отличалась разнообразием, глубиной и замечательной многосложностию требований. Не говоря уже о том, что он угадывал по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждает в нем почти такое же отвращение, как труп или скелет, но Гоголь ненавидел идеальничанье в искусстве прежде критиков, возбудивших гонение на него. Он никак не мог приучить себя ни к трескучим драмам Кукольника, которые тогда хвалились в Петербурге, ни к сантиментальным романам Полевого, которые тогда хвалились в Москве
(#c_22). Поэзия, которая почерпается в созерцании живых, существующих, действительных предметов, так глубоко понималась и чувствовалась им, что он, постоянно и упорно удаляясь от умников, имеющих готовые определения на всякий предмет, постоянно и упорно смеялся над ними и, наоборот, мог проводить целые часы с любым конным заводчиком, с фабрикантом, с мастеровым, излагающим глубочайшие тонкости игры в бабки, со всяким специальным человеком, который далее своей специальности и ничего не знает; Он собирал сведения, полученные от этих людей, в свои записочки, которых было гораздо более, чем сколько их видел г. Кулиш, – и они дожидались там случая превратиться в части чудных поэтических картин. Для него даже мера уважения к людям определялась мерой их познания и опытности в каком-либо отдельном предмете. При выборе собеседника он не запинался между остроумцем, праздным, даже, пожалуй, дельным литературным судьею и первым попавшимся знатоком какого-либо производства. Он тотчас становился лицом к последнему. Но, по нашему мнению, важнее всего этого была в Гоголе та мысль, которую он приносил с собой в это время повсюду. Мы говорим об энергическом понимании вреда, производимого пошлостию, ленью, потворством злу с одной стороны, и грубым самодовольством, кичливостию и ничтожеством моральных оснований – с другой. Он относился ко всем этим явлениям совсем не равнодушно, как можно заключить даже из напечатанных его писем о московской журналистике и об условиях хорошей комедии
(#c_23). В его преследовании темных сторон человеческого существования была страсть, которая и составляла истинное нравственное выражение его физиономии. Он и не думал еще тогда представлять свою деятельность как подвиг личного совершенствования, да и никто из знавших его не согласится видеть в ней намеки на какое-либо страдание, томление, жажду примирения и проч. Он ненавидел пошлость откровенно и наносил ей удары, к каким только была способна его рука, с единственной целью потрясти ее, если можно, в основании. Этот род одушевления сказывался тогда во всей его особе, составляя и существенную часть нравственной красоты ее. Честь бескорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и по одному только отвращению к извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголем этой эпохи даже и против него самого, если бы нужно было. Несомненные исторические свидетельства тут важнее признаний автора, подсказанных другого рода соображениями и сильным подавляющим влиянием новых идей, позднее возникших в его сердце
(#c_24). Мы с своей стороны убеждены, что Гоголь имел, между прочим, в виду и этого рода деятельность, когда накануне 1834 года обращался к своему гению с удивительным поэтическим дифирамбом, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновения и подвига. Опубликованием этого документа, как и многих других, г. Кулиш получил право на долгую признательность истории литературы нашей. Чудно и многознаменательно звучат последние слова этого воззвания к гению: «О, не разлучайся со мною! Живи на земле со мной хотя два часа каждый день, как прекрасный брат мои! Я совершу, я совершу! Жизнь канат во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови меня!»
(#c_25). Но кроме вдохновенных часов, каких Гоголь просил у своего гения, и кроме положительной деятельности, к какой приводило чувство кипящей жизни и силы, он еще, по характеру своему, старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так, после издания «Вечеров», проезжая через Москву, где, между прочим, он был принят с большим почетом тамошними литераторами, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские ведомости» не «коллежским регистратором», каковым был, а «коллежским асессором». «Это надо…» – говорил он приятелю, его сопровождавшему
(#c_26).
Таким был или по крайней мере таким представлялся нам молодой Гоголь. Великую ошибку сделает тот, кто смещает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворота его существовании. Не скроем, что такого рода смешения попадаются в книге г. Кулиша довольно часто. Можно даже сказать, что он вообще смотрит на Гоголя с конца поприща, – недостаток, который смягчается отчасти содержанием представляемых документов и догадливостию, возбуждаемою ими неминуемо в самом читателе.
Между тем, трудясь за устройством своей жизни и особенно за наполнением ее обильнейшим содержанием, какое возможно было добыть, Гоголь встретил три обстоятельства; подсекшие, так сказать, всю эту деятельность в самой средине ее развития и устремившие его за границу. Мы не намерены искать причин его отъезда за границу в психическом настроении его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной и всякое заключение тут поражено заранее несостоятельностию. Мы также вполне согласны, что собственные его объяснения как по этому поводу, так и по всем другим, заключающиеся в безыменной записке («Авторская исповедь») и в других автобиографических документах, буквально верны и истинны. Это наше убеждение, почерпнутое из внимательного изучения их; но мы должны сказать, что объяснения Гоголя опираются преимущественно на одну какую-либо поэтическую или моральную черту события, без сомнения ему присущую, но открытую уже гораздо позднее, после долгого размышления о событии. Фактическая, материальная основа происшествия, живое впечатление, произведенное им с первого раза, цепь разнородных ощущений, им вызванных, пропускаются без внимания, как и следует быть в автобиографии, ищущей показать один только нравственный смысл события. Восстановить пропущенные подробности, доискаться первых причин явления, дополнить заметки автобиографии вводом всех красок действительности, сообщив, таким образом, плоть и кровь ее общим указаниям, – есть уже дело жизнеописателя. Одна из первых причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий ? priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества. Падение было горько для человека, возбудившего столько надежд и ожиданий, а вслед за ним последовало то ожесточенное преследование новых его книг, «Миргород» и «Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатический отголосок в петербургской публике, почти безусловно покорявшейся журналу, выражавшему ее. Голос Москвы был сначала заглушаем шумом петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Белинского в «Телескопе», чтоб поддержать автора и ослабить влияние, произведенное многочисленными противниками; но это не могло сделаться скоро
(#c_27). Как ни странно покажется, что к числу причин, ускоривших отъезд Гоголя, мы относим и журнальные толки, но это было так. Мы намекнули прежде о том, что мнением публики Гоголь озабочивался гораздо более, чем мнениями знатоков, друзей и присяжных судей литературы, – черта, общая всем деятелям, имеющим общественное значение, а петербургская публика относилась к Гоголю если не вполне враждебно, то по крайней мере подозрительно и недоверчиво. Последний удар нанесен был представлением «Ревизора». Читатель должен хорошо помнить превосходное описание этого театрального вечера, данное самим Гоголем
(#c_28). Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей из всех обыкновений и даже, как говорили, из всех приличий, горестно оправдалась водевильным характером, сообщенным главному лицу комедии, и пошло-карикатурным, отразившимся в других. Гоголь прострадал весь этот вечер
(#c_29). Мне, свидетелю этого первого представления, позволено будет сказать, что изображала сама зала театра в продолжение четырех часов замечательнейшего спектакля, когда-либо им виденного. Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение и одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом, Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, Простая публика – за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это – невозможность, клевета и фарс». По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднесть ему экземпляр «Ревизора», только что вышедший из печати, со словами:
«Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: «Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все…»
(#c_30)
В начале лета 1836 года Гоголь уехал за границу на пароходе. Он действительно «устал душою и телом», как сам говорит. Шесть лет беспрерывного труда, разнообразных предприятий и волнений, даже не принимая в соображение последних тяжелых ударов, нанесенных всем его ожиданиям, требовали сами собой отдыха. По первым письмам, полученным от него из-за границы, видно, что Гоголь скоро отыскал покой и ровное настроение духа. Это подтверждается и письмами, напечатанными г. Кулишем. Известие о смерти Пушкина в 1837 году потрясло Гоголя до глубины души, оставило навсегда незаместимую пустоту в его жизни, но нравственных оснований его нисколько не изменило, по крайней мере письма его, после жарких выражений тоски и боли по невозвратимой общественной и еще более личной для Гоголя утрате, принимают снова характер тихого, спокойного созерцания людей, говорят о заботах, вызываемых плохим состоянием его здоровья, ясно дают подразумевать ровный, размеренный и спокойный труд и во многих местах носят свидетельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусством просто, непосредственно, как человек, продолжающий свободно воспитывать мысль. Пелена известного однообразного цвета еще не распростиралась перед глазами его. Он только вошел в себя, но еще не обратился к самому себе с беспощадно кропотливым анализом; ограничил свою деятельность и установился в ней, но еще не давал ей значения аскетического подвига; сличал жизнь, обычаи, мнения народов и вникал в них, но еще не делался судьей стран и убеждений… Цели чисто человеческие и земные еще мелькали перед ним со всеми очарованиями, какие заключают в себе, и это может показать следующий, неизданный отрывок из общего послания его к приятелям. Оно принадлежит к 1837 году и писано из Парижа 25 января.
«Да скажи, пожалуйста – с какой стати пишете вы все про «Ревизора»? В твоем письме и в письме Пащенка, которое вчера получил Данилевский, говорится, что «Ревизора» играют каждую неделю, театр полон и проч. … и чтобы это было доведено до моего сведения. Что это за комедия? Я, право, никак не понимаю этой загадки. Во-первых, я на «Ревизора» – плевать, а во-вторых… к чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мне никто бы не мог нагадить. Но, слава богу, это ложь: я вижу через каждые три дни русские газеты. Не хотите ли вы из этого сделать что-то вроде побрякушки и тешить меня ею, как ребенка? И ты! Стыдно тебе, – ты предполагал во мне столько мелочного честолюбия! Если и было во мне что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславием, то его уже нет; пространства, которые разделяют меня с тобою, поглотили все то, за что поэт слышит упреки во глубине души своей… Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим. Забвенья, долгого забвенья просит душа. И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры «Ревизора», а с ним «Арабески», «Вечера» и всю прочую чепуху, и обо мне в течение долгого времени ни печатно, ни изустно не произносил никто ни слова – я бы благодарил судьбу. Одна только слава по смерти (для которой, увы, не сделал я до сих пор ничего) знакома душе неподдельного поэта. А современная слава не стоит копейки…»
(#c_31)
Здесь, конечно, виден шаг вперед, но по одному и тому же направлению. Он только перенес жажду славы с современников на потомство. Если письмо это удивило приятелей, знавших, как всегда дорожил он современным успехом и влиянием на публику, то это была их вина: они не поняли обыкновенного явления, замечаемого у всех гениальных писателей – при начале нового труда смотреть с отвращенном на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало изменился. Только и 1839 году появляются у него фразы вроде следующей; «Германия есть не что другое, как самая неблаговонная отрыжка гадчайшего табаку и мерзейшего пива»
(#c_32). Тут уже сказалось влияние Италии и особенно Рима, в котором он провел весну 1837 и потом почти беспрерывно два года (с осени 1837 по осень 1839)
(#c_33). Влияние начинает все более усиливаться и проявляется отвращением к европейской цивилизации, наклонностию к художническому уединению, сосредоточенностию мысли, поиском за крепким основанием, которое могло бы держать дух в напряженном довольстве одним самим собою. Со всем тем особенности эти, возникающие мало-помалу в характере Гоголя, до такой степени еще слиты с прежним свободным и многосторонним направлением, что указать начало их, первый, так сказать, толчок, подвигнувший ум в эту сторону, нет никакой возможности. Это все равно что желать подсмотреть минуту, когда зарождается болезнь в человеке или уловить мгновение, когда начинается развитие какой-либо части в организме его. Мало-помалу также Гоголь погружается весь в новый свой труд: «Мертвые души». Если эта поэма по справедливости может назваться памятником его как писателя, то с неменьшей основательностию позволено сказать, что в ней готовил он себе и гробницу как человеку. «Мертвые души» была та подвижническая келья, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее. Я постараюсь далее указать связь «Мертвых душ» со всею последующей судьбой их автора, а теперь повторю прежде сказанное, что летом 1841 года, когда я встретил Гоголя, он стоял на рубеже нового направления, принадлежа двум различным мирам. По тайным стремлениям своей мысли он уже относился к строгому, исключительному миру, открывавшемуся впереди; по вкусам, некоторым частным воззрениям и привычкам художнической независимости – к прежнему направлению. Последнее еще преобладало в нем, но он уже доживал сочтенные дни своей молодости, ее стремлений, борьбы, падений и – ее славы!
На третий день моего приезда Рим, по случаю наступления праздников святой недели, отдался весь ликованию. Как в эти дни, так и в предшествовавшие им я почти совсем не видал Гоголя, будучи занят глазеньем на все духовные процессии, которыми наполнился город. Много времени, беготни, стоического равнодушия к своей особе потребно было, чтоб не пропустить какой-либо стороны католицизма, показываемой раз в год. Могу сказать только, что ни один англичанин не опередил меня ни в чем. Я присутствовал при «омовении ног», которое производил папа в приделе Петра, при угощении им бедных священников в одной из сакристий того же храма, при исполнении Stabat Mater в Сикстинской часовне, при крещении евреев в Латеране одним из кардиналов св. коллегии, при общем покаянии в иезуитской церкви и проч. Гоголь посвящал меня в церемонии и направлял поиски, но сам не выходил из дома и не переменял образа жизни. Великолепна была физиономия города с наступлением праздников. Ковры и ткани покрыли стены домов, петарды трещали с окон, с балконов, из-под ног пешеходов, улицы запестрели окрестным народонаселением, прибывшим к торжеству, в ярких, живописных костюмах и с не менее живописными лицами. В день самого праздника я, как и следовало ожидать, присутствовал при папской литургии и видел, как с высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа дал благословение народу и отпустил ему грехи. Вечером того же дня мы ходили с Гоголем и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освещенье его купола и перемену огней, внезапно производимую в известный час. Купол горел тихо, ровно в мрачной синеве неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, под шепот водопадов соборной площади, под говор народа, двигавшегося во всех направлениях. Тут положено было, между прочим, что я перейду в комнату Панова тотчас, как он уедет в Берлин, и, сделавшись близким соседом Гоголя, посвящу один час каждого дня на переписку, под его диктовку, уже совсем изготовленной первой части «Мертвых душ».
II
Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской «Мертвых душ». Остальное время мы жили розно и каждый по-своему. Правда, в течение дня сталкивались мы друг у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вместе, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условие не давать чувствовать себя товарищу ни под каким видом. Гоголь вообще любил те отношения между людьми, где нет никаких связующих прав и (обязательств, где от него ничего не требовали. Он тогда только и давал что-либо от себя. В Риме система эта, предоставив каждому полную свободу действий, поставила каждого в нравственную независимость, которою он всего более дорожил.
Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из подробностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво. «Вы этого не можете понять, – говорил он, – это так: я себя знаю». При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы – никогда не подвергаться испарине. «Я горю, но не потею», – говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейной Del buon gusto отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета. Николай Васильевич ждал терпеливо моего последнего слова и продолжал новый период тем же голосом, проникнутым сосредоточенным чувством и мыслию. Превосходный тон этой поэтической диктовки был так истинен в самом себе, что не мог быть ничем ослаблен или изменен. Часто рев итальянского осла пронзительно раздавался в комнате, затем слышался удар палки по бокам его и сердитый вскрик женщины: «Ессо, ladrone!» (Вот тебе, разбойник!) Гоголь останавливался, проговаривал, улыбаясь: «Как разнежился, негодяй!» – и снова начинал вторую половину фразы с той же силой и крепостью, с какой вылилась у него ее первая половина. Случалось также, что он прекращал диктовку на моих орфографических заметках, обсуживал дело и, как будто не было ни малейшего перерыва в течении его мыслей, возвращался свободно к своему тону, к своей поэтической ноте. Помню, например, что, передавая ему написанную фразу, я вместо продиктованного им слова «щекатурка» – употребил «штукатурка». Гоголь остановился и спросил: «Отчего так?» – «Да правильнее, кажется». Гоголь побежал к книжным шкафам своим, вынул оттуда какой-то лексикон, приискал немецкий корень слова, русскую его передачу и, тщательно обследовав все доводы, закрыл книгу и поставил опять на место, сказав: «А за науку спасибо». Затем он сел по-прежнему в кресло, помолчал немного, и снова полилась та же звучная, по-видимому простая, но возвышенная и волнующая речь. Случалось также, что прежде исполнения моей обязанности переписчика я в некоторых местах опрокидывался назад и разражался хохотом. Гоголь глядел на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривал: «Старайтесь не смеяться, Жюль». Действительно, я знал, что переписка замедляется подобным выражением личных моих ощущений, и делал усилия над самим собой, но в те годы усилия эти редко сопровождались успехом. Впрочем, сам Гоголь иногда следовал моему примеру и вторил мне при случае каким-то сдержанным полусмехом, если могу так выразиться. Это случилось, например, после окончания «Повести о капитане Koпейкине, первая редакция которой, далеко превосходящая и силе и развитии напечатанную, только недавно сделалась известна публике
(#c_34). Когда, по окончании повести, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смеялся вместе со мною и несколько раз спрашивал:
«Какова повесть о капитане Копейкине?»
«Но увидит ли она печать когда-нибудь?» – заметил я. Печать пустяки, – отвечал Гоголь с самоуверенностью, – все будет в печати». Еще гораздо сильнее выразилось чувство авторского самодовольствия в главе, где описывается сад Плюшкина. Никогда еще пафос диктовки, помню, не достигал такой высоты в Гоголе, сохраняя всю художническую естественность, как в этом месте. Гоголь даже встал с кресел (видно было, что природа, им описываемая, носится в эту минуту перед глазами его) и сопровождал диктовку гордым, каким-то повелительным жестом. По окончании всей этой изумительной VI главы я был в волнении и, положив перо на стол, сказал откровенно: «Я считаю эту главу, Николай Васильевич, гениальной вещью». Гоголь крепко сжал маленькую тетрадку, по которой диктовал, в кольцо и произнес тонким, едва слышным голосом: «Поверьте, что и другие не хуже ее». В ту же минуту однако ж, возвысив голос, он продолжал: «Знаете ли что, нам до сеnаrе (ужина) осталось еще много: пойдемте смотреть сады Саллюстия, которых вы еще не видали, да и в виллу Людовизи постучимся»
(#c_35). По светлому выражению его лица, да и по самому предложению видно было, что впечатления диктовки привели его в веселое состояние духа. Это оказалось еще более на дороге. Гоголь взял с собой зонтик на всякий случай, и как только повернули мы налево от дворца Барберини в глухой переулок, он принялся петь разгульную Малороссийскую песню, наконец пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону. Он быстро поднял отломленную часть и продолжал песню. Так отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновал мир с самим собою, и в значении этого бурного порыва веселости, который вполне напомнил мне старого Гоголя, я не ошибся и тогда. В виллу Людовизи нас, однако ж, не пустили, как Гоголь ни стучал в безответные двери ее ворот; решетчатые ворота садов Саллюстия были тоже крепко замкнуты, так как время сиесты[12 - siesta – часы дневного отдыха – итал.] и всеобщего бездействия в городе еще не миновалось. Мы прошли далее за город, остановились у первой локанды[13 - locanda – харчевня (итал.)], выпили по стакану местного слабого вина и возвратились в город к вечернему обеду в знаменитой тогда австерии «Фалконе» («Сокол»).
Важное значение города Рима в жизни Гоголя еще не вполне исследовано. Памятником и свидетельством его воззрения на папскую столицу времен Григория XVI может служить превосходная его статья «Рим», в которой должно удивляться не завязке или характерам (их почти и нет), а чудному противупоставлению двух народностей, французской и итальянской, где Гоголь явился столь же глубоким этнографом, сколько и великим живописцем-поэтом. Сущность его воззрения на Рим излагать нет надобности, так как статья Гоголя хорошо известна всем русским читателям; но следует сказать, что под воззрение свое на Рим Гоголь начинал подводить в эту эпоху и свои суждения вообще о предметах нравственного свойства, свой образ мыслей и, наконец, жизнь свою. Так, взлелеянный уединением Рима, он весь предался творчеству и перестал читать и заботиться о том, что делается в остальной Европе. Он сам говорил, что в известные эпохи одна хорошая книга достаточна для наполнения всей жизни человека. В Риме он только перечитывал любимые места из Данте, «Илиады» Гнедича и стихотворений Пушкина
(#c_36). Это было совершенно вровень, так сказать, с городом, который, под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому. Добродушный пастырь этот, так ласково улыбавшийся народу при церемониальных поездах и с такою любовью благословлявший его, умел остановить все новые почки европейской образованности и европейских стремлений, завязавшиеся в его пастве, и когда умер, они еще поражены были онемением. О том, какими средствами достиг он своей цели, никто из иностранцев не спрашивал: это составляло домашнюю тайну римлян, до которой никому особенного дела не было
(#c_37). Гоголь, вероятно, знал ее: это видно даже по намекам в его статье, где мнение народа о господствующем клерикальном сословии нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то по крайней мере объяснялась воззрением на Рим. Вот собственные его слова из статьи: «Самое духовное правительство, этот странный, уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить парод от постороннего влияния… чтобы до времени, в тишине таилась его гордая народность». Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили убедительным образом старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы
(#c_38). Оказалось и оказывается с каждым днем более, что Рим никогда не находился в таком уединении и в таком сиротстве, какие признаны были за ним наблюдателями. Необычайными мерами, еще в некоторой степени продолжающимися и теперь, с него была снята только работа, требуемая временем и его необходимостями: и благодаря этому обстоятельству народ предался одним природным своим наклонностям, артистическому веселью, остроумной беспечности и столь свойственному ему художническому творчеству. Сильное развитие этой стороны его характера заставило предполагать, что в ней и вся жизнь Рима, но колесо европейской истории не может миновать ни одного уголка нашей части света и неизбежно захватывает людей, как бы ни сторонились они. Стремление римского населения сделаться причастником общих благ просвещения и развития признается теперь законным почти всеми; но оно жило во многих сердцах и тогда. Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью. Помню, раз на мое замечание, «что, вероятно, в самом Риме есть люди, которые иначе смотрят на него, чем мы с ним», – Гоголь отвечал почти со вздохом: «Ах, да, батюшка, есть, есть такие». Далее он не продолжал. Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем и почти неизбежная при новых стремлениях, поражала его неприятным образом. Он был влюблен, смею сказать, в свое воззрение на Рим, да тут же действовал отчасти и малороссийский элемент, всегда охотно обращенный к тому, что носит печать стародавнего или его напоминает. Зато уж и Францию, которую считал родоначальницей легкомысленного презрения к поэзии прошлого, начинал он ненавидеть от всей души. О французском владычестве в Риме, в эпоху первой империи, когда действительно сподвижники Наполеона I, вместе с истреблением суеверия, принялись истреблять и коренные начала народного характера, Николай Васильевич отзывался после с негодованием. Он много говорил дельного и умного о всесветных преобразователях, не умеющих отличать жизненных особенностей, никогда не уступаемых народом, от тех, с которыми он может расстаться, не уничтожая себя как народ, но упускал из вида заслуги всей истории Франции перед общим европейским образованием. Впрочем, твердого, невозвратного приговора как в этом случае, так и во всех других, еще не было у Гоголя: он пришел к нему позднее. Он тогда еще составлял его и потому довольно часто оглядывался на свои мысли и проверял их на противоположных взглядах и на противоречии, он шел только к тому решительному приговору, который с такой силой раздался пять лет спустя в литературе нашей. Для подтверждения наших слов приведем один маловажный случай: кроме маловажных случаев, никаких других между нами и быть не могло, но именно потому, может быть, все случаи, касающиеся Гоголя, имели почти всегда значительную физиономию и сохранили в памяти моей точное выражение. Однажды за обедом, в присутствии А. А. Иванова, разговор наш нечаянно попал на предмет, всегда вызывавший споры: речь зашла именно о пустоте всех задач, поставляемых французами в жизни, искусстве и философии. Гоголь говорил резко, деспотически, отрывисто. Ради честности, необходимой даже в застольной беседе, я принужден был невольно указать на несколько фактов, значение и важность которых для цивилизации вообще признаваемы всеми. Гоголь отвечал горячо и тем, вероятно, поднял тон моего возражения; однако ж спор тотчас же упал в одно время с обеих сторон, как только сделалась ощутительна в нем некоторая степень напряжения. Молча вышли мы из австерии, но после немногих задумчивых шагов Гоголь подбежал к первой лавочке лимонадчика, раскинутой на улице, каких много бывает в Риме, выбрал два апельсина и, возвратясь к нам, подал с серьезной миной один из них мне. Апельсин этот меня тронул: он делался, так сказать, формулой, посредством которой Гоголь выразил внутреннюю потребность некоторого рода уступки и примирения.
Вообще следует помнить, что в эту эпоху он был занят внутренней работой, которая началась для него со второго тома «Мертвых душ», тогда же им предпринятого, как я могу утверждать положительно
(#c_39). Значение этой работы ни– кем еще не понималось вокруг него, и только впоследствии можно было разобрать, что для второго тома «Мертвых душ» начинал он сводить к одному общему выражению как свою жизнь, образ мыслей, нравственное направление, так и самый взгляд на дух и свойство русского общества. Результаты этих изысканий и трудов над самим собой и над духовным бытом нашего общества публике известны, и мы покамест их не судим: мы только повторяем, что с подобными эпохами поворотов мысли и направления неизбежно связано колебание воли и суждения, как это и было здесь. Он осматривал и взвешивал явления, готовясь оторваться от одних и пристроиться к другим. Так, например, долго, с великим вниманием и с великим участием слушал он горячие повествования о России, заносимые в Рим приезжими, но ничего не говорил в ответ, оставляя последнее слово и решение для самого себя. Отсюда также и те длинные часы немого созерцания, какому предавался он в Риме. На даче княгини 3. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду тогатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью. Так точно было и в Тиволи, в густой растительности, окружающей его каскателли[14 - водопады (итал)], он садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижим целые часы, с воспаленными щеками. Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: «Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта»
(#c_40). Так еще никому, собственно, не принадлежал он, и выход из этого душевного состояния явился уже после отъезда моего из Рима. Я застал предуготовительный процесс: борьбу, нерешительность, томительную муку соображений. Письма от этой эпохи, собранные г. Кулишем, уже вполне показывают, куда стремилась его мысль, но письма эти, как магнитная стрелка, обращены к одной неизменной точке, а сам корабль прибегал ко многим уклонениям и обходам, прежде чем вышел на твердый и определенный путь.
Одна только сторона в Гоголе не потерпела ничего и оставалась во всей своей целости – именно художническое его чувство. Гоголь не только без устали любовался тогдашним Римом, но и увлекал неудержимо всех к тому же поклонению чудесам его. Официальные католические праздники пасхи, на которых, по стечению иностранцев, присутствует чуть ли не более насмешливых, чем верующих глаз, уже давно миновались. Значительная часть туристов разъехалась, и настоящий туземный Рим выступил один для новых духовных праздников, совпадающих с летними месяцами. Здесь, в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы. Он предупреждал меня о дне вознесения, когда папа дает благословение полям Рима с высоты балкона Иоанна Латеранского, – и зрелище, на котором мы присутствовали в тот день, было не ниже наших ожиданий. Летнее солнце Италии осветило старые стены Рима, задернув голубой, прозрачной пеленой далекие альбанские горы. Ближе к нам и в самую минуту благословения оно ударило нестерпимо ярко на белые головные платки коленопреклоненных женщин, на широкие соломенные шляпы мужчин, на разноцветные перья войска, тоже преклонившего колено, на красные мантии кардиналов – и произвело картину ослепительного блеска и вместе превосходной перспективы. Затем наступили торжества Corpus Domini. В семь часов вечера, перед Ave Maria, при самом начале вечерних прогулок наших, мы непременно встречали духовную процессию, импровизированный алтарь на углу улицы, аббата под балдахином с дарохранильницей, которою после краткой молитвы он благословлял падающий ниц народ. Вечернее солнце играло опять главную роль в картине, обливая пурпуром знамена, огромные полотна с фигурами святых, кресты разных величин, фонари, рясы нищенствующих монахов и загорелые лица итальянцев, пылавшие несколько мгновений неизобразимо ярким и теплым светом. О цветочных коврах Дженсано, раскладываемых по пути таких же процессий и составляющих подвижной рисунок с изображениями кардинальских гербов, арабесок, узоров из листьев и лепестков растений, Гоголь упоминает сам в статье о Риме. Николай Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого народного творчества, которое окружало тогда духовные торжества, но могло существовать и помимо их. Так, очевидцы происшествий 1848–1849 годов рассказывают об удивительных триумфальных арках, строимых в одну ночь неизвестными архитекторами
(#c_41), да и в мое время, как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшений из зелени, винограда и лавра. Как велико было уважение Гоголя ко всякому проявлению самородной фантазии или даже сноровки, покажет следующий пример. В одной из кофейных он заметил, что стены и потолок ее покрыты сеткой из полосок бумаги, перегнутых надвое и приставленных к штукатурке. Узнав, что этим способом придумано сохранять заведения от порчи мух, гуляющих преимущественно по внешней стороне клеток, Гоголь долго рассматривал это хозяйственное изобретение и наконец воскликнул с чувством: «И этих-то людей называют маленьким народом!» Сметливость и остроумие в народе были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия, той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг друга уморительными анекдотами и остротами. «Я целый час подсматривал за ними из окна, – говорил Гоголь, – и конца не дождался. Смех не умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного тут не было; только сердечное веселие да потребность поделиться друг с другом обилием жизни». Гоголь был не прочь и от сильных, необузданных страстей, которые затемняют иногда сердце и ум этих любезных людей. Все естественное, самородное, уже по одному этому имело право на его уважение. Вот какой анекдот рассказывал он юмористически, но не без удовольствия. В его глазах один мальчишка пустил чем-то в другого, проходившего мимо, и, чувствуя, вероятно, важность ответственности за поступок, тотчас же шмыгнул в двери близлежащего дома, которые и припер за собою. Обиженный ребенок кинулся к дверям, старался выломать их и, видя невозможность одолеть преграду, стал вызывать оскорбителя на личную расправу. Ответа никакого, разумеется, не последовало; ребенок истощался в бранных эпитетах, в самых ядовитых прозвищах и в ругательствах и не слыхал ни малейшего отзыва. Тогда он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощили жажду мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу… Но, оставляя в стороне анекдоты, скажем, что уважение Гоголя к проблескам цельной и свежей натуры не ограничивалось одними людскими характерами: он и создания искусства ценил еще тогда по признакам силы, обнимающей сразу предмет, и чем менее заметно было в произведении искания, пробованья и щупанья, тем более оно ему нравилось, но он простирал иногда определения свои до парадокса. Так, к великому соблазну А. А. Иванова, он объявил однажды, что известная пушкинская «Сцена из Фауста» выше всего «Фауста» Гете, вместе взятого. Не должно думать однако ж, чтоб наслаждение Римом и людьми его сделало самого Гоголя слабым и мягкосердечным: напротив, он обращался весьма строго с последними – и это по принципу. Притворная суровость его была тут противодействием римской сметливости, народного расположения к сарказму и природной беспечности итальянца. Он был взыскателен, и надо было видеть, как важно примеривал он новые башмаки, сшитые ему молодым парнем с блестящими черными глазами и лукавой улыбкой. Он его почти измучил осмотром и потом говорил мне, смеясь: «Иначе и нельзя с этим народом; чуть оплошай – заговорит тебя. Подсунет мерзость, поставит перед собой башмак, отступит шаг назад и начнет: «О, что за чудная cosa! О, какая дивная вещица! Никакой племянник папы не носил такого башмака. Посмотрите, синьор, какая форма каблука! Можно влюбиться до безумия в такую вещь» и так далее». Придирчивость Гоголя была лицемерна уже и потому, что он никогда не сердился на те обыкновенные итальянские надувательства, которым, несмотря на всю свою строгость и сноровку, подвергался не раз. Так, вздумав сделать прогулку за город в обыкновенном нашем обществе, мы подрядили ветурина, дали ему задаток и назначили час отъезда. Но час прошел, а ветурин не являлся, употребив, вероятно, задаток на неотлагательные свои нужды и забыв о поручении. Все присутствующие оказывали ясные знаки нетерпения и громко выражали негодование свое, исключая Гоголя, который оставался совершенно равнодушен, а когда один из общества заметил, что подобной штуки никогда бы не могло случиться в Германии: там-де никто своего не даст и чужого не возьмет, – то Гоголь отвечал с досадой и презрением: «Да, но это только в картах хорошо!»
Еще одна черта. Мы, разумеется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинные галереи, где Гоголь почти всегда погружался в немое созерцание, редко прерываемое отрывистым замечанием. Только уже по прошествии некоторого времени развязывался у него язык и можно было услыхать его суждение о виденных предметах. Всего замечательнее, что скульптурные произведения древних тогда еще производили на него сильное впечатление. Он говорил про них: «То была религия, иначе нельзя бы и проникнуться таким чувством красоты».
Может статься, всего тяжелее было для позднейшего Гоголя победить врожденное благоговение к высокой, непогрешительной, идеальной, пластической форме, какое высказывалось у него в мое время поминутно. Он часто забегал в мастерскую известного Тенерани любоваться его «Флорой», приводимой тогда к окончанию, и с восторгом говорил о чудных линиях, которые представляет она со всех сторон и особенно сзади. «Тайна красоты линий, – прибавлял он, – потеряна теперь во Франции, Англии, Германии и сохраняется только в Италии». Так точно и знаменитый римский живописец Камучини, воспитанный на классических преданиях, находил в нем усердного почитателя за чистоту своего вкуса, грацию и теплоту, разлитые в его картинах, похожих на оживленные барельефы. Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в этой стране, сказать: «А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла. Не нужно, полагаю, толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к суровости и, если исключить маленькие гастрономические прихоти, более исполненную лишений, чем довольства. Так еще полно и невредимо сохранял он в себе художнический элемент, который особенно разыгрывался, когда духота, потребность воздуха и гулянья заставляли прекращать переписку «Мертвых душ» и выгоняли нас за город, в окрестности Рима.
Первая наша поездка за город в Альбано возникла, однако ж, по особенному поводу, который заслуживает упоминовения. Один молодой русский архитектор (фамилия его совершенно вышла у меня из памяти) имел несчастие, занимаясь проектом реставрации известной загородной дачи Адриана, простудиться в Тиволи и получить злокачественную лихорадку. Благодаря искусству римских докторов, через две недели он лежал без всякой надежды, приговоренный к смерти. Во все время его тяжкой болезни Гоголь с участием справлялся о нем у товарища его по академии и квартире в Риме, скульптора Лугановского (теперь тоже покойного), но сам не заходил к умирающему, боясь, может быть, прилипчивости недуга, а может быть, опасаясь слишком сильного удара для своих расстроенных нервов. Бедный молодой человек кончался: я был при последних минутах его и видел, как после одной ложечки прохладительного питья, которое беспрестанно подавала ему, по здешнему обычаю, женщина, сидевшая у его изголовья, он вдруг бодро, необычайно зорко окинул большими глазами комнату и людей, в ней находившихся, но это было последнее усилие молодости: он тотчас же ослабел и вскоре угас
(#c_42). Мы все собирались отдать бедному нашему соотечественнику последний долг, но Гоголь, вероятно по тем же причинам, о каких было упомянуто, боялся печальной церемонии и хотел освободиться от нее. За день до похорон, утром, после чашки кофе, я подымался по мраморной лестнице Piazza d'Espagna и увидел Гоголя, который задумчиво приближался к ней сверху. Едва только заметили мы друг друга, как Гоголь, ускорив шаги и раздвинув руки, спустился ко мне на площадку и начал с видом и выражением совершеннейшего отчаяния: «Спасите меня, ради бога: я не знаю, что со мною делается… Я умираю… я едва не умер от нервического удара нынче ночью… Увезите меня куда-нибудь, да поскорее, чтоб не было поздно…» Я был поражен неожиданностью известия и отвечал ему:
«Да хоть сию же минуту, Николай Васильевич, если хотите. Я схожу за ветурином, а куда ехать назначайте сами». Через несколько часов мы очутились в Альбано, и надо заметить, что как дорогой, так и в самом городке Гоголь казался совершенно покоен и ни разу не возвращался к пояснению отчаянных своих слов, точно никогда не были они и произнесены.
С горы Альбано, как известно, открывается изумительный вид на Рим и всю его Кампанью, которому, может быть, только вредит самая его обширность и полнота. Далекое, безмолвное поле, усеянное руинами, по которому, кажется, ходит одно только солнце, меняя ежечасно краски и цвета его в виду недвижной черты города и синего купола Петра! Особенно вечером, при закате, когда длиннее и гуще ложатся на землю тени гробниц и водопроводов, картина эта приобретала строгое, художественное величие, почти всегда производившее на Гоголя непостижимое действие: на него ниспадал род нравственного столбняка, который он сам изобразил в статье «Рим» этими чудными чертами: «Долго, полный невыразимого восхищения, стоял он перед таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер» и проч. После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно. Надо сказать, что Гоголь перечитывал в то время «Историю Малороссии», кажется Каменского, и вот по какому поводу. Он писал драму из казацкого запорожского быта, которую потом бросил равнодушно в огонь, недовольный малым действием ее на Жуковского; история Малороссии служила ему пособием
(#c_43). О существовании драмы я узнал случайно. Между бумагами, которые Гоголь тщательно подкладывал под мою тетрадку, когда приготовлялся диктовать, попался нечаянно оторванный лоскуток, мелко-намелко писанный его рукою. Я наклонился к бумажке и прочел вслух первую фразу какого-то старого казака (имени не припомню), попавшуюся мне на глаза и мною удержанную в памяти: