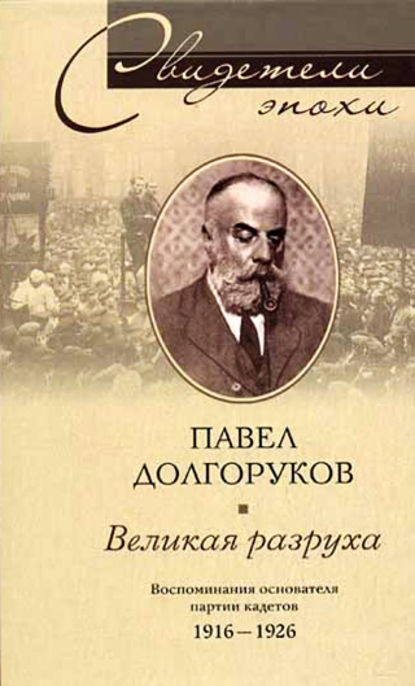По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Великая разруха. Воспоминания основателя партии кадетов. 1916-1926
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Свою речь и беседу я видоизменял сообразно обстоятельствам и состоянию частей. В штабе дивизии или корпуса я старался предварительно узнать, где и в чем выразилось разложение, и старался попасть в наихудшие в этом отношении части, чтобы помочь по возможности командованию. Командиры охотно и с благодарностью принимали мое предложение, иногда ухватывались за меня и указывали на слабейшие части вверенного им войска.
Так, например, один старый корпусной командир просил меня переговорить с Елецким полком. Он не знает, что с ним делать. Полк прогнал своего командира, который уже неделю здесь у него проживает и не может вернуться в полк, избравший себе молодого командира из ротных командиров. Он познакомил меня с изгнанным командиром, которого аттестовал как заслуженного боевого офицера и образцового требовательного командира полка. Последний, серьезный, симпатичный полковник, говорит мне, что понимает, что после происшедшего он не может командовать полком, но по настоянию начальства должен явиться в полк и принять командование хоть на несколько дней, чтобы в это время можно было вызвать в корпус самозваного командира и назначить командиром полка подходящего человека. Командир корпуса подтвердил мне это и сказал, что старому командиру он даст или другой полк, или бригаду.
Еду не без волнения в Елецкий полк с горячим желанием помочь разрешению конфликта. Подъезжаю к штабу полка, вызываю командира. Отсутствует. Объясняю адъютанту, что необходимо собрать офицеров, и, когда они подходят, предлагаю собрать полк через два часа, а пока я предупредил по телефону соседнюю часть, что приеду на беседу. Офицеры как-то мнутся, говорят между собой: «Как же без командира? Полк разбросан». Вызываю старшего по чину, полковника, объясняю цель моей поездки – объезд фронта по поручению Государственной думы и Временного правительства, что, кроме беседы, никаких исполнительных прав и поручений не имею и именем правительства и с согласия корпусного командира предписываю ему, за отсутствием командира полка, собрать офицеров и солдат полка. «Слушаюсь». (Полк был отведен в резерв.) Поговорив часа полтора с какой-то командой телеграфистов или телефонистов, сильно распропагандированной, возвращаюсь к ельцам. Собралось человек 350—400, очевидно, далеко не весь полк. Потом подошло еще человек 100. Начинаю беседу обычным христосованием. Рассказываю про посещение других частей, про дисциплину казаков, про себя, что я бывший член Думы, что теперь никакой должности и власти не имею, о необходимости додержаться до Учредительного собрания, не нарушая воинский устав и дисциплины, что равносильно предательству, и т. п. Прямо о конфликте с командиром не говорил, и они не касались этой темы, задавая обычные вопросы. Впечатление – среднее, неопределенное. Солдаты как будто остались довольны речью и беседой, под конец держались непринужденно. Перед беседой я поручил офицеру, сопровождавшему меня из корпуса, узнать, где находится выбранный командир полка. Он доложил, что он тут же в домике на опушке леса. Прощаясь с полком, я спросил: «Могу ли я рассказать в Москве и доложить правительству в Питер, что вы не будете слушать вздорных людей, не нарушите свой долг и воинскую дисциплину, что ельцы не сдадут фронт немцам и стойко постоите за Россию и свою свободу?» – «Вестимо постоим, к чему сдаваться», и даже несколько «благодарим покорно». Потом обращаюсь к старшему полковнику: «Потрудитесь провести меня к капитану…» Называю фамилию вновь избранного командира. Заминка. «Не знаю, где он в настоящее время находится». – «А вот в этом доме, – указываю ему, – проведите меня и скажите, что я хочу с ним поговорить». Идем. Входим. Пропускаю полковника. Потом тот выходит, вхожу в комнату я. Трое офицеров пьют чай. «Я хотел бы переговорить с капитаном… наедине». Двое не торопясь, нехотя уходят. Остающийся, совсем молодой человек, стоит, избегает все время смотреть мне в глаза, тупо молчит или неохотно, кратко отвечает. Прошу чаю, с утра ничего не ел. Прямо приступаю к делу, объясняю, что я штатский, без всякой власти над ним, являюсь добровольцем-посредником и обращаюсь к нему как русский человек к русскому и советую ему явиться к командиру корпуса, обещаю исходатайствовать перевод его в другую часть (по чрезвычайности обстоятельств, а не предание суду), а то полк может быть расформирован, он строго ответит, и сотни людей из-за него пострадают. «Ведь я же выбран солдатами, не сам себя поставил», – повторяет он тупо. «Не мне, штатскому, объяснять вам, что вы в корне подрываете дисциплину». – «Если кто и может поддержать в полку дисциплину, так только я, они мне доверяют». – «Но ведь даже приказ № 1 не дает права отстранять и выбирать командиров. Нарушение такое грубое дисциплины немыслимо в армии; это перекинется на другие части, да и в вашем же полку это послужит началом разложения и вас скоро заменит какой-нибудь демагог писарь или простой солдат». – «Но старого командира полк не пожелает вновь принять». – «Может быть, и сам он не пожелает после всего остаться в полку. Дело не в старом командире, я не знаю и не уполномочен вмешиваться, кто будет назначен, дело в вас, чтобы вы явились с повинной и чтобы старый ли, новый ли командир был назначен законной властью, а не беззаконно и самочинно». Молчит. «Такое отношение к службе равносильно, – говорю я, – измене и переходу на сторону противника». – «Но вы уже чересчур…» – «Не чересчур, а такая явная измена менее была бы губительна для русского фронта, чем ваши действия» и т. п. Упорно молчит или тупо твердит свое: «Не я захотел, меня выбрали». – «Почему вы не явились, когда я предложил всем чинам полка явиться на беседу?» – «Я не обязан». – «Так, значит, вы не признаете Временное правительство и Государственную думу?» – «Признаю». – «Ведь их именем и с разрешения командира корпуса я действовал». – «Я не знал» и т. д. Посоветовав ему еще раз явиться в штаб корпуса поскорее, что в его же интересах, пока я оттуда не уеду, я вышел. Около автомобиля толпились офицеры и солдаты. Я прощаюсь с солдатами. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» Подаю руку старшему полковнику: «За отсутствием командира полка полковника… обращаюсь к вам как к старшему офицеру полка с пожеланием, чтобы вам и всем офицерам удалось поддержать славу, дисциплину и служение родине Елецкого полка». Он низко кланяется и благодарит. С офицерами отдельно я нарочно не беседовал. По отрывочным фразам отдельных офицеров, когда я только что приехал, я убедился, что между ними разлад и что они кем-то запуганы, вероятно солдатами, как мне казалось по некоторым взглядам и оглядываниям, когда говорили со мной.
Когда мы отъехали, шофер-солдат сказал, что он опасался за мою жизнь, так как солдаты вообразили, что я приехал арестовать их командира, и некоторые имели при себе ручные бомбы во время беседы на этот случай.
На другой день я беседовал с другим полком того же корпуса и уехал от командира корпуса лишь после обеда, так и не узнав, чем все это кончилось. Из Елецкого полка никто не приезжал. Потом уже я где-то слышал, но не поручусь за достоверность, что все-таки выбранного командира как-то удалось устранить, чуть ли не арестовав его.
Нарочно так подробно остановился на этом эпизоде, как характерном, чтобы выявить всю трудность, подчас трагизм положения командования всего через полтора месяца после Февральского переворота.
Посетил я и Гвардейский кавалерийский корпус. Командовал тогда им молодой, бравый генерал Арсеньев. К моему удивлению, я узнал, что это сын К. К. Арсеньева, одного из редакторов «Вестника Европы», с которым приходилось встречаться на общественном поприще. Разложение коснулось уже и гвардии. Из осмотренных мной частей наиболее стойкими оказались казаки, потом кавалерия, потом пехота. Первым из гвардейских полков я посетил Конногвардейский. Я подъезжал к местоположению полка с ехавшим из тыла генералом Гартманом, который уже, неугодный полку, должен был сдать командование им, для чего и приехал. На станции никто из полка его не встретил. Не знаю истории его устранения и не помню, кто его тогда заменил. Беседа моя с чинами полка не представляла ничего особенного, и аудитория была немногочисленна вследствие растяжения линии расположения. Вся кавалерия несла пешую окопную службу, лошади были в обозе. Потом посетил остальные полки. Из петроградских знакомых офицеров встретил немногих, все более была незнакомая уже мне молодежь, а старшие получили или командное назначение в других частях, или были перебиты. Лейб-гвардии Гусарский и Уланский полки были растянуты длинной линией на передовых позициях по реке Стоход, а потому в окопах и в перелесках приходилось беседовать с небольшими группами офицеров и солдат. Никаких эксцессов и резкостей в этих частях не замечалось, но полковые и другие комитеты уже начали формироваться, и потом, по слухам, разложение быстро пошло и в гвардейских частях.
Война была в этом месте чисто позиционная, перестрелка вялая. Раз только, когда я беседовал под вечер в котловинке с группой улан, нас, вероятно, заметили, несколько снарядов перелетело, а когда они стали ложиться ближе, эскадронный командир просил прекратить беседу, пока не стемнеет.
Много времени отнимали переезды, приходилось ездить и в товарных вагонах и по временной дековильке[2 - Дековилька – переносная железная дорога с вагонетками (по имени изобретателя, французского инженера Decauville).]. Поезда были переполнены. К месторасположению частей ездил обыкновенно на автомобиле, иногда в экипаже, раз верхом. Перед Луцком, где я прожил три дня, выезжая оттуда на фронт, я получил в свое распоряжение маленький ветхий служебный вагон первого класса с двумя-тремя купе, в котором я и жил в Луцке. При переездах этот вагон прицеплялся к пассажирским и товарным поездам. В Луцке, в развалинах старого крепостного замка, мне пришлось выступить на вновь образованном комитете одной из армий, где я встретил московских знакомых.
Полковые и другие комитеты уже повсюду сформировались. Не буду говорить о них подробно: их печальная роль слишком общеизвестна. Иногда председатели и члены комитетов искренне старались помочь командирам частей сохранить фронт. Но по большей части они увлекались властью и своей ролью и, создавая двойственность власти, только портили дело. Но очень часто в комитеты выбирались самые плохие офицеры, демагоги, ухаживавшие за солдатами, чем-нибудь недовольные и озлобленные против своего начальства, которые свое новое положение и власть ставили превыше всего и с самого начала стремились подорвать авторитет командования. Мне приходилось не раз сталкиваться с отвратительными типами честолюбцев, демагогов и авантюристов-офицеров, которых выплеснуло на гребень революционной волны. Наверное, большинство их служат большевикам и преуспевают у них. Армейский комитет в Луцке был сравнительно приличен и интеллигентен.
Таким образом, на фронте я мог наблюдать ту же двойственность, а потому и ослабление власти, что и в Петрограде, и выводы из моего доклада о поездке были печальные.
Впрочем, с начала войны я мало ожидал от нее хорошего, хотя, конечно, такого печального конца с брест-литовским апофеозом, как революция, докатившаяся до большевизма во время военных действий, никак нельзя было ожидать. Уже в начале 1915 года, когда я со своим передовым отрядом Союза городов был в Галиции, на сотни германо-австрийских снарядов мы выпускали десятки, а потом единицы. Снарядов не было. Мы всю зиму проработали в Тарнове на Дунайце под ударами шестнадцатидюймовой «Берты», которая образовывала воронки в десять аршин диаметром, дробила окна, засыпала нас землей и камнями. Несколько раз попадал я под ураганный обстрел (раз со священником Востоковым на Дунайце, раз в Карпатах в Горлице, куда можно было из-за обстрела проникнуть только ночью и где через несколько дней произошел известный горлицкий прорыв, положивший начало всему галицийскому отступлению). И нельзя было в таких случаях показаться не только автомобилю, но и пешим, чтоб не быть забросанными снарядами. А у нас, когда Радко-Дмитриев, командующий 3-й армией, объезжал фронт, то все время только и говорил: «Берегите снаряды!» Невольно сопоставлялось с этим треповское «Патронов не жалеть!» на Дворцовой площади. Радко-Дмитриев, беззаветно храбрый боевой генерал, был принужден это делать, так как снарядов у его армии не было. И так во всем. Не буду здесь перечислять недочеты. Даже малостоящих и простых по производству осветительных ракет у нас в начале войны совсем не было, а австрогерманцы целыми ночами освещали ракетами подступы к своим позициям. И ведь это был их второстепенный фронт! И тогда же я пришел к выводу, что при современной военной технике мы, как более отсталые, не можем победить. Как и Турция, тогда еще огромная страна, не могла в семидесятых годах победить Россию, несмотря на храбрость и выносливость своих солдат и несмотря на многие у нас недочеты. Более культурная Россия не могла в конце концов не сломить отсталой Турции. В современной войне побеждает культурность вообще, в частности развитие промышленности. Виноват не один Сухомлинов, причины более глубокие, их искать надо в русском быте, в русской истории. И по свержении большевиков, чтоб Россия могла занять подобающее ей место, надо будет длительно поднимать до общеевропейского уровня ее промышленность, ее культуру, ее грамотность. Иначе России грозит участь Турции в Европе, то есть она будет оттиснута в Азию.
Последним я посетил по дороге в Киев отведенный в резерв Кавалергардский полк. Половина его стояла в Знаменке. Командир полка Шипов, племянник Д.Н. Шипова, просил меня посетить и другую половину полка на станции Шепетовка, куда мы с ним проехали в моем вагончике.
Всего за восемнадцать дней пребывания на фронте я произнес речи и вел беседу в тридцати трех частях, не считая бесед с маленькими группами телеграфистов, циклистов, железнодорожников и т. п. Так как приходилось говорить иногда перед многотысячной аудиторией, на ветру, при свежей погоде, то в Москву я приехал без голоса.
В Киеве, всем в цвету, прекрасном в весеннюю пору, я пробыл с утра до вечера. Уличная жизнь большого тылового центра била ключом. Масса военных. Проводник моего вагона на мой вопрос, докуда он может меня довезти, сказал, что ему ничего на этот счет не известно. Очевидно, я мог бы в нем проехать до Владивостока. Так как все поезда с фронта были переполнены, то решил его задержать еще на сутки и доехать до Москвы. Ввиду того, что вагон был крохотный, его охотно прицепили к скорому поезду. По дороге в Москву пришлось быть все время в осадном положении. Солдаты взобрались на крышу, сидели на ступеньках, ломились с руганью внутрь. Напрасно проводник увещевал, говоря, что вагон служебный. Ни разу не пришлось выйти из вагона. К счастью, со мной была провизия. За кипятком, хлебом и прочим проводник ухитрялся как-то вылезать через окно служебного отделения. В Брянске солдаты ворвались в коридор, но их удалось удалить, и они заняли уборную и тормозные коридорчики. Двери в коридор пришлось забаррикадировать досками так, чтобы ручки не отворялись. Всю ночь стучали в двери, в окна, на крыше, ругались, что не впускают. На станциях мы все шторы спускали. Стекла в выходных дверях оказались разбитыми. В Москве я не торопился выйти, пока не разошлись мои внешние неприятели, покидавшие фронт, но храбро взявшие приступом мой вагон. Этим тревожным путешествием окончилась моя поездка на фронт, с речами и уговариванием беречь фронт! Чем я не маленький Керенский? На вокзале меня узнал приехавший тем же поездом солдат, часть которого я посетил. Он меня благодарил, говоря, что очень уж я хорошо, благородно все им объяснил, что очень мною солдаты остались довольны. «Куда же едете? – «Домой, на Волынь». – «В отпуск или совсем?» – «Какой отпуск, еду домой. Все едут, чего же мне оставаться. Сказывают – мириться теперь будут».
Очевидно, те, которые говорили менее «благородно», добились более реального успеха, чем я.
Доклад и мешок с Георгиевскими крестами я представил в комиссию Государственной думы. Доклад был очень подробный, с цифрами, с копиями документов из штабов частей, с просьбами, с мнениями командиров. Если и другие делегаты представили подобные же доклады, то картина всего фронта в данный момент получилась бы очень яркая. Копию доклада я отвез в Военное министерство Гучкову, но не думаю, чтобы кто-нибудь прочитал даже целиком мой доклад, кончавшийся определенными тезисами. Общий же вывод был аналогичен московской резолюции: необходимость восстановления авторитета и власти офицера и устранение двоевластия.
Глава 3
Преддверие большевизма и Октябрьский переворот. 1917 год
(Москва и Московская губерния)
Летом 1917 года большею частью я жил в Москве, наезжал в деревню в Рузском уезде, ездил раза три в Петроград на различные совещания, а также на заседания Центрального комитета и на съезд К.-д. партии. В Петрограде митинги уже происходили на улице. Излюбленное место для типичных солдатских митингов было Конногвардейский бульвар. Никакой должности я не занимал и не стремился к этому, а когда партия наметила меня в Предпарламент, то отказался, так как не предавал ему никакого значения, выставив свою кандидатуру в Учредительное собрание, которое должно было вывести Россию из состояния почти анархического. Министры менялись, власть их постепенно умалялась, власть Совета рабочих и солдатских депутатов все росла, фронт окончательно разваливался, большевизм креп, становился на ноги, расправлял свои корявые члены.
В Московском кадетском клубе в Брюсовском переулке целый день кипела работа. Предвыборная кампания в Учредительное собрание сосредоточивалась здесь на всю Россию. Происходили ежедневно большие и малые заседания. Изготовлялись и рассылались плакаты и листовки, посылались лекторы и проч. Работало много молодежи. Энергично, как и всегда, работал Н.М. Кишкин, неутомимый организатор. Он уже в это время был комиссаром Москвы и успевал из Чернышевского переулка заезжать в наш клуб. Человек исключительной энергии и работоспособности, в государственном масштабе он оказался слаб. Общая трагедия русской интеллигенции! Государственного инстинкта в нем не было, и его соглашательские тенденции даже в то время смущали москвичей и осуждались.
Остановлюсь подробнее на этом примере, как характерном, тем более что Кишкин очень хороший человек и мой старый политический приятель и соратник. Когда он был назначен комиссаром, то Московский Совет рабочих и солдатских депутатов уже завладел генерал-губернаторским домом на Тверской и Кишкину пришлось расположиться во флигеле, в канцелярии в Чернышевском переулке. Но этого мало. Совет рабочих и солдатских депутатов захватывает себе и соседнюю гостиницу «Дрезден». Владелец ее Андреев жалуется Кишкину. Без последствия. Андреев доходит до Временного правительства, и даже оно удовлетворяет его просьбу. Кишкин и не думает даже привести в исполнение решение высшей власти! Совет не выселяют, и Андреева за захват никто не вознаграждает. Еще пример. Служащие «Мюр и Мерилиз» предъявляют владельцам неисполнимые и не выдерживающие коммерческого расчета требования. Кишкин предписывает удовлетворить эти требования, и за неисполнением его магазин закрывается, и все служащие оказываются безработными. Дворники предъявляют свои требования. Кишкин назначает обязательное минимальное жалованье дворникам в 100 рублей в месяц. А ведь в Москве еще вне Садовой много деревянных домишек уездного типа, владельцы которых, мещане и ремесленники, не в состоянии этого платить, и – массовое увольнение дворников, причем они не соглашаются съехать. И так все. Соглашательство, расстройство экономической жизни и – прогрессирующий паралич власти. Сам Кишкин работает вовсю, заставляет работать других. Эта работа удовлетворяет его энергичную натуру, ему кажется, что благодаря этой работе весь механизм начинает работать… Но энергия его не может восполнить отсутствия административного навыка и инстинкта государственности. Он до конца верит в Керенского. Я опасался, что Кишкин попадет в министры внутренних дел.
Впрочем, он был бы во всяком случае не худшим министром внутренних дел, чем Авксентьев. Двоевластие, а потому и безвластие, и чрезмерное соглашательство по всему фронту – в правительстве, в армии, внутри страны. Ансамбль не нарушался. О роли и деятельности городской думы говорить не буду, так как я не городской деятель и не непосредственный наблюдатель. О ней много писалось и еще будет написано.
Центральный комитет К.-д. партии постоянно собирался и, между прочим, обсуждал кандидатуру министров из партии, когда те сменялись. Интересный исторический материал представляли бы протоколы заседаний, если они сохранились, как потом и на юге России. В них запечатлелись тогдашние события в переживаниях политического центра. Ушел Львов, ушел Милюков, или, скорее, как теперь почему-то безграмотно говорится, – их «ушли». Они были слишком правыми.
Тогда началось первое серьезное расхождение Милюкова с партией. Когда он вышел из правительства, ему и некоторым другим казалось, что партия более не должна участвовать в правительстве. Большинство же находило, что раз мы приняли в критический момент участие во временной верховной власти, то и взяли на себя часть ответственности довести страну до Учредительного собрания, и что мы не должны дезертировать в трудный момент, хотя бы в чисто партийном отношении это было бы и выгодно. И мы вновь посылали министров, но уже без энтузиазма, как бы на заклание. Некоторые нехотя принимали пост после долгих колебаний, подчиняясь партийной дисциплине, но были и решительные отказы.
Помню, после одного такого заседания мы приехали с Шингаревым, министром финансов, в редакцию «Русских ведомостей». Там состоялось совещание с сотрудниками газеты (каковыми были и мы с Шингаревым) по поводу проектируемых Шингаревым для пополнения казны казенных монополий. Он энергично защищал их. Редакция высказывалась столь же энергично против, и потом все время газета вела кампанию против монополий.
Теперь, весной 1926 года, аналогичный вопрос поднят во Франции министром финансов Родлемом Пере и дебатируется в палатах. Кстати: призыв Эрио и других членов левого картеля идти на выборах с коммунистами против национального блока, почему коммунисты и побеждают иногда на выборах, напоминает выборный блок с.-р.[3 - С.-р. – социалисты-революционеры, эсеры.] и меньшевиков с большевиками при выборах в Учредительное собрание.
Ненадолго уезжал я в деревню. И тут в г. Рузе я участвовал на двух митингах на Городке, на высоком холму, обнесенном старинным валом, над рекой с чудным видом. Здесь я, во время моего предводительства, устроил от попечительства трезвости музей, читальню, гимнастический зал и прочее и превратил площадку городка в парк, вал – в бульвар. Эти собрания в нашем тихом, нефабричном уезде уже происходили очень бурно, главным образом благодаря солдатам, пришедшим из Клементьевского артиллерийского лагеря, и нескольким московским рабочим. Первое собрание они даже сорвали в начале моей речи галдежом и выкриками и не дали мне говорить, что очень смутило и возмутило горожан, привыкших видеть во мне в течение пяти трехлетий предводителя. Но через две недели я вновь устроил собрание и провел его до конца.
Уже при большевиках в 1918 году в Москве на улице остановил меня один человек и сказал, что он с.-р. и срывал мой митинг в прошлом году в Рузе, а вот теперь оба мы пострадали. И я и он попали в тюрьму. «Кто бы мог ожидать?» Я ему возразил, что я как раз тогда на митингах предупреждал и остерегал социалистов от поддержки большевиков. В моих же оппонентах в Рузе по приемам и речам нельзя было отличить социалистов от коммунистов. В Москве собрания, иногда бурные, происходили все-таки в лучших условиях. И в Москве мне пришлось на одном собрании пережить несколько неприятных минут из-за Милюкова. Я поехал на большой мусульманский, преимущественно татарский съезд в Замоскворечье для приветствования съезда от К.-д. партии. Говорю краткое приветствие и о взглядах партии на права национального самоопределения народностей. Жиденькие аплодисменты. Когда иду через залу обратно, то поднимается шум, вижу под ермолками возбужденные, даже свирепые лица и угрожающие жесты.
Провожающие меня смущенные члены президиума, среди которых был и член Государственной думы к.-д., объясняют, что это манифестируют фанатики-панисламисты криками «Проливы! Милюков!», протестуя против известного заявления Милюкова о Константинополе и проливах. Они вступились за единоверную Турцию.
В Москве начиналась дороговизна, но городская жизнь шла своим чередом. Вечером часто бывал в Английском клубе, сжатом лазаретом с начала войны в двух комнатах. Игра в карты и на бильярде продолжалась.
В деревне в конце лета начался бандитизм. В нашем мирном уезде по соседству с нами в селе Дуброве убили и ограбили священника и его жену. Он был добросовестным законоучителем в земской школе, в которую я часто заезжал. На похороны съехались священники с половины уезда, большинство которых я тоже хорошо знал как законоучителей. Настроение на поминках было мрачное, тревожное.
Помню, что я приехал в шарабане с кучером Сергеем, пятидесятилетний юбилей службы которого у нас на конюшне предстояло в этом году отпраздновать. Жив ли он? Он был замечательный троечник. Но всех моих лучших лошадей постепенно позабирали на войну, а у меня были доморощенные чистопородные лошади, полукровные пристяжки, призовые одиночки и тройки. Последний конский набор был особенно опустошителен, и члены комиссии – крестьяне особенно настаивали на заборе у меня кровных лошадей, не всегда для тяжелой работы, особенно без подготовки, пригодных. И на этот раз я ехал в шарабане на одиночке, или на старой заводской матке, или на невтянувшейся еще трехлетке.
На исходе лета я урвался на десять дней в Кисловодск, прелестный, освежительный со своим парком, нарзаном и Подкумком. Народу была масса из-за отсутствия во время войны заграничных курортов. Курзал переполнен.
В Москву приехал прямо на Государственное совещание, бывшее в середине августа в Большом театре. Керенский был тогда на зените своей популярности. Я слышал, как в трамвае две барышни с восторгом говорили: «Я встретила Керенского, едет в автомобиле…» – «А я вчера встретила его два раза!» О совещании скажу кратко, оно у всех на памяти, и много свидетелей живы, которые писали и будут писать о нем.
Двойственность, царившая в России повсюду и все усиливающаяся, наглядно была представлена двумя секторами партера. Один стоял за оберегание государственности, другой, социалистическо-большевистский, все делал для ее крушения. Бурные сцены с депутатом-казаком Карауловым и с раненым офицером. На сцене появляются бурно приветствуемые нашим сектором и большинством публики в ярусах генералы Алексеев, Корнилов. Первый говорит мягко, примирительно, последний – категорично, по-военному отчеканивая фразы. Левый (сидящий справа) сектор свистит, неистовствует. Милюков обвиняет правительство в слабости и к концу речи обрушивается на министров Чернова и… Авксентьева, с которым потом в Париже он все блокировал. Как всегда, своеобразную и язвительную речь произнес Шульгин. За мной ерзает на своем месте Пуришкевич, недовольный тем, что ему не дали слова, и подающий реплику с места. Кооператор Беркенгейм от имени нескольких миллионов кооператоров торжественно присоединяется к декларации гражданина Чхеидзе. За Керенским смешно и театрально все время стоят два адъютанта в морской форме. Он председательствует резко, нервно. Правый и левый сектора – два враждебных лагеря, слышны подчас насмешки, перебранка, иногда сопровождаемая жестами, сжатыми кулаками. Ненависть между обоими секторами, конечно, сильнее, чем у воюющих в то время между собой русских и немцев. На наш сектор особенно гадливое впечатление производит самодовольный, ухмыляющийся селянский министр Чернов, окруженный во время перерыва депутатами-крестьянами. Какая-то чуйка фамильярно хлопает его по плечу. Особенная ненависть на левом секторе к офицерству. Я сам слышал, когда проходил офицер из Союза георгиевских кавалеров без руки, солдатский депутат, кто-то крикнул оттуда: «Оторвать бы ему и другую руку!» Вообще, Государственное совещание, которое должно было найти общий язык, объединить страну, подпереть колеблющуюся власть, оказалось антигосударственным митингом, показавшим взаимное озлобление и непримиримость, подчеркнувшим бессилие барахтающегося между двумя течениями, тонущего правительства. В виде демонстрации истории революции, как характеризовал это Керенский, – речи Крапоткина, Плеханова, Брешко-Брешковской. Символическое рукопожатие представителей двух секторов – Бубликова и Церетели, оказавшееся лжепророчеством.
Керенский начал свою заключительную речь твердо, со своими обычными паузами и обрываниями, срывая иногда аплодисменты и на нашем секторе. Но сидевшие за мной некоторые члены 4-й Думы, из которых я мало кого знал, злобно шипели: «Фигляр! Шарлатан!» Потом Керенский как-то вдруг сдал, и это в момент, когда он, очевидно, хотел себя проявить диктатором. Он заговорил что-то о железе и крови, к которым прибегнет, если хотят этого. Какой-то женский голос сверху крикнул: «Не надо, Александр Феодорович!» Керенский в изнеможении опускается на кресло и умолкает. Театральный жест не удался. Общее смущение. Министры и публика начинают подниматься, чтобы уходить. Родзянко из первого ряда говорит все сидящему на сцене за столом Керенскому: «Александр Федорович, вы забыли закрыть совещание». Керенский объявляет Государственное совещание закрытым. Был ли это припадок, которыми, кажется, страдал Керенский, или результат переутомления? Но финал не скрасил заседания, и все вместе не могло успокоить страну.
Наш сектор имел много пофракционных и объединенных совещаний и докладов в аудиториях университета, между прочим, с генералами. Левые тоже где-то собирались.
При приезде Корнилова с фронта толпа, кажется большею частью офицеры, его восторженно встретила и вынесла с Александровского вокзала на руках.
Так как партия меня выставила кандидатом в Учредительное собрание по Московской губернии, то с сентября я начал объезд уездных городов и до переворота успел побывать на собраниях в большинстве уездов. В помощь себе я обыкновенно брал одного из выдававшихся ораторов среди нашей студенческой фракции.
В Москве шла отчаянная борьба. Постоянные собрания. Но, насколько помню, уличных митингов еще не было. Был последний месяц перед большевистским переворотом. Большевики при помощи социалистов все более наседали. На Страстной и Арбатской площадях через улицу были протянуты полотнища с призывом голосовать за объединенный список с.-р., с.-д.[4 - С.-д. – социал-демократы.] меньшевиков и с.-д. большевиков. Это объединение и помощь социалистов в проведении большевизма не должны быть забыты.
В Подольске на предвыборном собрании я встретил сплоченную оппозицию в лице рабочих фабрики «Зингер» и цементного завода. В одном из фабричных центров – г. Богородске, где морозовская и много других фабрик, – на собрании у рабочих имел большой успех приехавший из Москвы анархист. После наших речей он взял слово для возражения, стал меня высмеивать и паясничать, смеша аудиторию. Меня поддерживали всюду торговцы, обыватели и местные к.-д. – интеллигенты. Собрания устраивали местные уездные комитеты нашей партии. Как эти два собрания, так и остальные прошли все-таки в общем удачно и по отзывам местных к.-д. производили хорошее впечатление. Мне с молодыми моими коллегами не трудно было возражать, а иногда припирать к стене местных социалистов.
Когда я вечером ехал в Москве на вокзал для поездки в середине октября в Верею и Можайск, то уже слышались отдельные ружейные выстрелы. По слухам, в Петрограде Временное правительство пало. На следующее утро приходит ко мне в Верее (верст 30 от железной дороги) пожилой комиссар города и просит отменить собрание во избежание беспорядков. По его сведениям, в Москве идет бой. А афиши уже были расклеены по городу. Я настаиваю на неотмене собрания в маленькой Верее, ссылаясь на свой опыт и на то, что и в фабричных городах собрания прошли благополучно. Он уверял, что с наро-фоминской фабрики в Верею направляется толпа рабочих, чтобы сорвать собрание, и беспорядок может перекинуться на улицу. Как я ни возражал, пришлось подчиниться распоряжению растерявшегося начальства, и я уехал в Можайск. Я уверен, что собрание прошло бы благополучно.
Так как я приехал ночью, то до утра дремал, сидя в буфете вокзала. Из Москвы действительно шли тревожные вести.
В Можайске собрание прошло очень гладко, несмотря на присутствие железнодорожных рабочих и служащих.
В Москву я приехал поздно вечером. Александровский вокзал оказался уже во власти большевиков, которые никого не пропускали ночью в город. Пришлось опять переночевать, сидя в буфете переполненного вокзала. Ночью я выходил несколько раз на площадь. Вокзал был оцеплен редкой цепью большевиков, как мне казалось, из фабричных рабочих. Слышались редкие выстрелы. Виднелось зарево около храма Спасителя, где я живу. Разговаривал с большевиками и с вокзальной публикой. Оказывается, были уже кровопролитные бои, пожары. Кремль и центр города еще не взяты.
На следующее утро, часов в 9, когда обыкновенно уже бывает движение, иду с вокзала, хотя меня уверяют, что пройти в город не удастся. Слышна сильная ружейная стрельба и редкая орудийная. Стараюсь идти переулками, избегаю площадей. Все магазины заперты. На улицах почти никого. У встречных солдат и вооруженных штатских красные банты или повязки. К Никитской площади не мог подойти: там сильная ружейная и пулеметная трескотня. На Кудринской площади тоже. Из приотворенных ворот и дверей боязливо выглядывают любопытные. Переулками пересекаю Никитскую, Поварскую, Арбат. Через большие улицы стараюсь пройти скорее, когда никого не заметно. Хотя выстрелы близко, но не было заметно, где проходит боевая линия. Около Поварской заметил молодых людей уже с белой повязкой. Объясняют мне, что организовалась не то оборона, не то охрана. Оказывается, что я уже в стане белых. Не советуют идти на Арбатскую площадь, где Александровское военное училище и штаб полковника Рябцова, так как она сильно обстреливается из орудий. А мой дом рядом с Александровским училищем. Пошел на Сивцев Вражек, пересек Пречистенский бульвар и попал наконец к себе в дом с наглухо закрытыми воротами.
Оказывается, все сидят по домам, на улицу не выходят. Наши запаслись кое-какой провизией. Когда канонада стихает, бегают за подкреплением в дома, где есть лавки, хотя с улицы они заперты. Не помню, действовало ли электричество.
Так как наш дом рядом с Александровским училищем, контрреволюционным штабом, то в него и в обширную при нем усадьбу попадало много снарядов, несколько десятков. Бьют, как говорят, с Воробьевых гор. Но повреждения не велики: пробита крыша в нескольких местах, снесена труба, повреждены каменные ворота. Раз, когда мы сидели у себя внизу, послышался наверху сильный разрыв снаряда, напомнивший мне «Берту» в Тарнове. Оказывается, снаряд влетел в трубу и разорвался в ней. Вся комната во втором этаже, в которой никого не было, была в копоти и усыпана щебнем. Несколько раз, когда я выходил, картеченки, утерявшие живую силу (вероятно, от рикошета), обсыпали меня и катились по асфальту двора.