По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детям моим. Воспоминания прошлых лет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оно жило пред нами своею жизнью, ежечасно меняло свой цвет, то покрывалось барашками или нахмуривалось, то, напротив, истомно покоилось, лениво, еле-еле плескаясь о берег. В другом месте находки наши ничего не стоили бы; но тут, на морском берегу, это было особенное. Зелено-синие вдали и зелено-желтые вблизи цвета, влекшие мою душу и пленительно зазывавшие все существо с самых первых впечатлений детства, они собою все осмысливали и все украшали. Дары моря, как смычком, вели по душе и вызывали трепетное чувство – не чувство, а словно звук, рвущийся из груди, – предощущение глубоких, таинственных и родимых недр, как весть из хризоберилловых и аквамариновых недр бытия. Ведь эти зеленые глубины были загадочною разгадкою пещерного, явного мрака, родимые, родные до сжимания сердца. И деревяшки, обточенные морем, гладкие, теплые, как и теплые гладкие камни, все – солоноватое на вкус и все пахнущее чуть слышным йодистым запахом, – оно было мило сердцу, свое. Я знал: эти палки, эти камни, эти водоросли – ласковая весточка и ласковый подарочек моего, материнского, что ли, зеленого полумрака. Я смотрел – и припоминал, нюхал – и тоже припоминал, лизал – опять припоминал, припоминал что-то далекое и вечно близкое, самое заветное, самое существенное, ближе чего быть не может.
Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубь, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная – все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глуби; и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого – даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.
Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне – разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, – в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, – ушло, а все-таки навеки со мною.
Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеле-ном свечении круксовой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью – из которой все течет и в которую все возвращается.
Она звала меня, и я был с нею. // В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестки, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого и провеянного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает приникнуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров – томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы jurare in verba magistri
, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детски-гениальную личность этих учителей.
И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родное ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти – в свой черед – расчленяются ритмами третьего порядка, те – четвертого и т. д., и т. д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны – еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря – оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это – узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли – тоже капли – в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там – в ритмах – слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.
Пристань. По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами – выходами червей древоточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», – в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинственные письмена. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами, тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные коренья – марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями – по тогдашней оценке – толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолою, – словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая, и по ней – маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, – от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они – ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его, но опять – то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана.
Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд: и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медлительно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные коренья или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей – греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т. д. и т. д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума, – кого тут не было! И все – в особых одеждах. Все было необычно, – все: и запахи, и звуки, и цвета – поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное – всего много, много, много… Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личною жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни.
Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими в даль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливцам людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных дерев красные и зеленые попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на водах, как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломятся под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках дерев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья – гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые, – я считал, что бадьян дерево, – и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово ароматы казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.
А все эти звуки и запахи – на фоне прибоя синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, – и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.
И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, – вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубоко синего моря, этот мир омывающего и его питающего.
// Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы – смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь – это то же самое море, но сокрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.
Я прислушивался к волнам. Истомно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны – одна, другая, третья… Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, – может сбить с ног. Потом – опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то – опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые. Мне что-то отвечали, что – не помню. Но я и без ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно напрет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.
Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки – разве можно было усумниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое направление ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос о жизни Моря.
Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как первичный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, – я принимал ее наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, – что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого факта, я добивался подробностей о смысле отдельных явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно нет: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.
Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что неспроста оно. В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое место занимает это не простое среди различных частностей первичного факта, тоже не простого».
Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний, – а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, – я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насупился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», – примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесток и цветов морской поверхности.
В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрестанно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытащенные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе.
Гостиница «Франция». Венецианские лавочки. Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница «Франция» – «Отель де Франс» – значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. Meщанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скупость и скопидомство – Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с раннейших лет я знал, и знал, и говорил наизусть «Фауста» по переводу Вронченки, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил с Германией и считал их просто человеческими. Культура же – это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.
Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсинными деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было – бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, – есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря, грызть маленьких рачков, пахнущих тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.
Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулок направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацкие кабачки, лепились маленькие лавчонки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули кальян. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется, и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомыми входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово– и красно-коралловыми вещицами, раковинами, венецианскими бусами и заодно – толстейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными принадлежностями. Лавчонка была сказочно хороша. Наскоро сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевельнуться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой грубой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей – как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний – словно натеки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец, – наверное, он был контрабандистом, – вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так прилично говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнонаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.
Но лучше всего были венецианские бусы. // Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочною отчетливостью, сразу, почти не смотря, различал ручное производство от машинного. И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитою в нем жизнью, его организующею, весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну.
В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между да и нет, как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически, – как состояние своего тела, – ощущал я с полною живостью качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рёскину, но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рёскине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно правдивы и потому прекрасны; каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути, была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу.
Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные – с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Любы и формы их, в очертаниях своих не имевшие ничего механически правильного, целестремительные – все, подходящие к известному типу постольку и в той мере, поскольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому их хотелось трогать рукою, осязать и концами пальцев, и ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.
Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, – не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого вещества бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, – вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы образовавших.
Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоявления, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, что он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Чрез эти бусы, посредством их, вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его – не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с его правдою и его красотою, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?
Изобилие. Я любил море за его тайну – тайну его наполняющего всю массу цвета, тайну его влекущего запаха и шума, тайну его горько-соленой воды, столь поразительно похожей на слезы, тайну странных существ, живущих в нем. Была внутренняя близость между ним и мною. Главное же, оно не подавляло изобилием. Тот, заморский, мир был и запредельным, он казался почти неземным. А в самом море, тут же у берега, не было чрезмерной производительности, и, скорее, его следовало бы назвать с Гомером «бесплодным». Качественно полное, оно не подавляло количеством своих дел. Я видел его творческую мощь, но сдержанная мощь эта была лишь возможностью, и не томила дух. Но береговая производительность стран тропических и тут, на побережье Черноморском, имела свои отличия.
<III>. Природа
1923.IV.8. У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старшая меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение – то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их – там; в них – старость и вместе духовная одряхлелость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полусознательное, в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности. Это какая-то бескрылость, но, впрочем, до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут они все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свой долг, как нечто само собою разумеющееся. // Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это – именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссякает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету. Может быть, если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.
Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как будто прямо противоположное.
Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее – не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.
Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних.
А со стороны окружающих – признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом ее характера и пред редкою красотою ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, – несомненно силою личного признания.
Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, – что я говорю – услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д., и т. д., – всего и не перечислишь, – эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия – кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое – это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, – почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное – это деление абсолютное, и сделать неприличное – хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, – сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово – такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее – ничего не может быть, кроме одного: мысли о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, – и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.
Но, повторяю, неприличное – это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно – табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвигнули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, – доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон, но никак не внятными, да еще вдобавок сообща, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг слов – табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?
Во всяком случае, в нашей семье были какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один – нравственная pruderie
, а другой – такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.
Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения – бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиамскими близнецами или, скорее, боа констриктором. Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить – все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы – право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.
Все, что может быть неблагородного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. ничем, практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, – эти люди, эти отношения.
Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них, – разумею пространственное расстояние, – вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство, вероятно, правильнее всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству. Мое чувство своего тела так естественно присуще мне, что я замечаю его, лишь когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, но малейшее недомогание его, когда оно выполняет мою волю; слабость, боль, собственные его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что, коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге, помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношение к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д. – это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова – одна. Но вот противное – оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, – это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.
Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться, по меньшей мере, странно. И я, в теплом гнезде наилучших – так, по крайней мере, оценивал их – людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.
Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерею крови: назову его несколько приблизительно фарисейством. А то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикою у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но – не возмутить скандалом.
Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания – совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «II faut lui donner un verre d’eau avec sucre»
, – и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный – непременно граненый – стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est tres nerveux»
, – и, делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», – причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес [бы] Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mon-des», «Deutsche Rundschau» или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavisse et Rambeau». He сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так есть в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.
Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное – в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.
Достоевский, действительно, – истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой – или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал, – вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамомделишнего греха и подлинного падения.
Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одинокими.
Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей, т[о] е[сть] не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостоивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, скорее, отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен – в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.
Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегающих волн, сливающийся из бесконечного множества отдельных сухих шумов и отдельных шипящих звуков, шелестов, всплесков, сухих же ударов, бесконечно содержательный в своем монотонном однообразии, всегда новый и всегда значительный, зовущий и разрешающий свой зов, чтобы звать еще и еще, все сильнее, все крепче; шум прибоя, весь состоящий из вертикалей, весь рассыпчатый, как готический собор, никогда не тягучий, никогда не тянущийся, никогда не липкий, никогда, хотя и от влаги, но не влажный, никогда не содержащий в себе никаких грудных и гортанных звуков; эта зеленизна морской воды, зовущая в свою глубь, но не сладкая и не липкая, флюоресцирующая и высвечивающая внутренним мерцанием, тоже рассыпчатым и тоже беспредельно мелким светом, по всему веществу ее разлитым, всегда новая, всегда значительная – все вместе это, зовущее и родное, слилось навеки в одно, в один образ таинственной жизнетворческой глуби; и с тех пор душа, душа и тело, тоскует по нему, ища и не находя, не видя вновь искомого – даже во вновь видимом, но теперь уже иначе, внешне лишь, воспринимаемом море.
Того моря, блаженного моря блаженного детства, уже не видать мне – разве что в себе самом. Оно ушло, вероятно, куда уходит и время, – в область ноуменов. Но этот ноумен когда-то воистину виделся, обонялся, слышался мною. И я знаю тверже, чем знаю все другое, узнанное впоследствии, что то мое познание истиннее и глубже, хотя и ушло от меня, – ушло, а все-таки навеки со мною.
Но отдельные явления порою вдруг всколыхнут это сокровенное знание, и оно снова обнажится и приведет в трепет. Во флюоресцирующих веществах, особенно в яблочно-зеле-ном свечении круксовой трубки, я снова чуть-чуть вижу его, море моего детства; в запахе водорослей, даже пузырька с йодовой тинктурой, обоняю то метафизическое море, как слышу его прибой в набегающих и отбегающих ритмах баховских фуг и прелюдий и в сухом звонком шуме размешиваемого жара. Но я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред родимой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью – из которой все течет и в которую все возвращается.
Она звала меня, и я был с нею. // В душе же моей неизменно стоит зов моря, рассыпчатый звук прибоя, бесконечная самосветящаяся поверхность, в которой я различаю блестки, все более и более мелкие, до малейших частичек, но которая никогда не мажется. А тело мое просит морской солености, воздуха, соленого и провеянного йодом, тоже рассыпчатого воздуха, несущего мельчайшие кристаллики соли, и порою сладостно бывает приникнуть хотя бы к пузырьку с йодовой настойкой. Мучительно хочется именно морского вкуса, морской рыбы, омаров – томит голод по морской пище, и, кажется, попадись куча морских водорослей, я съел бы ее всю. А ведь «хочется» того, в чем есть потребность и чего не хватает организму. Мне-то и не хватает тех вкусовых и питательных веществ, которые, по эволюционистам, по Кентону, например, были первичными у жизни. Правда, я ничуть не верю эволюционистам; но, думается, сам Кентон не развил ли свою теорию вовсе не по рациональным мотивам, а рассказывая себе сладостную сказку на основании морских впечатлений детства. Если бы ученики и последователи поняли, на чем, собственно, держатся теории их учителей, на каких чуждых рациональности интуициях детства, они перестали бы jurare in verba magistri
, но вместе с тем глубже постигли бы затаенную, детски-гениальную личность этих учителей.
И еще: в математике мне внутренне, почти физически, говорят родное ряды Фурье и другие разложения, представляющие всякий сложный ритм как совокупность, как бесконечную совокупность простых. Мне говорят родное непрерывные функции без производных и всюду прерывные функции, где все рассыпается, где все элементы поставлены стоймя. Вслушиваясь в себя самого, я открываю в ритме внутренней жизни, в звуках, наполняющих сознание, эти навеки запомнившиеся ритмы волн и знаю, это они ищут во мне своего сознательного выражения чрез схему тех математических понятий. Да. Потому что ритмический звук волны изрезан ритмами более мелкими и частыми, ритмами второго порядка, эти – в свой черед – расчленяются ритмами третьего порядка, те – четвертого и т. д., и т. д., как бы далеко ни пошли мы, ухо не слышит последней расчлененности, уже далее нечленимой, нечленораздельной, как грудной звук, дающийся сознанию, но всегда звук кажется сыпучим, а непрерывность волны – еще и еще изрезанной, до бесконечности расчлененной и потому всегда дающей пищу умному постижению. Впоследствии, когда я услышал знаменитые ростовские звоны, где сплетаются, накладываясь друг на друга, ритмы, все более частые, мне опять вспомнилось ритмическое построение морского прибоя и фуги Баха, исконные ритмы моей души. В самом деле, шум прибоя слагается из шумов от падения отдельных капель морской воды. Лейбниц уверяет, будто мы не слышим этих отдельных падений и лишь суммарный шум доходит до нас. Но это неправда, мы слышим их, слышим и падение капли, и падение частей капли, и так до беспредельности, когда прислушиваемся, когда войдем во впечатление, сложившееся от прибоя в самом сердце, в глубинах нашей души: там открываем мы бесконечную сыпучесть звука, всегда сыпучего, всегда четкого и сухого в малейших своих элементах. Таинственная, бесконечная поверхность моря бесконечна и по содержанию своему, по своему звуку, как бесконечна она и по зернистости, тончайшей зернистости своего свечения. Ропот моря – оркестр бесконечного множества инструментов. Есть один звук, родственный ему по содержательности и тоже возникающий в рождающих недрах бытия. Это – узор нагоняющих и перегоняющих друг друга ритмов, когда падают капли – тоже капли – в пещерах, где сочится со сводов и стен вода. И там – в ритмах – слышны еще и еще ритмы, и тоже до бесконечности. Они бьются, как бесчисленные маятники, устанавливающие время всей мировой жизни, разные времена и разные пульсы бесчисленных живых существ. И, когда войдешь в мастерскую часовщика, то там опять слышен похожий шум от множества маятников, тоже родимый, тоже напоминающий земные недра и глубь морскую.
Пристань. По-другому, зазывнее, ближе, но таинственнее и притягательнее, втягивала эта глубь мое существо на пристани. Большие деревянные сваи и балки, вбитые в морское дно, словно иссечены таинственными иероглифами – выходами червей древоточцев. А я хорошо помнил, именно в таких отверстиях живут неведомые существа, бука, о чем мне как-то нянька, когда я весь ушел в рассматривание темного хода в балконном столбе, так и сказала: «Здесь живет бука», – в ответ на мои чересчур настойчивые вопросы. Я отлично понимал, уже тогда понимал, что истину откроет мне лишь простой человек, и, узнав ее от няньки, сразу внутренне согласился, что это именно так, но, разумеется, чтобы не входить в лишние разговоры, скрыл от родителей свое открытие и только многозначительно молчал, когда мне говорили о червях. Так тут, на пристани, этих бук было без числа, и притом уже не скрывающихся и написавших на сваях весьма таинственные письмена. На этих сваях были настланы толстые доски, а между ними оставались широкие щели. Доски всегда чисты, как вообще всегда чисто все, что имеет отношение к морскому делу. Всегда стирается с них омертвевший, сгнивший и дряблый слой, но кое-где пролита смола, нефть, деготь. Пахнет дегтем, смолами, морем и разными экзотическими товарами, тюки которых сложены тут же. Рассыпаны странные коренья – марена, куркума, какие-то еще. В разных местах сложены целыми башнями – по тогдашней оценке – толстые-претолстые канаты, бодро пахнущие дегтем и смолою, – словно катушки великанов. Сквозь щели настилки видна под ногами темно-зеленая лоснящаяся вода, поверхность невозмущаемая, медлительно и лениво колыхаемая, маслянистая, и по ней – маслянистые, еле приметные движения, образующие крупную скользящую сетку зеленых змеек. Что такое эти золотисто-зеленые змейки? Откуда они? Этот вопрос всегда держался в моей голове, и, Боже мой, сколько я о нем думал! Много раз я задавал его вслух, но получал недоумевающий ответ, что это только кажется, – от движения воды. Но ответ меня глубоко не удовлетворял. Я чувствовал, что не понят самый вопрос, что на мой вопрос недоумевают. А не понят потому, что не увидено то, что я видел. Я же видел змей, игравших на поверхности, переливавших изумрудом и хризолитом, чарующе прекрасных и ласковых, добрых ласковых змеек, которым хочется вступить в общение со мною. Я видел их, я чувствовал их и знал, что они – ласковые, добрые и красивые змейки. Мне хотелось лишь получить подтверждение своему, услышать в подробностях, узнать, как ближе сойтись с ними, как их потрогать, поцеловать их и с ними объясниться. А мне просто отрицали их существование, да и не их только, но и вообще существование чего бы то ни было особенного, что я видел в игре воды. И тогда я надолго затаивал свой вопрос и то, что я видел, в себе самом. Потом, через некоторое время, я снова задавал его, но опять – то же непонимание. Нужный мне ответ о милых зеленых змейках и подтверждение своему знакомству с ними я услышал лишь значительно позже, уже студентом, от студента Ансельмуса в «Золотом горшке» Гофмана.
Тут, у пристани, вода была особенно таинственна. Прозрачная, насыщенно-зеленая, как огромный изумруд: и вся светилась, напоенная светом, ядовитым и полным угрозы, но преисполненная и творческих сил. Медлительно по ее маслянистой поверхности скользили лоснящиеся, еле видные волны, лениво ластясь к сваям пристани и к борту парохода. Раскинув свою чашечку и щупальца, в воде нежились большие и малые медузы. Медленно проплывали, колыхаясь и покачиваясь в изумрудной влаге, их опалесцирующие голубоватым светом тела. Проплывали стаи мелких рыбешек, и изредка виднелся в глуби силуэт рыбы побольше. Кое-где поверхность воды переливала радужными нефтяными пятнами. С парохода выносили тюки, из которых сыпались таинственные коренья или семена; тащили клетки с попугаями, грозди бананов, кокосы, мешки американских треугольных орехов, земляных фисташек. Слышались всевозможные языки и говоры. На пристани можно было видеть людей самых различных национальностей – греки, турки, армяне, грузины, французы, англичане, бельгийцы, немцы, итальянцы и т. д. и т. д., даже негры, колония которых расположилась невдалеке от Батума, – кого тут не было! И все – в особых одеждах. Все было необычно, – все: и запахи, и звуки, и цвета – поддерживало одно другое, возбуждая чувство таинственного. И главное – всего много, много, много… Конца нет производительной мощи природы. И все это «много» приносится вот этой прозрачной, зеленой, флюоресцирующей поверхностью моря. В глубине его таятся бесчисленные жизни, странные и вместе прекрасные животные и растения, из которых каждая внутренне связана со мною, внутренне соотносится с моею личною жизнью, посылает в нее истечения своего бытия и признает в ней за равного среди равных, за члена бесконечного царства таинственной, мерцающей флюоресцирующим светом жизни.
Отец рассказывал нам о путешествиях по далеким странам и, кажется, сам увлекался картинами экзотической или далеко-северной природы. Рассказывала и тетя. Влажный, соленый и смолистый воздух вместе с манящими в даль рассказами обращали все внимание, всю душу к пароходам и счастливцам людям, плывущим по хребту моря в далекие страны, где высятся упругие пальмы, обремененные кокосами и финиками; где раскачиваются на ветвях необыкновенных дерев красные и зеленые попугаи, и щелкают таинственные, трехгранные и темные, американские орехи, и говорят, конечно, по-русски, странные изречения, полные таинственного смысла; где порхают по огромным ярким и благоуханным цветам милые колибри; где жирафы тянутся своими шеями выше самых высоких деревьев, где растут гигантские раффлезии Арнольди и плавают на водах, как подушки, в полтора, два аршина поперечником пышные виктории регии, на которые мне так хотелось сесть и полежать. Широколистные бананы ломятся под тяжестью гроздьев. Пестрые и таинственные орхидеи восседают, как птицы, на суках дерев, спуская свои корни, подобные белым жирным червям. Обезьянки лакомятся бананами и швыряют шкурки в неуклюжих слонов. Пряные и теплые дуновения веют меж густых лиан: это бесчисленные благовонные деревья – гвоздичные, кардамонные, мускатные, бадьяновые, – я считал, что бадьян дерево, – и вьющиеся плети ванили растворяются в воздухе и наполняют его своими запахами. Самое слово ароматы казалось таким полнозвучным и многозначительным. Огромные колючие кактусы цветут белыми и красными венчиками.
А все эти звуки и запахи – на фоне прибоя синего-синего моря, жемчужными волнами набегающего на золотые пески плоского берега. В море же цветут чудные кораллы, плавают диковинные рыбы, ползают чудовищные лангусты и крабы. Конечно, тут же, но несколько поодаль, в тени сознания, как не очень-то приятное, – и киты, и кашалоты, и акулы, и в особенности рыба-молот, и рыба-пила, и нарвал. Тут, у нас в Батуме, все затаило в себе таинственную свою сущность; там же, в далеких заморских странах, она выступает в подавляющем блеске и величии.
И все это бесконечное богатство красок, цветов, запахов, заставлявшее цепенеть мой ум и спиравшее дух волнением, – вся эта полнота производится морем. Весь этот заморский мир представлялся в моем воображении как бы выросшим, как бы поднявшимся из синего, глубоко синего моря, этот мир омывающего и его питающего.
// Там, под лучами жгущего солнца, море откровеннее, там оно показывает свои приливы и отливы, увидеть которые хотелось мне почти до тошноты, до сердцебиения. Там по морю несутся водяные столбы – смерчи, там встают волны высокие, в пятиэтажные дома. Но ведь и здесь – это то же самое море, но сокрывающее свои силы и свою жизнь в тайне своих волн.
Я прислушивался к волнам. Истомно набегают, как вести далеких стран из неизвестности, волны – одна, другая, третья… Но потом неожиданно волна сильнее и, когда купаешься, – может сбить с ног. Потом – опять волны, ленивые, ластящиеся, несколько их, а то – опять сильнее. Я спрашивал, почему волны не одинаковые. Мне что-то отвечали, что – не помню. Но я и без ответа знал, почему: когда кто раздражен и сдерживается, то говорит как будто спокойно, но неожиданно напрет на какое-нибудь слово, и раздражение обнаружится. Так и море. Оно хочет скрыть свою мощь, но время от времени проговаривается сильной волною.
Лежа на прогретых солнцем гальке и гравии, я часами смотрел на море. Его бороздили полосы сине-стальные, поверхность его не была однородна. Отчего же эти полосы и пятна? Мгновенно менялся цвет моря, лишь только набегало на солнце малейшее облачко: море нахмуривалось, явно недовольное. На морской поверхности вспыхивали, как золотые рыбки, искорки – разве можно было усумниться, что в море что-то происходит значительное? Мне, на вопросы мои, старшие что-то объясняли, но эти объяснения шли мимо вопросов, и я даже не считал нужным их оспаривать: старшие так любили меня и так мало, казалось мне, понимают истинный смысл моих вопросов. Всякий вопрос ведь уже предполагал некоторый ответ или, по крайней мере, некоторое направление ответа. Но объяснения взрослых не считались с этим смыслом и просто не признавали того, что, собственно, и составляло мой вопрос: они уничтожали вопрос, мой основной вопрос о жизни Моря.
Да, я видел, я ощущал, что море живет, и жизнь его я принимал как первичный факт, не нуждающийся в дальнейшем объяснении, – я принимал ее наравне с самоощущением собственной моей жизни. Когда же я спрашивал «почему?» о зеленых змейках, о переменчивости цвета морской поверхности, о ломающемся ритме прибоя, об обточенных морем палках и о множестве других подобных явлений, то я, во-первых, хотел получить подтверждение тому, что знал и сам в самой основе, – что море живет, что оно живое и таинственное существо; мне хотелось от окружающих услышать то же, некое аминь своему опыту. А во-вторых, уже по общему признанию этого факта, я добивался подробностей о смысле отдельных явлений его жизни, о вспышках света, об улыбках и угрозах моря. Мне отвечали в том духе, что привлекающего меня явления, как живого, собственно нет: это явление взрослые делали чем-то случайным и внешним, зависящим от случайных и внешних причин.
Мне отвечали, что это «просто отражение света», «просто течение на поверхности», «просто волны» и т. д. Мне хотелось углубиться в жизнь моря, которая, повторяю, была для меня фактом; мною доискивались те тайные силы внутренней жизни, которыми производится данное явление. А взрослые вытаскивали явление на поверхность, говорили, что оно очень просто и внешне. «Мне лучше знать, что оно не просто, что неспроста оно. В этом-то я не раз убежусь. А я прошу сказать, какое место занимает это не простое среди различных частностей первичного факта, тоже не простого».
Переводя тогдашние свои мысли на язык более поздний, – а я знаю, что верно передаю суть моих ощущений и смутных дум, – я сказал бы примером: «Я вижу человека; его жизнь для меня факт. Так вот, не отрицая этого факта, объясните, почему он, словно без причины, улыбнулся, а сейчас вот насупился. Объясните, какие впечатления или мысли вызвали игру его лица?» Мне же в ответ: «Это у него сократились такие-то и такие-то мышцы, ибо прошел по таким-то и таким-то нервным путям соответственный импульс», – примерно так. Но ведь это разве был бы ответ на мой вопрос, ответ, которым отрицался бы самый вопрос о смысле явления: ведь я не сомневаюсь, что улыбка этого человека выразила какое-то внутреннее движение. Так-то вот воспринимались мною и ответы взрослых о смысле тех или иных явлений в жизни Моря. Конечно, я оставался при своем и сам старался вчувствоваться в эти явления. Часами вслушивался в сложные ритмы прибоя, в игру блесток и цветов морской поверхности.
В особенности же меня занимала морская пена. Что это за белая сетка непрестанно возникает на поверхности моря, чтобы снова растаять? Неужели она не живет? Она мне казалась огромным существом, плавающим на морской поверхности, и хотелось поймать это существо и рассмотреть его ближе. Но оно не давалось в руки, а на ладони оставались лишь какие-то незанимательные воздушные пузыри. Пена, как и медузы, не поддавалась исследованию и могла существовать лишь в своей собственной стихии. Не научало ли это думать, что много есть явлений и существ, которые обратятся в ничто, извлеченные исследователем из своей жизненной среды, но что это не свидетельствует о их несуществовании. Вот, например, сны. Они видятся, пока спишь, и исчезают при пробуждении. Но разве это значит, что их нет? Не вернее ли сказать, они исчезают, вытащенные в бодрствование, как тают медузы и пена на воздухе.
Гостиница «Франция». Венецианские лавочки. Посещения пристани связались в моей памяти с креветками. Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя «Франция». «Гостиница «Франция» – «Отель де Франс» – значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. Meщанство, безвкусица, педантизм, чудачество, скупость и скопидомство – Германия в моем сознании состояла только из этого. Правда, с раннейших лет я знал, и знал, и говорил наизусть «Фауста» по переводу Вронченки, а имена и музыка немецких классиков постоянно звучали в моих мыслях. Об этом, впрочем, после. Но этих явлений я не соотносил с Германией и считал их просто человеческими. Культура же – это Франция. И потому гостиница «Франция», хоть и не самая Франция, а лишь гостиница, тоже казалась чем-то достойным признания: тут много значило ощущение реальности имен и вера в имена.
Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсинными деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок. Иногда мы брали их с собою домой в бумажных фунтиках, конечно, особо мне и особо Люсе. Главное ее удовольствие было – бесчинство, которого ни за что не допускала мама, но поощрял папа, – есть на улице. Это было так занимательно, в виду пристани и моря, грызть маленьких рачков, пахнущих тем же морем. Бесчинство наше, впрочем, было очень невинное, потому что Батум был не многим больше приличного села, а ходить по его улицам в те давние времена не очень много разнилось от загородной прогулки и пикника.
Иногда мы шли далее по той же набережной и, дойдя до конца ее, сворачивали в узенький переулок направо, а потом налево. Это был турецкий квартал. Тут стояли рыбацкие кабачки, лепились маленькие лавчонки в еле вмещающих пару посетителей будочках. На улице, вытянув длинные ноги, сидели на маленьких камушках аджарцы, турки и греки, играли в нарды или флегматично тянули кальян. Весь квартал считался опасным, потому что в те времена был населен контрабандистами. Но он был крайне своеобразен и прочно врезался в мою память. Кажется, и папа ходил сюда не совсем без опаски. Говорят, тут грабили средь бела дня, и ходить сюда в Батуме не рекомендовалось. Но зато тут была лавочка, цель наших стремлений, и в эту-то лавочку давнишними знакомыми входили мы. Ее содержал огрубевший на воздухе и покоричневевший не то венецианец, не то грек. Он торговал нитками красных кораллов, разными розово– и красно-коралловыми вещицами, раковинами, венецианскими бусами и заодно – толстейшими канатами, пропитанными дегтем, веревками, бечевками, рыболовными принадлежностями. Лавчонка была сказочно хороша. Наскоро сколоченная из еле обтесанных досок, залитых дегтем, маленькая, так что там не пошевельнуться, вся пропахшая густым смолистым запахом и морем, водорослями и морскими продуктами, она в этой грубой скорлупе содержала столько прекрасных таинственных вещей – как занозистая раковина жемчужины. Впрочем, в этой лавочке и в самом деле имелись жемчужины. Кораллы манили меня яркостью своего отвлеченного цвета и странностью угловатых очертаний – словно натеки парафина на елочной красной свечке, говорили мы тогда с сестрой, и это сближение кораллов с елкой делало их особенно заманчивыми. В них чувствовалась таинственная жизнь и своя магия; я не любил красного цвета, но этому, по своей отвлеченности не липкому, не мог противиться. Продавец, – наверное, он был контрабандистом, – вытаскивал из-под прилавка, где были разложены вяленая и копченая рыба, огромные тридакны, и я вспоминал, что тридакна даже орла может захватить в свои тиски и он не вырвется, погибая с морским приливом. Ветвистые белые кораллы казались морскими растениями; хотя я знал, что это жилище мелких животных, но в душе не очень-то верил этому. Так прилично говорить, думалось мне, когда говоришь со взрослыми; как и многие другие естественнонаучные объяснения, мне казалось и это родом условной обходительности, эвфемизмом, чтобы не касаться тайн, а на самом деле не соответствующим делу.
Но лучше всего были венецианские бусы. // Они были все ручной работы. С тех пор как помню себя, я с безошибочною отчетливостью, сразу, почти не смотря, различал ручное производство от машинного. И хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непосредственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные вещи мною презирались: весь мир был в моем восприятии пронизан разлитою в нем жизнью, его организующею, весь мир имел в себе внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушными, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь понятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну.
В произведении руки человеческой, каково бы оно ни было, в самом грубом, всегда есть таинственное мерцание жизни, как непосредственно чувствуется это мерцание в какой-нибудь раковине, камне, обточенном морскими волнами, в слоистости агата или сердолика, в тончайших сплетениях жилок листа. Машинная же вещь не мерцает, а блестит, лоснится мертво и нагло. И напрасно было бы думать, что дети этой разницы не подмечают; нет, они чувствуют ее в возрасте уже самом раннем. Что касается до меня, то в моем опыте была линия разделения между ручным и машинным даже более глубокая, нежели впоследствии. Она была предельно разграничительная, как между да и нет, как между белым и черным. Так я привык думать с чувством полной уверенности с детства. Ясно помню, хотя и не всегда умел отчетливо сказать, но непосредственно, почти физиологически, – как состояние своего тела, – ощущал я с полною живостью качественную разницу ручного и машинного. Впоследствии на этом чувстве ручного появилась склонность к Рёскину, но, занятый физикой и математикой, я узнал о Рёскине очень поздно, когда уже произошел во мне важнейший духовный кризис, о котором будет речь далее. А теперь обращаюсь к венецианским бусам. Они были предельно правдивы и потому прекрасны; каждая являла именно то, что есть она в своей первичной сути, обработка же служила только к обнаружению этой сути, была разоблачением, а не облачением сути. Каждая из бус дышала жизнью и сливалась со всей природой, в своем роде превосходя природу.
Одни из пасты, четырехугольными брусочками, кубиками, а круглые или уплощенные – с вкраплениями пасты других цветов. Любо было, что они не окрашены, что поверхности их не придан особый вид, но что материал их виден в них подлинным. Любы и формы их, в очертаниях своих не имевшие ничего механически правильного, целестремительные – все, подходящие к известному типу постольку и в той мере, поскольку и в какой мере это требуется самим делом; у этих бус не было механически острых ребер, механически прямых линий, механически тождественных рисунков. Бусы давали почувствовать формующую их руку, были непосредственными запечатлениями творческой силы. И потому их хотелось трогать рукою, осязать и концами пальцев, и ладонью, хотелось подбрасывать на руке, хотелось пососать во рту.
Другие бусы были стеклянные, преимущественно темно-зеленые и темно-синие. И о них хочется сказать тоже. Их цвет воспринимался именно как цвет стеклянной массы, как существенное свойство материала, – не как что-то украшающее внешне, произвольно и случайно. Их неполированная поверхность с естественно образовавшимися параллельными неровностями в виде тончайших штрихов их внутренние, параллельные этим штрихам неровности цвета проявляли глубочайшее строение самого вещества бус; так и чувствовалось, как размягченное стеклянное тесто вязко тянулось при изготовлении этих бус, как действовали силы поверхностного натяжения, придавая полужидкой массе свою форму, – вообще чувствовалась запечатлевшаяся борьба и взаимодействие сил, бусы образовавших.
Эти бусы запечатлелись в сознании как застывшие первоявления, как разоблаченная бесхитростным ремесленником глубокая правда вещества. Мне было ясно: бусы менее искусственны, нежели случайные куски вещества, ибо искусство тут вело не к сокрытию, а к раскрытию воли самого материала, помогло ему сделаться тем, что он сам хотел, тогда как машина насилует эту волю. Чрез эти бусы, посредством их, вещество мира научило любить себя и любоваться собою. И я полюбил его – не материю физиков, не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с его правдою и его красотою, с его нравственностью. Я чувствовал с трепетом, что бусы этого венецианца-контрабандиста не красивы, а воистину прекрасны, как вообще прекрасна усмотренная глубина бытия, как прекрасно все подлинное. Они были в моем детском сознании ноуменальны. И этот ноумен бус сливался с ноуменом моря, напоминая его камешки, его раковины, его то синюю, то сине-зеленую и зеленую воду. И теперь я спрашиваю себя: не это ли ощущение моря полуморскими насельниками Венеции внушило им искусство этих бус, таких родственных произведениям моря?
Изобилие. Я любил море за его тайну – тайну его наполняющего всю массу цвета, тайну его влекущего запаха и шума, тайну его горько-соленой воды, столь поразительно похожей на слезы, тайну странных существ, живущих в нем. Была внутренняя близость между ним и мною. Главное же, оно не подавляло изобилием. Тот, заморский, мир был и запредельным, он казался почти неземным. А в самом море, тут же у берега, не было чрезмерной производительности, и, скорее, его следовало бы назвать с Гомером «бесплодным». Качественно полное, оно не подавляло количеством своих дел. Я видел его творческую мощь, но сдержанная мощь эта была лишь возможностью, и не томила дух. Но береговая производительность стран тропических и тут, на побережье Черноморском, имела свои отличия.
<III>. Природа
1923.IV.8. У меня была нежная и горячая любовь к родным, собственно и преимущественно к старшим. Точнее сказать, нежная любовь и род влюбленности направлялись на тетю Юлю. Хотя и старшая меня, она по складу своего характера откликалась на многие мои чувства и, насколько я теперь могу понять, со мной жила тою жизнью, которая не нашла бы удовлетворения в среде взрослых. Это она охотно рассказывала мне трогательные истории о каком-нибудь засохшем растении или умершей птичке и, как по крайней мере мне тогда казалось, оплакивала погибших вместе со мною. Мое ощущение – то, что пред нею мне не было надобности особенно скрывать мои мысли и чувства. Правда, она их формально не поддерживала, вероятно, по просьбе родителей и из боязни огорчить отца, бывшего предметом ее жгучей и единственной любви. Но я угадывал ее сочувствие и внутренне считал ее за единомышленницу. Сестры матери впоследствии мне говорили, что тетя Юля была сентиментальна. Но я хорошо знаю, что они имеют в виду, и знаю, как это неверно. Между тетей Юлей и другими тетками, несмотря на дружественные отношения, не могло быть настоящего понимания. Мне это ясно всем нутром. Им чужда природа, хотя они и привыкли жить в роскошных садах, им не интересен Кавказ, хотя корни их – там; в них – старость и вместе духовная одряхлелость прежних культур, достигнутая элементарность интересов, в каких-то веках далекими поколениями скопившаяся усталость ото всего возвышенного, полусознательное, в крови заложенное разочарование в героическом, пренебрежение стариков к широким планам юности. Это какая-то бескрылость, но, впрочем, до того случая, когда нужно проявить настоящую решимость и настоящий подвиг; тут они все, знаю примеры, оказывались твердыми и делали свой долг, как нечто само собою разумеющееся. // Все они добры, приветливы, стараются окружить теплотой и вниманием и умеют это делать. Однако это – именно теплота, в ней что-то слепое. Действие ее иссякает почти тут же, за пределами небольшого пространства, в ней нет звонкости, нет света. Когда из такого теплого гнезда видишь далекие горы, сверкающие на солнце, тогда не оторваться от этой теплоты. Но если гнездо, ради большего удобства, закрыто со всех сторон, тогда во имя света взбунтуешься против этого уюта. Тетя Юля понимала это влечение к свету. Может быть, если бы она дожила до более поздних моих лет, она перестала бы понимать мои желания, но тогда, в детстве, мы друг другу соответствовали. Мое восприятие природы ею как-то одобрялось. И мое чувство к тете, вероятно, имело в себе сходство с тем ощущением, что отсутствуют какие-либо разделяющие преграды и происходит взаимная диффузия личности, которая бывает при разделяемой и весьма одухотворенной влюбленности у взрослых.
Но, впрочем, я пишу что-то не о том, о чем хотел писать, даже как будто прямо противоположное.
Я позволял любить себя отцу, испытывал полумистическое благоговение, с чувством какой-то несоизмеримости, что ли, пред матерью, имел приязнь к теткам и вообще ко многим людям, любил же, нежно и страстно, лишь тетю Юлю, однако и ее – не как ее, т. е. без внутренней мотивированности, а за ее отношение к природе. Мне странно думать сейчас, а тем более писать, что в такой насыщенной взаимным признанием и взаимною любовью семье, как наша, такой впечатлительный и нежный, слишком даже нежный, каким я был, я, в сущности, может быть, никого не любил, т. е. любил, но любил Одну. Этой единственной возлюбленной была Природа.
Может быть, мне повредили в детстве люди. Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное, сплошная порядочность и чистоплотность. Тут все подобралось одно к одному. Никогда ни одного пошловатого слова, ни одного приниженного интереса, никакого проявления эгоизма; всегдашняя взаимная предупредительность всех друг к другу при широкой, активной доброте отца в отношении окружающих, посторонних.
А со стороны окружающих – признание, уважение, почти благоговение к отцу, ко всей семье. Посторонние мне говорили о благородстве, о великодушии, о щедрости, об уме, о честности отца. Няньки на бульваре нередко поднимали оживленный спор, чья барыня в городе красивее и лучше, и, после обсуждения всех кандидаток, первенство красоты и всех достоинств утверждалось хором нянек неизменно за барыней Флоренской. У папы нередко срывалось искреннее восхищение пред тетей Лизой, в частности пред самодержавным размахом ее характера и пред редкою красотою ее глаз, а в его поддразниваниях тети Сони, тогда еще совсем девочки, опять чувствовалось одобрение. Наудачу указаны здесь некоторые из элементов этой доброкачественности. На самом деле все было пропитано этим, или я так воспринимал это, в данном случае то и другое не составляет разницы. Но если бы и никто ничего не говорил в этом направлении нам, детям, не могли же мы не видеть особого отношения прислуги, особого признания знакомых, подчиненных, сослуживцев. Мне кажется, характер папы не был особенно легким, и времена мрачности в нем сменялись веселостью и оживлением. Как мне кажется, он мог сказать и говорил как в ту, так и в другую полосу что-нибудь резкое, слишком правдивое, иногда дразнительное. Но признание его было настолько велико, что никогда из-за подобных излишеств в слове не происходило ссор, неприятностей, то же, в своем роде, относительно матери. Горделиво застенчивая и охваченная нравственной чистоплотностью до нелюдимства, она еле-еле выполняла обычные светские требования, в гостях почти не бывала, визиты отдавала так, что почти как не отдавала, словом, несмотря на светскую воспитанность, шла в жизни по острию. И все же разрывов, обид и ссор, которые естественно должны были возникнуть, тут не выходило, – несомненно силою личного признания.
Мы всё это видели. Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение вполне невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно, – что я говорю – услышать, несомненно, подумать никто ничего такого не мог. Опять повторяю, неважно, насколько правильно освещено здесь строение нашей семьи, а важно, что я-то, во всяком случае, воспринимал его так. Может быть, взрослые, оставаясь одни вечером и весело смеясь чему-то, причем особенно развеселялся папа, может быть, они говорили и что-нибудь в ином роде. Но до нас, до меня это не доходило. Даже ряд слов, около которых обычно выкристаллизовываются пересуды, был решительно исключен из домашнего словаря: служба, начальство, ордена, награды, губернаторы и министры, деньги, жалованье, женихи и невесты, мужья и жены, рождения и смерти, похороны и свадьбы, священники и всякие богословские термины, евреи и различные щекотливые национальные вопросы и т. д., и т. д., – всего и не перечислишь, – эти понятия, наравне со многими другими, были, по крайней мере, в моем детском сознании, табуированы. Никто формально не запрещал нам употреблять подобные слова и обсуждать соответственные понятия – кроме только двух: деньги и жалованье, почитавшихся безусловно неприличными. Но и без такого запрета я из каких-то неуловимых семейных токов почувствовал с самых проблесков своего сознания полуприличность одних из этих слов и неприличность других. У детей есть абсолютно верный инстинкт, собачье чутье для расценки приличного и неприличного. Между плохим и хорошим нет глубокой разницы, и сделать плохое – это, конечно, нехорошо, потому что огорчит родителей; но, в сущности, – почему бы и не сделать его. А вот неприличное и приличное – это деление абсолютное, и сделать неприличное – хуже чем умереть. А еще хуже, чем сделать неприличное, – сказать его. Плохое дело, плохая речь, неприличный поступок, неприличное слово – такова градация недопустимого; хуже неприличного слова, стыднее, уничтожающее, бесповоротнее – ничего не может быть, кроме одного: мысли о нем. В ночной темноте, закрывшись с головою одеялом, – и то не осмелишься подумать таковое, иначе будешь раздавлен каким-то нарушенным категорическим императивом, сгоришь и умрешь от стыда, даже мысль о том, что можешь нечаянно подумать такое слово, приводит в полное содрогание и на мгновение останавливает всякую жизнь.
Но, повторяю, неприличное – это не то чтобы плохое и не какое-либо особенное; у него, у этого неприличного, нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно – табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвигнули бы спросить взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так. Правда, во мне с раннейшего детства были чрезвычайная застенчивость и еще большая стыдливость. Но я хорошо помню, это чувство неприличия оценивалось мною не как моя застенчивость, стыдливость, вообще не как мое личное свойство, а как правое и должное чувство, именно так, как обычно говорят о совести. Малейшее нарушение этого словесного табу, малейшее приоткрытие запретной области мною внутренне сурово осуждалось, ибо казалось бесстыдством, обнажением, хамством, если употребить это слово в его исходном значении. Бытие в основе таинственно и не хочет, чтобы тайны его обнажались словом. Очень тонка та поверхность жизни, о которой праведно и дозволено говорить; остальному же, корням жизни, может быть, самому главному, приличествует подземный мрак. Правда, влечет познать его, но это надлежит делать именно поглядывая, а не нагло рассматривая пристальным взглядом, – доходить до неведомого «каким-то незаконнорожденным рассуждением», как говорил о познании первичного мрака материи Платон, но никак не внятными, да еще вдобавок сообща, силлогизмами. Вот смысл моих тогдашних ощущений приличного и неприличного. Я хорошо помню, он был именно таков, хотя я не мог бы сказать тогда этими словами, и мне кажется, это не индивидуально случайное мое чувство и не произвольно субъективный круг слов – табу, установившийся в моем сознании, а что-то несравненно более общечеловеческое. Мне кажется еще, не эти ли же слова табуируются у дикарей, психологию которых и по сей день я чувствую родною себе?
Во всяком случае, в нашей семье были какие-то объективные поводы, может быть не вполне сознаваемые и самими родителями, к установлению таких табу. Два-то рода мотивов тут были во всяком случае: один – нравственная pruderie
, а другой – такое же, как у меня, ощущение тайн жизни, в особенности жизни семьи, и инстинктивная боязнь огрубить эти тайны, облекши их в слова и дозволив разговор о них. Но как бы ни было, в моем сознании строй семейной жизни был изысканен. И ничего другого я не знал.
Детское сознание привыкло к этой изысканности, раз навсегда приняло ее, но приняло как нечто подразумеваемое, естественное. Иначе и быть не может. Отношения личные не могут быть иными, как ласковыми и вежливыми, внешние отношения – бескорыстными, честными и т. д. Люди вообще не могут быть иными, как воспитанными, немелочными, знающими. Ложь, даже оттенок неправды, невозможна и т. д. и т. д. Никто не может сказать слова грубого, обнаженного, неприличного. Вообще, весь мир построен, как и наш островной рай. Правда, боковым слухом я откуда-то узнавал, что случаются нарушения райской тишины. Но такие нарушения мне не представлялись даже неприличными. Они были слишком далеки от наглядно воспринимаемого, и если я интересовался ими, правда очень слабо, то в порядке естественнонаучном: так взрослые могут интересоваться сиамскими близнецами или, скорее, боа констриктором. Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жаловании или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джэка-потрошителя или преступников, которым убить – все равно, что выпить стакан чаю. Таких людей, если бы кто о них мне сказал, я бы и осуждать не стал, как нечеловеков, хотя и в человеческом образе. Грубое обращение, пресловутые мачехи, невнимательные отцы – право, о них я вовсе не думал, а когда детская беллетристика заговаривала о них, я относился к этим мифическим образам с гораздо меньшим чувством реальности, чем большинство взрослых к шайтанам арабских сказок.
Все, что может быть неблагородного, невоспитанного, нравственно нечуткого, грубого в слове и в действиях, стало для меня как раз тем, что педагоги желают сделать для ребенка мир мистической фауны, т. е. ничем, практически ничем, словами и образами, лишенными какой бы то ни было реальности. Есть же, просто есть, само собою подразумевается именно то, что окружает меня, чего не быть кругом меня не может, – эти люди, эти отношения.
Я был привязан к этому бытию и к этим людям органически, как к своему телу, и отдаление от них, – разумею пространственное расстояние, – вызывало ощущение почти телесной болезненности, растяжение каких-то органических связей с ними. Это чувство, вероятно, правильнее всего сравнить с тем, как когда сильно тянут за руку: очень неприятно, но это не имеет ни малейшего отношения к нравственному чувству. Мое чувство своего тела так естественно присуще мне, что я замечаю его, лишь когда оно терпит ущерб. Я не благодарен своему телу за всю его жизненную службу, за его труды, его страдания, его старания, но малейшее недомогание его, когда оно выполняет мою волю; слабость, боль, собственные его потребности всегда возбуждают во мне и во всех досаду, недовольство, возмущение. Никто из нас не думает, что, коль скоро он не абсолютно отождествляет себя со своим телом и ставит себя в каком-то смысле выше тела, он и несет нравственную обязанность к этому своему слуге, помощнику, вообще чему-то реальному и живому, а не бездушной машине. Так вот, полное нравственное благополучие нашего уединенного острова воспитало во мне подобное описанному отношение к людям. Хорошие люди, воспитанность, деликатность, всяческая порядочность, ум и т. д. и т. д. – это подразумевается, об этом нечего говорить, нечего это и замечать, даже чудовищно, хотя бы в самом себе, сказать о человеке, что он такой-то, в хорошем смысле, как никто не констатирует, что глаза у человека именно два, а голова – одна. Но вот противное – оно не может не быть замеченным. Однако такой, о ком замечено, – это ведь уж почти что не человек, и внутренне считаться с ним было бы нелепым и претящим.
Итак, с одними почти не считаешься, потому что они подразумеваются, а с другими считаться, по меньшей мере, странно. И я, в теплом гнезде наилучших – так, по крайней мере, оценивал их – людей, пронизанный любовью и нежной заботой о себе, оказываюсь предельно одиноким; только тетя Юля, с ее глухим страданием и с характером менее величественным, чем у отца и матери, протягивает мне нитку к Человеку.
Я не знаю, как объяснить свою мысль. Потом, в совсем другом смысле, уже не в отношении к семье, я расскажу о несколько родственном состоянии, от которого я оторвался с большою потерею крови: назову его несколько приблизительно фарисейством. А то, что мне хочется сказать о семье нашей, так названо быть не может. Кроме того, это и не самодовольство, и не американская здоровость и сытость, и, наконец, менее всего сектантское чувство праведности. Все это совсем не то. Но в нашей семье не было бы места Достоевскому. Он со своей истерикою у нас осекся бы, в этом я уверен. Светский дом, или самодовольный дом, или безбожный дом он преодолел бы и перевернул бы все его благополучие. Но наш отнюдь не был благополучным, напротив, в основе его был фатализм и чувство обреченности всего прекрасного. Именно поэтому-то хаосу был раз и навсегда прегражден доступ на этот остров: его можно было разрушить, но – не возмутить скандалом.
Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыдания, вопли, восклицания – совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то, ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: «Подите побегайте во дворе, Федор Михайлович болен». Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам. Через четверть часа папа сказал бы маме или тете: «II faut lui donner un verre d’eau avec sucre»
, – и послали бы тетю Соню, как младшую, тоже из деликатности, с подносом, на котором был бы на блюдечке чайный – непременно граненый – стакан с сахарною водой. Тетя Соня тихо ушла бы, а через несколько минут решили бы, что теперь все кончилось, папа маме, или наоборот, сказал бы: «Pauvre homme, il est tres nerveux»
, – и, делая вид, что ничего не произошло, пошли бы объявлять: «Федор Михайлович, ужин уже на столе», – причем за ужином обязательно был бы шашлык из лососины или осетрины с ломтями помидор и луку, свежая икра и вино, а после ужина папа поднес [бы] Достоевскому какую-нибудь особенную гаванскую сигару и затеял бы разговор о последней книжке «Revue des deux Mon-des», «Deutsche Rundschau» или же о только что полученном новом томе «Histoire Universelle par Lavisse et Rambeau». He сомневаюсь, что Достоевский не мог бы не почувствовать, что это ненарочно проделано, и так есть в семье, и, затаив конфуз, искренно осудил бы в себе истерику.
Так вот, Достоевскому не было места, и даже романы его, хотя и стояли в шкафу, но, открыто по крайней мере, никем не читались как что-то сомнительное – в противоположность настольным и провозглашаемым Диккенсу, Шекспиру, Гёте и Пушкину, каковые признавались вполне и насквозь приличными.
Достоевский, действительно, – истерика, и сплошная истерика сделала бы нестерпимой жизнь, и Достоевский сплошной был бы нестерпим. Но, однако, есть такие чувства и мысли, есть такие надломы и такие узлы жизненного пути, когда высказаться можно только с истерикой – или никак. Достоевский единственный, кто вполне постиг возможность предельной искренности, но без бесстыдства обнажения, и нашел способы открыться в слове другому человеку. Да, конечно, это слово будет истерикой и юродством, и оно безобразно и само собою замрет среди благообразия, подлинного благообразия, но закупоривающего поры наиболее глубоких человеческих общений. Конечно, Достоевскому, чтобы высказаться, не годен наш дом, не годен монастырь, по крайней мере, хороший монастырь, может быть, не пригоден даже храм. Достоевскому нужен кабак, или притон, или ночлежка, или преступное сборище, по меньшей мере, вокзал, – вообще где уже уничтожено благообразие, где уже настолько неприлично, что этой бесконечности неприличия никакое слово, никакое неблагообразие уже не увеличат. Тогда-то можно дозволенно делать недозволенное, излиться, не оскверняя мирного приюта, не оскорбляя самой атмосферы. Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамомделишнего греха и подлинного падения.
Достоевскому у нас нечего было бы делать. Но это укор не только ему, но и дому. Невысказанные жили в членах семьи чувства патетические, к которым на самом деле, как к подземному ветру, втайне прислушивались все, но каждый сам за свой страх и скрывая от других. Бетховенский стук судьбы в окно остро чувствовался, и смертельным ужасом сжималось сердце каждого из членов, начиная от отца и кончая не только нами, детьми, но и собакою, делавшеюся членом семьи. И каждый понимал, что этот стук услышан другими, но старался своим видом уверить всех прочих, что он ничего не слышал. Исключительно близкие между собою и в этой близости полагавшие цель жизни, члены семьи, именно ради этой близости, из деликатности и желания дать другим жизнь гармоничную, отделялись от близости и в самом важном, самом ответственном затаивались в себе. Я начал говорить о своем одиночестве, но, на разные лады, все были одинокими.
Но пока возвращаюсь к себе. Я не любил людей, т[о] е[сть] не испытывал враждебные чувства, а принимал хорошее, как дышат воздухом, и не удостоивал негодованием плохое, поскольку сталкивался с ним, скорее, отвлеченно, нежели жизненно. Даже к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен – в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были скалы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно кристаллические, любил птиц, а больше всего растения и море.







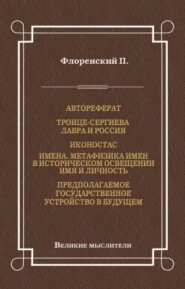


![Памяти Федора Дмитриевича Самарина ([Ум.] 23 октября 1916 года) : С приложением нескольких писем Ф.Д. Самарина](/covers_185/555285.jpg)
