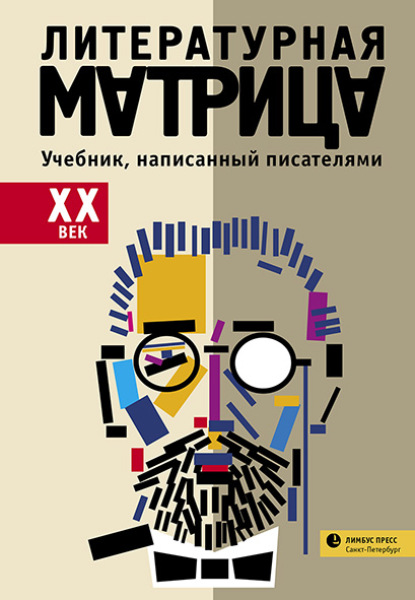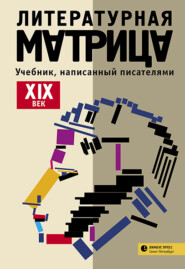По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литературная матрица: учебник, написанный писателями. ХХ век
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ужели сказочке конец?[38 - Цит. по: Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Париж, 1958.]
* * *
Бунин смачно описывает, как косцы утоляли жажду: «…они пили из деревянных жбанов родниковую воду, – так долго, так сладко, как пьют только звери, да хорошие, здоровые русские батраки…» Если бы не было мухоморного ужина, внимание читателя не цеплялось бы за это сравнение со зверем. А так вспоминается рассказ «Игнат», где под действием «дурмана» на наших глазах происходит превращение в зверя этого поначалу вроде как спокойного, тихого, в каком-то смысле даже деликатного и тонко чувствующего деревенского мужика. Бунин награждает его способностью «по-бунински» испытывать «чувства»: его «волнует» именно что Любкина красота (не просто – большая грудь), «все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, – он был сладок, хотелось глотать его всей грудью», он «слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками». То есть поначалу Игнат на зверя никак не тянет. Даже его животная связь с нищей дурочкой-алкоголичкой Фионой вписывается в бунинский формат страданий влюбленного аристократа – ну, «не совладал с собой». Так барчук Митя «не совладал», когда сошелся с крестьянкой Аленкой («Митина любовь»)[39 - Бунин часто наделяет своих «мужиков» «аристократической» способностью тонко чувствовать, в то время как господа у него могут вести себя как существа примитивной организации: «Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством». «На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике», – писал Бунин в статье о «Суходоле».]. Игнат превращается в зверюгу, этакого волколака, постепенно – как в фильмах про оборотней. В кино у героя сначала когти вырастают, потом шерсть появляется, потом он раскрывает пасть и страшно воет. Бунинский герой от «несчастной любви» запивает и сначала так бьет своим пастушеским хлыстом коров, что у них на боках «вздуваются рубцы» (читатель вздрогнул первый раз и заподозрил неладное), потом душит ребенка ради денег на водку, потом зарубает топором купца и, видимо, изменницу-жену (тут концовка открыта, читатель может сам решить, сколько оказалось трупов).
Прочитав рассказ «Игнат», начинаешь с подозрением относиться к любому бунинскому мужику – под действием «дурмана» он может превратиться в зверя.
Блаженный бросил в икону камнем, который отбил краску. Схватили юродивого, стали бить его, а он кричит обидчикам: «Поскребите ее, поскребите!» Остановились, стали разглядывать икону. А под ликом Богородицы – второй слой. Черным по красному изображены черти и дьявол.
Житие Василия Блаженного
В своей французской эмиграции Бунин пишет рассказ «Лапти» про мужика, который гибнет, пытаясь спасти барчука. В добром Нефедушке нет ничего сатанинского, но есть второй слой, там – опасность. Кажется, снова «дурман». Сейчас поскребем.
В связи с этим Нефедом хочется вообще поговорить об образе «мужика» в русской литературе, особенно – в литературе Серебряного века. Мы ведь знаем, что литература – как деревенский коврик, сотканный из разноцветных и разнокалиберных ниток и полосок ткани: одно крепко держит другое, нет ничего отдельного, даже самые оригинальные части коврика – засушенные травы, например, – крепко вплетены в общую основу, и рассматривать писателя и его художественный мир, ставя особняком, без оглядки на «братьев по литературе», – дело непродуктивное. В нашей литературе образ «странного» мужика возникает как у Бунина, так и у Гумилева, у Андрея Белого. Его отцы населяют художественные миры Чехова и Тургенева, деды задаются вопросом «Доедет колесо или не доедет?» у Гоголя, прадед радуется заячьему тулупчику у Пушкина. Вот краткое содержание «Лаптей».
Зимой в непогоду в хуторском доме заболел ребенок. За доктором послать невозможно – тридцать верст, вьюга. Ребенок в бреду просит какие-то красные лапти, мать в отчаянии. Нефед говорит барыне, что надо добывать эти лапти, раз «душа желает». Он принимает решение пойти в Новоселки за шесть верст, купить там лапти и покрасить их фуксином. Шесть верст – это примерно шесть с половиной километров, где-то восемь тысяч шагов. Фуксин – один из первых синтетических красителей, дающий ярко-красный цвет, получен в 1856 году химиком Натансоном. Барыня хочет отговорить верного слугу идти в бурю, но он верит, что красные лапти спасут дитя. Нефед «натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море». На следующий день Нефеда нашли замерзшим в двух шагах от «жилья», у него за пазухой «лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином».
Мне, как жительнице хуторского дома, ясно виден «второй слой» этой адописной иконы. Тут не так все просто. Вовсе не буря сама по себе сгубила Нефеда.
– Для мила дружка семь верст не околица, – заговорил князь Василий, как всегда, быстро, самоуверенно и фамильярно.
Л. Н. Толстой. Война и мир
Я живу в новгородской деревне Бобылево, ближайший торговый центр у нас в поселке Кулотино, идти как раз шесть с половиной километров по щербатой асфальтовой дороге. Это основная, главная дорога, по ней в кулотинские магазины ходят, ездят на велосипеде, мотоцикле, автомобиле. По этой дороге ходили дети в школу в любую непогоду (не мои, местные). Деревенский житель может с закрытыми глазами пройти шесть верст по своей главной дороге – дороге к «Дикси» и «Пятерочке». Как же Нефед, деревенский мужик, мог погибнуть на своей главной дороге – пути из торгового центра? Туда дошел, а обратно – нет, утонул в снегах… Туда и обратно – тринадцать километров. С перерывом – остановками в отапливаемых лавках, где продаются лапти и фуксин (или в одной они лавке продавались). Да, была буря. Но туда-то дошел!
Однажды в нашем Окуловском районе случился сильный снегопад. Мне надо было ехать в Петербург, таксист должен был довезти меня до железнодорожного вокзала. Он свободно проехал по боровичской трассе, а на нашу проселочную даже повернуть не смог – так засыпало. Мне звонили диспетчеры, все волновались, просили как-нибудь добраться до трассы, это около четырех километров. Я была одна с трехлетней Маней. Посадила ее, закутанную, на санки и пошла, именно что утопая в снегах. Бури, конечно, не было, но снег валил. Я довольно быстро добралась до трассы и смело могу сказать, что шла бы еще и еще, не так уж это и сложно. А что говорить о деревенском мужике? Который был без Мани и отвечал только за себя. Таксист хранил санки в гараже до нашего возвращения, у меня осталось приятное воспоминание о нашем приключении, и я совершенно не понимаю, как Нефед в трезвом уме мог погибнуть на главной своей дороге, ведь понятно, что он, слуга в хуторском доме, должен был постоянно по ней ходить или ездить в торговые лавки Новоселок – для своих и господских нужд – и знал ее прекрасно. Даже в дикую бурю и вьюгу нельзя ошибиться – ну куча же примет: рощи, отдельные деревья, пространства полей. В рассказе говорится, что вокруг хуторского дома раскинулись поля. Поля всегда ограничены хоть какой-нибудь растительностью.
Зато я понимаю, как Нефед мог погибнуть в нетрезвом уме. Иван Алексеевич Бунин не хотел показать своего героя пьяницей, он описывает его как человека твердого, спокойного, рассудительного, который принимает «трезвое», взвешенное решение идти добывать волшебную вещь, способную спасти ребенка:
«Еще подумал.
– Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то…
И, притворив дверь, ушел».
Это «притворив дверь» говорит о том, что Нефед принимает решение в трезвом уме: подвыпивший человек оставит щель или шарахнет дверью. Вопрос: где, в какой момент он выпил?
Скорее всего, уже на кухне – а как иначе объяснить, что, решив идти в Новоселки пешком, он берет в руки кнут? Пешеходу кнут не нужен. «…Взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам…»
Нефеда не было, вечером решили, что он ночевать остался и надо ждать его завтра не раньше обеда. Опять не понимаю – почему не раньше обеда? Идти шесть с половиной километров мужику, ну даже если в бурю… Или заподозрили, что в Новоселках выпьет и потому задержится?
У кого Нефед мог остаться ночевать? Да у кого угодно: у кума, брата, свата. Возможно, с кем-то из них решил выпить на посошок, заговорился, может, даже решил остаться до утра, но в совсем уже нетрезвом уме вспомнил больного ребенка, с особенной силой представились ему «грозовые видения» невинной страдающей души, «желающей» красные лапти, которые вот, уже здесь, за пазухой, нужно только покрасить, и пошел домой, как его брат и кум ни отговаривали: «Нефедушка, трам-тарарам, завтра пойдешь, давай споем!» Кстати, красивую фильму можно было бы сделать про доброго бедного Нефедушку с эпизодами этих «грозовых видений».
Бунин пишет, что за пазухой у мертвого Нефеда лежали лапти и пузырек с фуксином. Мне кажется, он умолчал о бутылке в кармане зипуна – ее туда, скорее всего, кум засунул.
Скажем пару слов об этих Новоселках, в которые Бунин отправляет своего Нефеда. Возможно, имеется в виду деревня Мценского уезда Орловской губернии, где в усадьбе Новоселки родился Афанасий Фет. У Фета есть прекрасное стихотворение, которое перекликается с рассказом «Лапти» образом ребенка и снежной бурей:
Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.
Будем надеяться, что за смертью Нефеда все же последовало выздоровление барчука, вскоре он смог играть со своими гусарами и лошадками, валяться на ковре, слушая свист бури и уютное мурлыканье Васьки.
Нефед символизирует прекрасную душу русского народа. Он не просто прислуга – он защита и опора: в трудную минуту, рискуя своей жизнью, готов прийти господам на помощь. Из своего прекрасного французского эмигрантского далека Иван Алексеевич смотрит на «русского мужика» как на христианина, богатыря, защитника. Для писателя это исчезнувший в буре революции символ великой страны, которой больше нет. Похоже, главный посыл Бунина в «Лаптях» таков: все было хорошо, народ был опорой господам, господа любили народ, вон какая ласковая барыня, беспокоится за друга Нефедушку, не надо было лезть большевикам в эти чистые, святые, веками устоявшиеся патриархальные отношения и преступно рвать крепкую, почти семейную межклассовую связь.
Теперь хочется обратить особенное внимание на веру Нефеда в волшебство, знаковую для образа «мужика» Серебряного века. (Хронология Серебряного века остается спорной. Мне кажется, что «мужицкие» рассказы Бунина, написанные в 20-е годы, все еще можно отнести к этому периоду русской литературы.) Я готова поверить Ивану Алексеевичу на слово, согласиться с тем, что его лирический «мужик» находится в кровном родстве с лирическим «барином». При этом не могу не отметить его очевидные родственные связи с мужиками Андрея Белого и Гумилева. Нефед, как и «мужики» из романа «Серебряный голубь», верит в некую «дивную тайну», обещающую спасение. На деле эта «тайна» оборачивается «ужасом», смертью.
Деревенские сектанты, «холуби», в белых рубахах ждут второе пришествие Христа, их чинное сладостное моление превращается в сатанинский шабаш, сектантский заправила столяр Кудеяров с бело-солнечным ликом превращается в беса, из его груди вылезает голубок-кровопийца с ястребиной головкой. Во время «радения» Кудеяров приговаривает бредовые слова: «Сусе, сусе, стригусе: бомбарцы… Господи, помилуй». Владимир Соловьев писал о дыромоляях – сектантах, живущих в дремучих уральских лесах: «…просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!”». На Андрея Белого дырники тоже производили впечатление – он писал о них в своей статье о Сологубе. В русской литературе рубежа XIX и XX веков народная вера в нечто волшебное (дыра, изба, Энгельс, голубь, лапти, Маркс и проч.), способное «спасти душу», принести избавление, стоит рядом с бредом, безумием, смертью, катастрофой. «Мужицкая» приверженность некоей тайне, потусторонней истине и сопутствующая этому особому древнему, дремучему знанию разрушительная сила отмечены в стихотворении Гумилева «Мужик» 1916 года:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
Понятно, что так в занесенной снегом степи слышал и чуял все эти потусторонние крики и зовы пушкинский Пугачев. Вот он внемлет какому-то своему Стрибогу (чуть не сказала: «Святодуху») и затем идет на пару с условным колдуном Распутиным разрушать столицу:
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот – светы и мраки,
Посвист, разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси…
Русские поэты и их «интеллигентные», «образованные» герои как завороженные пытаются заглянуть в мир «странного мужика» с его волшебными дырами и «холубями», они наклоняются над этим бурлящим котлом с колдовским зельем, но вместо пророческих видений им открывается мрачная бездна, тянет «испарениями шарового ужаса» (Андрей Белый).
* * *
Бунин смачно описывает, как косцы утоляли жажду: «…они пили из деревянных жбанов родниковую воду, – так долго, так сладко, как пьют только звери, да хорошие, здоровые русские батраки…» Если бы не было мухоморного ужина, внимание читателя не цеплялось бы за это сравнение со зверем. А так вспоминается рассказ «Игнат», где под действием «дурмана» на наших глазах происходит превращение в зверя этого поначалу вроде как спокойного, тихого, в каком-то смысле даже деликатного и тонко чувствующего деревенского мужика. Бунин награждает его способностью «по-бунински» испытывать «чувства»: его «волнует» именно что Любкина красота (не просто – большая грудь), «все чувства его были обострены, ветер особенно волновал их, – он был сладок, хотелось глотать его всей грудью», он «слышал только дурманящий сладкий запах духов и еще более дурманящий запах волос, гвоздичной помады, шерстяного платья, пропотевшего под мышками». То есть поначалу Игнат на зверя никак не тянет. Даже его животная связь с нищей дурочкой-алкоголичкой Фионой вписывается в бунинский формат страданий влюбленного аристократа – ну, «не совладал с собой». Так барчук Митя «не совладал», когда сошелся с крестьянкой Аленкой («Митина любовь»)[39 - Бунин часто наделяет своих «мужиков» «аристократической» способностью тонко чувствовать, в то время как господа у него могут вести себя как существа примитивной организации: «Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством». «На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике», – писал Бунин в статье о «Суходоле».]. Игнат превращается в зверюгу, этакого волколака, постепенно – как в фильмах про оборотней. В кино у героя сначала когти вырастают, потом шерсть появляется, потом он раскрывает пасть и страшно воет. Бунинский герой от «несчастной любви» запивает и сначала так бьет своим пастушеским хлыстом коров, что у них на боках «вздуваются рубцы» (читатель вздрогнул первый раз и заподозрил неладное), потом душит ребенка ради денег на водку, потом зарубает топором купца и, видимо, изменницу-жену (тут концовка открыта, читатель может сам решить, сколько оказалось трупов).
Прочитав рассказ «Игнат», начинаешь с подозрением относиться к любому бунинскому мужику – под действием «дурмана» он может превратиться в зверя.
Блаженный бросил в икону камнем, который отбил краску. Схватили юродивого, стали бить его, а он кричит обидчикам: «Поскребите ее, поскребите!» Остановились, стали разглядывать икону. А под ликом Богородицы – второй слой. Черным по красному изображены черти и дьявол.
Житие Василия Блаженного
В своей французской эмиграции Бунин пишет рассказ «Лапти» про мужика, который гибнет, пытаясь спасти барчука. В добром Нефедушке нет ничего сатанинского, но есть второй слой, там – опасность. Кажется, снова «дурман». Сейчас поскребем.
В связи с этим Нефедом хочется вообще поговорить об образе «мужика» в русской литературе, особенно – в литературе Серебряного века. Мы ведь знаем, что литература – как деревенский коврик, сотканный из разноцветных и разнокалиберных ниток и полосок ткани: одно крепко держит другое, нет ничего отдельного, даже самые оригинальные части коврика – засушенные травы, например, – крепко вплетены в общую основу, и рассматривать писателя и его художественный мир, ставя особняком, без оглядки на «братьев по литературе», – дело непродуктивное. В нашей литературе образ «странного» мужика возникает как у Бунина, так и у Гумилева, у Андрея Белого. Его отцы населяют художественные миры Чехова и Тургенева, деды задаются вопросом «Доедет колесо или не доедет?» у Гоголя, прадед радуется заячьему тулупчику у Пушкина. Вот краткое содержание «Лаптей».
Зимой в непогоду в хуторском доме заболел ребенок. За доктором послать невозможно – тридцать верст, вьюга. Ребенок в бреду просит какие-то красные лапти, мать в отчаянии. Нефед говорит барыне, что надо добывать эти лапти, раз «душа желает». Он принимает решение пойти в Новоселки за шесть верст, купить там лапти и покрасить их фуксином. Шесть верст – это примерно шесть с половиной километров, где-то восемь тысяч шагов. Фуксин – один из первых синтетических красителей, дающий ярко-красный цвет, получен в 1856 году химиком Натансоном. Барыня хочет отговорить верного слугу идти в бурю, но он верит, что красные лапти спасут дитя. Нефед «натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море». На следующий день Нефеда нашли замерзшим в двух шагах от «жилья», у него за пазухой «лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином».
Мне, как жительнице хуторского дома, ясно виден «второй слой» этой адописной иконы. Тут не так все просто. Вовсе не буря сама по себе сгубила Нефеда.
– Для мила дружка семь верст не околица, – заговорил князь Василий, как всегда, быстро, самоуверенно и фамильярно.
Л. Н. Толстой. Война и мир
Я живу в новгородской деревне Бобылево, ближайший торговый центр у нас в поселке Кулотино, идти как раз шесть с половиной километров по щербатой асфальтовой дороге. Это основная, главная дорога, по ней в кулотинские магазины ходят, ездят на велосипеде, мотоцикле, автомобиле. По этой дороге ходили дети в школу в любую непогоду (не мои, местные). Деревенский житель может с закрытыми глазами пройти шесть верст по своей главной дороге – дороге к «Дикси» и «Пятерочке». Как же Нефед, деревенский мужик, мог погибнуть на своей главной дороге – пути из торгового центра? Туда дошел, а обратно – нет, утонул в снегах… Туда и обратно – тринадцать километров. С перерывом – остановками в отапливаемых лавках, где продаются лапти и фуксин (или в одной они лавке продавались). Да, была буря. Но туда-то дошел!
Однажды в нашем Окуловском районе случился сильный снегопад. Мне надо было ехать в Петербург, таксист должен был довезти меня до железнодорожного вокзала. Он свободно проехал по боровичской трассе, а на нашу проселочную даже повернуть не смог – так засыпало. Мне звонили диспетчеры, все волновались, просили как-нибудь добраться до трассы, это около четырех километров. Я была одна с трехлетней Маней. Посадила ее, закутанную, на санки и пошла, именно что утопая в снегах. Бури, конечно, не было, но снег валил. Я довольно быстро добралась до трассы и смело могу сказать, что шла бы еще и еще, не так уж это и сложно. А что говорить о деревенском мужике? Который был без Мани и отвечал только за себя. Таксист хранил санки в гараже до нашего возвращения, у меня осталось приятное воспоминание о нашем приключении, и я совершенно не понимаю, как Нефед в трезвом уме мог погибнуть на главной своей дороге, ведь понятно, что он, слуга в хуторском доме, должен был постоянно по ней ходить или ездить в торговые лавки Новоселок – для своих и господских нужд – и знал ее прекрасно. Даже в дикую бурю и вьюгу нельзя ошибиться – ну куча же примет: рощи, отдельные деревья, пространства полей. В рассказе говорится, что вокруг хуторского дома раскинулись поля. Поля всегда ограничены хоть какой-нибудь растительностью.
Зато я понимаю, как Нефед мог погибнуть в нетрезвом уме. Иван Алексеевич Бунин не хотел показать своего героя пьяницей, он описывает его как человека твердого, спокойного, рассудительного, который принимает «трезвое», взвешенное решение идти добывать волшебную вещь, способную спасти ребенка:
«Еще подумал.
– Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то…
И, притворив дверь, ушел».
Это «притворив дверь» говорит о том, что Нефед принимает решение в трезвом уме: подвыпивший человек оставит щель или шарахнет дверью. Вопрос: где, в какой момент он выпил?
Скорее всего, уже на кухне – а как иначе объяснить, что, решив идти в Новоселки пешком, он берет в руки кнут? Пешеходу кнут не нужен. «…Взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам…»
Нефеда не было, вечером решили, что он ночевать остался и надо ждать его завтра не раньше обеда. Опять не понимаю – почему не раньше обеда? Идти шесть с половиной километров мужику, ну даже если в бурю… Или заподозрили, что в Новоселках выпьет и потому задержится?
У кого Нефед мог остаться ночевать? Да у кого угодно: у кума, брата, свата. Возможно, с кем-то из них решил выпить на посошок, заговорился, может, даже решил остаться до утра, но в совсем уже нетрезвом уме вспомнил больного ребенка, с особенной силой представились ему «грозовые видения» невинной страдающей души, «желающей» красные лапти, которые вот, уже здесь, за пазухой, нужно только покрасить, и пошел домой, как его брат и кум ни отговаривали: «Нефедушка, трам-тарарам, завтра пойдешь, давай споем!» Кстати, красивую фильму можно было бы сделать про доброго бедного Нефедушку с эпизодами этих «грозовых видений».
Бунин пишет, что за пазухой у мертвого Нефеда лежали лапти и пузырек с фуксином. Мне кажется, он умолчал о бутылке в кармане зипуна – ее туда, скорее всего, кум засунул.
Скажем пару слов об этих Новоселках, в которые Бунин отправляет своего Нефеда. Возможно, имеется в виду деревня Мценского уезда Орловской губернии, где в усадьбе Новоселки родился Афанасий Фет. У Фета есть прекрасное стихотворение, которое перекликается с рассказом «Лапти» образом ребенка и снежной бурей:
Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.
Будем надеяться, что за смертью Нефеда все же последовало выздоровление барчука, вскоре он смог играть со своими гусарами и лошадками, валяться на ковре, слушая свист бури и уютное мурлыканье Васьки.
Нефед символизирует прекрасную душу русского народа. Он не просто прислуга – он защита и опора: в трудную минуту, рискуя своей жизнью, готов прийти господам на помощь. Из своего прекрасного французского эмигрантского далека Иван Алексеевич смотрит на «русского мужика» как на христианина, богатыря, защитника. Для писателя это исчезнувший в буре революции символ великой страны, которой больше нет. Похоже, главный посыл Бунина в «Лаптях» таков: все было хорошо, народ был опорой господам, господа любили народ, вон какая ласковая барыня, беспокоится за друга Нефедушку, не надо было лезть большевикам в эти чистые, святые, веками устоявшиеся патриархальные отношения и преступно рвать крепкую, почти семейную межклассовую связь.
Теперь хочется обратить особенное внимание на веру Нефеда в волшебство, знаковую для образа «мужика» Серебряного века. (Хронология Серебряного века остается спорной. Мне кажется, что «мужицкие» рассказы Бунина, написанные в 20-е годы, все еще можно отнести к этому периоду русской литературы.) Я готова поверить Ивану Алексеевичу на слово, согласиться с тем, что его лирический «мужик» находится в кровном родстве с лирическим «барином». При этом не могу не отметить его очевидные родственные связи с мужиками Андрея Белого и Гумилева. Нефед, как и «мужики» из романа «Серебряный голубь», верит в некую «дивную тайну», обещающую спасение. На деле эта «тайна» оборачивается «ужасом», смертью.
Деревенские сектанты, «холуби», в белых рубахах ждут второе пришествие Христа, их чинное сладостное моление превращается в сатанинский шабаш, сектантский заправила столяр Кудеяров с бело-солнечным ликом превращается в беса, из его груди вылезает голубок-кровопийца с ястребиной головкой. Во время «радения» Кудеяров приговаривает бредовые слова: «Сусе, сусе, стригусе: бомбарцы… Господи, помилуй». Владимир Соловьев писал о дыромоляях – сектантах, живущих в дремучих уральских лесах: «…просверлив в каком-нибудь темном углу в стене избы дыру средней величины, эти люди прикладывали к ней губы и много раз настойчиво повторяли: “Изба моя, дыра моя, спаси меня!”». На Андрея Белого дырники тоже производили впечатление – он писал о них в своей статье о Сологубе. В русской литературе рубежа XIX и XX веков народная вера в нечто волшебное (дыра, изба, Энгельс, голубь, лапти, Маркс и проч.), способное «спасти душу», принести избавление, стоит рядом с бредом, безумием, смертью, катастрофой. «Мужицкая» приверженность некоей тайне, потусторонней истине и сопутствующая этому особому древнему, дремучему знанию разрушительная сила отмечены в стихотворении Гумилева «Мужик» 1916 года:
В чащах, в болотах огромных,
У оловянной реки,
В срубах мохнатых и темных
Странные есть мужики.
Выйдет такой в бездорожье,
Где разбежался ковыль,
Слушает крики Стрибожьи,
Чуя старинную быль.
Понятно, что так в занесенной снегом степи слышал и чуял все эти потусторонние крики и зовы пушкинский Пугачев. Вот он внемлет какому-то своему Стрибогу (чуть не сказала: «Святодуху») и затем идет на пару с условным колдуном Распутиным разрушать столицу:
Вот уже он и с котомкой,
Путь оглашая лесной
Песней протяжной, негромкой,
Но озорной, озорной.
Путь этот – светы и мраки,
Посвист, разбойный в полях,
Ссоры, кровавые драки
В страшных, как сны, кабаках.
В гордую нашу столицу
Входит он – Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси…
Русские поэты и их «интеллигентные», «образованные» герои как завороженные пытаются заглянуть в мир «странного мужика» с его волшебными дырами и «холубями», они наклоняются над этим бурлящим котлом с колдовским зельем, но вместо пророческих видений им открывается мрачная бездна, тянет «испарениями шарового ужаса» (Андрей Белый).