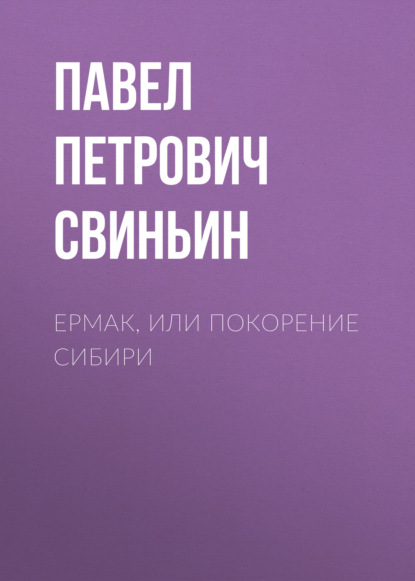По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ермак, или Покорение Сибири
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Видя безуспешность всех сих средств, Татьяна решилась попросить у своего родителя позволение погадать, тем более что настало уже время Святок, когда ворожба составляла повсюду приятнейшую для всех забаву и упражнение. Максим Яковлевич без труда согласился на желание милой своей дочери, приготовясь и сам загадать о своих думах.
Старушка, почитавшаяся первой ворожеей в Орле-городке, принесла черного петуха и выпустила его посреди четырех насыпанных кучек разных зерен и стала со вниманием примечать, которую из них прежде станет клевать он? Петух, несмотря, что в одной из сих кучек насыпана была пшеница, а в другой рожь, кинулся клевать овес, а это, по мнению сивиллы, предвещало великую напасть[60 - Сей способ предвещания есть самый древний в России и, конечно, может почесться остатком греческой алекстромантии. Греки гадали им следующим образом: на песке или на мелкой земле они обводили кружок, который разделяли на 24 части. В каждую клали букву, а при ней зерно, и по тем буквам, которые петух склюет, не выходя из круга, выводили предсказательное слово. Таким образом, софисты Либаний и Ямблих предсказывали, что преемником императора Валентина будет Феодор, ибо петух съел зерна, лежавшие при буквах Ф. Е. О. Д.]. Три раза мешали кучки, и три раза петух предпочитал овес и ячмень прочим зернам, так, что вещунья сама пригорюнилась. Вторая ворожба с растопленным воском, оловом и золотом, объясняемая другой сенной старушкой, была утешительнее для Максима Яковлевича. На вылитом в воду олове до трех раз выходил сверху мост, а это значило, по толкованию ворожеи, дорога с полудня, то есть из Москвы дедушке Денису, снизу же виделись все частоколы, да покойники, да высокие горы. Первые, по словам гадательницы, означали великую сечу на полуночи, а горы – край света. И на воске, и на золоте Татьяне Максимовне выливалось одно изображение храма Божья.
– Ну, родимая, быть тебе под венцом нынешним же мясоедом,? – сказала с восхищением няня, разглядывая слиток.
– Бога ты не боишься, Федотьевна,? – перебила ее со страхом ворожея,? – толковать криво не наше дело. Где ты нашла тут венцы да брачные свечи? Посмотри-ка попристальнее – так и увидишь при церкви-то кладбище с крестом и ширинкою, а это значит монастырь и монахиню.
Старушки долго между собой спорили и не соглашались, а в Татьяне изображение монастыря и монахини оставило какое-то неприятное впечатление; она думала слышать предсказание будущей судьбы своей.
– Ну-ка, Федотьевна,? – сказал Горыныч,? – поворожиста мне – скоро ли попаду я в цари сибирские на место Кучума?
– Давно ли, брат, в бояры-то пожалован, а уж лезешь в цари,? – заметил с улыбкой Максим Яковлевич.
– Велико дело, брат, из московских бояр попасть в сибирские цари,? – отвечал спесиво Горыныч,? – ведь не век же сидеть в боярах. И надоест…
Между тем сенные девушки перешептывались с Татьяной Максимовной. Открылось, что они приготовили на красном дворе остякскую колдунью, которая весьма хорошо ворожила на молоке, кипящем на огне. И Максим Яковлевич пошел смотреть на кудесницу. Это была слепая[61 - Замечательно, что в Сибири шаманы и шаманки скоро лишаются зрения, вероятно от напряжения сил при отправлении своего колдовства.] безобразная женщина, что в глазах суеверия служило знаком особенного благоволения к ней духов. Любопытные толпились вокруг нее и расспрашивали о значении разных побрякушек, висевших на ее платье, и она толковала, что человеческое лицо означало солнце, полукружие – месяц, лодка – воду, треугольник – огонь, решетка – землю и тому подобное. Когда заклокотало молоко в котле, то шаманка, приблизясь к нему с обыкновенным кривляньем и воем, стала дуть и шептать на разноцветные волны, потом опустила в них сучок пихтового дерева. Долго он то тонул, то выскакивал поверх, наконец завертелся… Прорицательница отскочила от котла и, стукнув несколько раз глухим тимпаном своим, завопила странным голосом:
– Бегут, бегут! И с востока и с запада; растворяй ворота, погоняй лошадей…
Все принялись толковать значение темных предсказаний шаманки, а она преспокойно уселась опорожнивать котел с молоком, из коего выплеснула только несколько ковшей в жертву огня. Еще не согласились в значении последних слов прорицания, а в котле оставалось еще с доброе ведро докушать прорицательнице, как к крепостным воротам подъехало несколько повозок, занесенных кругом снегом.
Можно представить всеобщее удивление и радость, когда из первой кибитки вылез Денис Васильевич, хотя обледеневшие борода и усы долго не давали ему возможности произнести единое слово. Все кинулись обнимать старика, не зная еще, добрые или худые вести привез он из Москвы.
Татьяна, наблюдавшая за изменениями лица Максима Яковлевича, первая заметила на следующее утро, когда пришла с ним здороваться, что вести из Москвы были радостные. И действительно, умный, усердный Орел так хорошо обработал дела своего патрона, что выхлопотал даже опальную грамоту от царя Иоанна Васильевича, коей повелевалось чердынскому воеводе выдать головой Никиту Строганова брату его Максиму со всем его животом и людьми за его, Никитино, воровство[62 - Подобной грамотой в Сольвычегодский посад действительно приказано было отдать в 1759 году Семена Строганова братьям его Якову и Григорию.].
Не помню, где-то я читал, что история самых отдаленнейших народов есть нечто иное, как верное описание настоящего. Действительно, исстари говорится, что одна беда не приходит, одна радость не бывает, а свет не изменился. Кому везет, тому все на радость да в прибыль… Кому же заколодит, то беда встречает, горе провожает. Любовь его к отечеству толкуют барбаризмом, усердие к добру – умыслом, благородную откровенность – опасной нескромностью…
То же или почти то же случилось и с Максимом Яковлевичем. Не далее как вчера мы видели его в самом трудном положении; казалось, все вооружилось против него, со всех сторон ждал он напасти и горя. С приездом Дениса Орла все изменилось: радости сменяли одна другую. На другой же день еще более он был обрадован и изумлен вестью из Искера о дивных подвигах Ермака Тимофеевича в Сибири. Верный Уркунду передал с рук на руки Велику доброй Татьяне.
– Ай да колдунья,? – толковали по всему Орлу-городку,? – как сон в руку. Вот те и бегут и бегут! Уж впрямь прибежали добрые весточки и из Москвы и из Сибири.
– А чем же хуже мост мой?? – возразила Федотьевна, обидясь, что слова шаманки предпочитали ее прорицаниям.? – Она, проклятая, не сумела же отгадать, даром что с чертями водится, о покойниках, а я их как на блюдечке выложила. Пусть ворота-то отворились, а уж о конях-то наврала, моя матушка.
Нет, не наврала, ибо не успел еще бедный старик опомниться, не только отдохнуть, как собрали его в дальний и поспешный путь. Из боярской конюшни выбраны были для него что ни есть лучшие, заповедные кони, даны в провожатые что ни есть, лучшие люди, и он, только что выехал за ворота крепости, как приказал погонять лошадей.
Удивительное сходство чувств и характеров сблизили с первого дня Татьяну с Великою. В самое короткое время они подружились, как две родные сестры, во всем признались, все пересказали друг другу, только скрыли, как говорит предание, тайну своего сердца – из какой-то непонятной им самим стыдливости, а может быть, таинственного предчувствия, что они соперницы, что предмет любви их – един.
Внезапный отъезд Дениса Васильевича из Каргедана сделался предметом толков и перетолков всех жителей. Более всего думали, что он поехал в Чердынь за чем ни есть важным, хотя уже несколько лет он не бывал там, но никому не могло впасть в голову, чтобы он отправился в Чусовую, а того меньше видеть его возвратившимся с Никитой Григорьевичем.
Трогательно было свидание двух братьев, разлученных между собой и сделавшихся врагами не столько от неравенства характеров, сколько от коварства людей, находивших в том свои виды. Ненависть Никиты была столь велика к Максиму Яковлевичу, что Денис, приехав от него с поруганием, подвергал себя немалой опасности по неукротимой его запальчивости или, по крайней мере, мог быть прогнан со двора без ответа. Но Орел надеялся, по праву общего к нему уважения Строгановых, что Никита Григорьевич не только допустит его к себе, но выслушает равнодушно, и – не ошибся. Он приехал с предложением Максима Яковлевича к брату своему забыть вражду их и ехать вместе, не медля нимало, в Москву, дабы быть первыми вестниками завоевания Сибирского царства, что, без сомнения, облегчит ему возможность выпросить для него царское прощение. Как ни крут был и надменен Никита, но, увидя свою опасность, признал великодушие брата Максима и согласился тотчас же отправиться с Денисом в Орел-городок.
Братья бросились в объятия один другого и долго плакали, не говоря ни слова. Наконец Максим Яковлевич сказал, всхлипывая:
– Брат! Забудем старое и будем вперед не на словах и бумаге, а в сердце и на деле родными…
Сборы именитых людей продолжались недолго, несмотря на разлуку Максима Яковлевича с милой своей Татьяной. Он брал с собой Велику в Москву в надежде отыскать там ее отца или что-нибудь о нем проведать; а расставание, может быть, навеки двух нежных подруг стоило также нескольких дней неутешных слез и рыданий. Впрочем, богатым людям и тогда ни в чем не было остановки: стоило только захотеть – и исполнялось. Строганов приказал наложить в сани соболей, лисиц и того подобное. С такими документами он надеялся успешнее достичь своей цели при дворе царском.
В день своего отъезда Строгановы отслужили молебен с коленопреклонением и прямо из храма Божья сели в повозки и пустились в дальнюю дорогу, напутствуемые слезами и благословениями всех домочадцев, в особенности Дениса, который по старости лет не думал уже дождаться их на белом свете.
Часть четвертая
Глава первая
Москва печальная.? – Царь-сыноубийца.? – Царский шут.? – Сказочник.? – Исступление Иоанна.? – Донесение о приезде Строгановых.? – Прибытие Кольца в Москву.? – Милостивый прием Ермаковых послов.? – Трехдневное их угощение.? – Внезапный отъезд царя в слободу Александровскую.
Давно Москва, печальная, растерзанная, не знала радости, не видала отрады, но никогда еще не бывала она в таком унынии, как в дня приезда Строгановых. Царь-сыноубийца, преследуемый ужасами ада, устрашаемый привидениями, затворился, как в могиле, в слободе Александровской.
Правда, Иоанн принял опять бразды правления, уступив молениям вельмож, которые утешались надеждой, что тем спасли себя от сетей его коварства; но мрачное бездействие царя, неприступность к нему и тысячи храбрых воинов, томившихся в темницах, не предвещали ни раскаяния, ни умиления Иоанна. Не доверяли его чистому покаянию и смирению, несмотря на одежду скорби, коей он облек себя и двор; ни на черную краску, коей велели покрыть золотые главы собора монастырского; ни на панихиды, которые он повсюду пел; ни на щедрые вклады, которые рассылал в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, думая тем купить себе спокойствие душевное. Москва с трепетом, подобно робкой деве, ожидающей удара, который готов разразиться из черной тучи, висящей над головой ее, ждала новой грозы, новых кровопролитий. Ужасы сей неизвестности увеличивались видениями и чудесами, пугавшими суеверных. Комета, носившаяся днем и ночью над Москвой, была, по всеобщему понятию, знамением величайших бедствий. Многие посадские люди оглушены были в день Рождества Христова сильным громовым ударом, который, как шептал между собой народ, разразился над опочивальней царской у самой кровати и превратил в пепел ставец с драгоценностями и стол, на котором лежала роспись ливонских пленников, обреченных на смерть. Другие столь же осторожно и охотно рассказывали друг другу о мраморном надгробном камне, упавшем с неба недалеко от Налеек (Замоскворецкой слободы); что найденные на нем слова никто не мог разобрать, ни сам митрополит, ни двое литовских гадателей, которых нарочно выводили для того из застенка; и что царь в глазах их велел своим телохранителям разбить камень, сказав: «Смотрите, я всех вас мудрее». Вдобавок ко всему на всех наводил невольную грусть и ужас последний мир с Баторием, вследствие коего Иоанн торжественно отказался от Ливонии, которую Россия около шести столетий именовала своим владением, ибо бедные русские страшились, что малодушный царь, уступивший с многочисленным бодрым воинством славу и пользу отечества горсти изнуренного, разноплеменного воинства Баториева, скоро познает свое очарование и в их крови потщится потопить свой стыд и малодушие!
Вот в каком несчастном положении нашли Строгановы Москву и государство. К большей же горести, благодетель их, Борис Федорович Годунов, уже самый близкий к царю вельможа, еще ничем не запятнанный у престола сановник, лежал на болезненном одре от ран, полученных им от державной руки, которую хотел удержать он от сыноубийства. Годунов крайне жалел, что не мог быть посредником между ними и государем в столь славном деле, но предвещал, что добрая весть скоро проникнет за высокий тын Александровской слободы, ибо царь, несмотря на бездействие свое, любил знать все, что делается, говорится и думается в столице. И действительно, не далее как на другой день молва о завоевании нового царства – богатого, обширного, чудесного – распространилась повсюду, повторялась в храмах Божьих, на крестцах[63 - В Москве почти на каждом перекрестке стояли кресты, у коих собирался народ, большей же частью духовенство.] и на Красной площади, заглушила скорбь о недавней великой потере; была тем радостнее, отраднее, чем неожиданнее, неимовернее: народ воспрянул духом.
Едва прошло два месяца со дня смерти царевича, а Иоанн, по твердости ли духа или от ожесточения и притупления всех чувств, начинал жить по прежнему обычаю. Уже он не стенал и не вопил посреди ночи, не катался по полу в отчаянии, не боялся взора самых приближенных ему людей и по-прежнему засыпал под шумные забавы скоморохов и шутов или тихое мурлыканье слепых сказочников, доколе звон колокола не призывал его к заутрени.
Князь Аввакум Прохорыч Аленкин, в это время занимавший место князя Гвоздева, главы царских забавников, возвратился из Москвы, набравшись подробностей у Годунова и на Красной площади о радостной молве, привезенной Строгановыми, и, как хитрый придворный, спешил сообщить весть сию Иоанну, боясь, чтобы кто другой не предупредил его.
Несколько раз заглядывал Аввакум в опочивальню царскую из-под черного сукна, коим завешаны были двери и обиты ее стены. Множество лампад, ярко теплившихся перед образами, отражали свет, подобный солнечному, так что Аввакум мог читать малейшее изменение, производимое сказкой на лице царском, несмотря на то, что Иоанн казался погруженным в глубокий сон. Он стал прислушиваться прилежнее к сказке…
– Подносила Пересвета,? – продолжал слепец,? – зелена вина в золотой чаре, подавала вино добру молодцу на серебряном подносе с чернядью. Принимал Илья Муромец золоту чару из белых рук, а чара-то была в полтора ведра; хотел Илья Муромец подсластить вино, как то водится в православной Руси, расправлял Илья свои черны усы, подступал Илья к девице с поклонами, Пересвета молодца удаляется, авось богатырь догадается, и возговорит ему красна девица: «Перекрестись, добрый молодец, покажи, что не басурманин ты». Илья Муромец на себя крест кладет, а в чаре вместо зелена вина кровь черная ключом бьет…
– Кровь! кровь! – вскричал Иоанн, вскочив с постели.? – Да! на мне кровь сына моего, я убил его.
С таким неистовством произнес он слова сии, что Аввакум поспешно спрятал голову, которую было выставил из-под сукна, услышав царский голос, а сказочник затрепетал… Иоанн долго молчал, но когда ужасное воспоминание начинало мало-помалу оставлять его, он с усмешкою проговорил сам с собою: «Я омою эти черные пятна чистою кровью, да! самою чистою, невинною… Мне будет легче!..» Проговорив слова сии, царь спокойно лег на одр свой и приказал слепцу продолжать свою сказку.
Но, без сомнения, догадливый сказочник не пожелал быть в другой раз прерванным столь неприятным образом, а потому, пропустив описание кровавого боя между Соловьем-разбойником и Ильей Муромцем, приступил к изображению освобождения сим последним семидесяти красавиц из плена жестокого разрушением очарования, коим превращены они были в сизых голубиц.
– Кличет Илья Муромец своего богатырского коня: «Гой еси, сивка бурка вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, из ноздрей дым столбом, из ушей искры сыплются. Седлает Илья богатырского коня, надевает на него седельце черкасское, тридцать подпруг с подпругою, шелку шемаханского; шелк не рвется, булат не трется, аравийское золото на грязи не ржавеет. Садится Илья на добра коня, ударяет коня по крутым бедрам, конь осержается, от земли подымается. То не пыль во чистом поле завивается, не густой туман со озер, с болот, с зеленых лугов расстилается, едет то сильный, могучий богатырь Илья Муромец, едет он девять дней, девять ночей, глаз не смыкаючи, росинкой Божьей горло не промачивал, зерном пшена коня не кармливал. На десятый день останавливается у десяти дубов, на тех дубах десять теремов, а в тех теремах сидят десять голубиц, а к тем теремам десять ворот, все железные и с подворотнями, в полтораста пуда каждая. Вынимает Илья из ножен свой меч-кладенец, а весит он двести пудов с двумя фунтами. Ударяет Илья мечом в первые ворота, рассыпаются ворота и с подворотнею, другие ворота и третьи разбивает в два часа, четвертые и пятые в два денька, шестые и седьмые в две недели, осьмые в два месяца, девятые бьет Илья два года, а десятые – двадцать лет. Не кручинится Илья о трудах, о времечке, мудрено Илье только выбрать свою суженую, Пересвету прекрасную, из семидесяти царевен, что проклятый Соловей натаскал в гнездо свое со всего свету Божьего. Они все на одно лицо: белы, как вешний снег, румяны, как заря утренняя, у всех глаза черные с поволокою, грудь соколиная высокая, поступь лебяжья приманчивая, губки, как маков цвет, зубы, что твои жемчуги. Все одно ласковы, приветливы. Глаза у добра молодца разбегаются, богатырское сердце разгорается…
Аввакум, заметив, что описание красавиц произвело приятное впечатление на лице Иоанна, почел это счастливым временем для объявления доброй новости. С шумом и запыхавшись, вбежал он в горницу и, встав на колени, закричал:
– Не вели, царь государь, казнить, не вели рубить, вели слово вымолвить.
Иоанн, привыкший к проказам своего забавника, которые редко бывали без цели, нисколько не встревожился внезапным его появлением и довольно милостиво сказал:
– Ври, дурак, что хочешь…
Мнимому дураку только этого и хотелось, чтобы царь не рассердился на него с первого раза. Он с важностью встал с пола и сказал:
– А что, кум, посулишь, коли совру тебе такую весточку, что и Борьке Годунову не выдумать, даром что востер…
– Прежде князь Аввакум Прохорыч Аленкин со мной не торговался,? – сказал Иоанн с улыбкою.
– Правда, Ванюша, да, вишь, давно не было ничего доброго и веселого, за чтоб с тебя новинку содрать.
– Говори же скорее,? – перебил его царь с приметным неудовольствием при неуместном замечании дурака, и дурак, опомнясь, что неосторожно проговорился, сбавил несколько спеси и продолжал:
– Изволь, кум, я не в тебя, скажу и даром. Кланяюсь тебе, батюшка, царством, да таким длинным, что твое Московское менее вот этой заплаты на моем охабне…
– Выдумай что позабавнее, а не то убирайся вон,? – прикрикнул царь, перевернувшись к нему спиною.