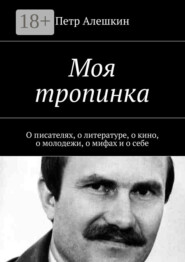По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сны Ивана. Рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Иван прикрыл глаза, и мигом перед ним запылали танки, дома, загрохотало, затрещало вокруг. Он застонал и испуганно вскинул веки. Юсуп услышал его стон и с сочувствием спросил:
– Плохо?
Иван вздохнул.
– Будешь еще? – Юсуп сунул руку за пазуху и вытащил четвертинку.
Карамелька рассосалась во рту, но еще чувствуется сладость от нее, потому теплая паленая водка кажется особенно противной, тошнотворной. Но через минуту горечь во рту исчезает, и он снова начинает вплывать в блаженное состояние, и с опаской закрывает глаза, но ни огня, ни грохота разрывов нет. Тихо. Только шорох, влажное шлепанье ног, говор прохожих. Иван прислушивается: нет ли среди этого бесконечного движения звука шагов той, которая ежедневно проходит мимо и каждый раз непременно останавливается возле него, кладет пять рублей в кепку.
Сплошной шум в ушах вдруг переходит в одобрительный рокот народа, аплодисменты. Иван пробирается сквозь громадную толпу, заполнившую Красную площадь, к мавзолею, на трибуне которого стоят несколько человек. И один из них выступает. Говорит быстро, страстно, горячо, взмахивая рукой и резко бросая ее вниз, чтобы выделить особо важную мысль. Народ выдыхает единой грудью, когда его рука падает вниз. «Иван! Иван! – слышит Иван радостные возгласы вокруг себя. – Наконец-то пришел Иван!» Иван все ближе и ближе пробирается к мавзолею, и вдруг узнает в ораторе себя. Да, это он стоит на трибуне и призывает народ к действию.
«Сколько можно терпеть дармоедов и воров на нашей шее?» – яростно кричит он в толпу.
И народ единой грудью выдыхает:
«Хватит! Натерпелись!»
«Они ненасытны, – машет Иван в сторону Кремля. – Никогда не насытятся народной кровушкой! Пора освободить Кремль от кровопийц!»
«Пора!» – единодушно выдыхает народ.
«Так в чем же дело! – кричит-призывает Иван. – Вот он, Кремль! Рядышком! Идем освободим его!»
Мигом слетел Иван по гранитным ступеням трибуны на площадь и бросился к воротам Спасской башни.
«Освободим! Урра!» – ринулся народ за Иваном в Кремль сквозь Спасскую башню, затопил собою Ивановскую площадь, соборы, Кремлевский дворец.
И вот уже этот самый народ в зале суда. На скамье подсудимых и бывший президент и настоящий, рядом с ними – многочисленные премьер-министры и министры, олигархи-проходимцы и прочие миллионеры-мошенники. Большая скамья получилась. И главный обвинитель от народа опять он, Иван. И опять он страстно клеймит подсудимых-кровопииц, на этот раз он перечисляет многие факты их преступлений перед народом и страной. В зале тихо, только страстный, гневный голос его звучит, требуя самого сурового наказания мучителям народа. Иван возбужден до дрожи, и возбуждается все сильнее и сильнее… Вдруг кто-то сзади легонько дергает его за плечо, слышится встревоженный голос:
– Иван, Иван! Ты что дрожишь? Заболел? Плохо?
Иван вскидывает голову, видит черное лицо Юсупа и сразу перестает дрожать.
– Заснул, – бормочет тихо Иван и смотрит в кепку.
Там две бумажные купюры и горсть монет, среди которых он разглядел три монеты по пять рублей. Возможно, одна из них ее. «Проспал, прошла!» – с горечью думает Иван. Он берет из кепки одну бумажку и пятирублевую монету, но задерживает руку над кепкой, кладет монету назад, «вдруг именно ее положила она», потом отсчитывает пять рублей и протягивает Юсупу вместе с бумажкой:
– Пивка возьмешь себе?
– У меня еще осталось, – Юсуп суетливо сунул руку себе за пазуху. – Добьем?
– Не надо, – отказался Иван. – Я в аптеку пойду. Мать заболела.
– Я тебя провожу, – стал подниматься Юсуп. – А то заболтался я с тобой. Работать надо.
Иван ссыпал мелочь из кепки в карман, предварительно вынув из него старые перчатки. Натянул поглубже кепку на голову, перчатки на руки, и они пошли к выходу. Иван отталкивался сильными руками от мокрого пола, колеса его коляски мягко постукивали плотными резиновыми шинами на стыках плит. Прохожие расступались, освобождали ему проезд.
На улице смеркалось. При свете фонарей метель разыгралась еще сильнее, сердито, словно злясь на что-то, швырялась снегом, резче, больнее хлестала по открытому лицу Ивана.
Последний бой ветеранов
Рассказ
Май. День Победы.
Конец апреля выдался жарким, деревья еще к первому мая зазеленели, выбросили клейкие листья, зацвела черемуха. Три дня были прохладными, прошел дождь. А сегодня с утра погода разгулялась. Серо-жемчужные облака высоко плыли над деревней. По улице тянуло запахом цветов с луга, легким влажным воздухом.
На теплых ступенях крыльца крайнего дома деревни с унылым лицом понуро сидел сухой, но еще довольно крепкий старик Иван Николаевич Пересыпкин. Был он в кепке, в поношенном пиджаке, в резиновых сапогах. Крыльцо, серое от древности, скособочилось, как больной радикулитом, и казалось, прислонись к нему нечаянно рукой, оно рухнет. Но у старика не было ни денег, ни сил, чтобы поправить его. «Выдержит еще года два, не развалится. Меня переживет. Скопытырюсь, сосед и дом, и крыльцо вмиг спалит, чтоб сорок соток моих прихватизировать! – говаривал старик, если кто-нибудь из односельчан советовал ему поправить крыльцо. – Недра наши присвоил, теперь нашу землю цапнуть жаждет».
Дело в том, что такой же ветхий дом умершей соседки три года назад купил никому неизвестный нефтяник. Всю усадьбу обнес трехметровым кирпичным забором, построил особняк. Вскоре ему показалось, что земли мало, что, если присоединить участок Пересыпкина, а за ним и часть луга, принадлежащего администрации деревни, то можно не только теннисный корт за забором устроить, но и маленькое поле для гольфа. Он предложил Ивану Николаевичу поменять его дом и участок на дом в Тверской деревне.
Пересыпкин удивился такой наглости соседа, ответил недружелюбно, чтоб впредь пресечь такие разговоры:
– Здесь я родился, здесь и смерти дождусь! – И повернулся, чтоб уйти в свой дом. Стояли они у крыльца.
Но нефтяник задержал его, сказал весело:
– Смерть всегда вокруг нас ходит, – и добавил твердо: – Заартачишься, придется пригласить ее к тебе в гости! Мне больше с тобой некогда разговаривать, мои ребята договор на обмен подготовят.
Вчера вечером к старику заглянули ребята нефтяника, два плечистых лобастых «быка», похожих друг на друга так, словно их на одном станке по лекалу вытачивали, в черных пиджаках с галстуками. Зашли в дом, по-хозяйски осмотрелись и спокойно предложили то же самое, что и хозяин их: обмен дома на Тверскую деревню.
– Здесь, в пятнадцати километрах от Москвы, каждая сотка стоит пять тысяч долларов, – стараясь быть спокойным, ответил Иван Николаевич. – А у меня огород сорок соток, да под домом и палисадником двадцать. А в Тверской деревне земля даром никому не нужна.
– Грамотный, – усмехнулся один «бык».
– Почему никому не нужна? – спросил-возразил другой. – Нам нужна, чтоб поменяться с тобой.
– Не буду я меняться, – задрожал от возмущения и бессилия Иван Николаевич. – Не буду, никогда!
– Будешь, – снова усмехнулся первый «бык».
– Никогда не говори «никогда», – назидательно сказал другой.
– Лучше я сдохну, чем уеду отсюда! – яростно, с негодованием воскликнул Пересыпкин.
– Это самый лучший выход для нас, – серьезно ответил первый «бык».
– Если надо, поможем, – сказал второй и добавил: – Ты, старик, чувствуем мы, не готов к деловому разговору. Завтра, с утреца, часиков в десять, заглянем к тебе, обговорим условия… У тебя выбор есть: либо обмен, что лучше для тебя; либо сдохнуть, что лучше для нас. Взвесь, обдумай за ночь.
И теперь Пересыпкин ждал ребят нефтяника, сидел на ступенях крыльца, сжимал рукой, массировал под стареньким пиджаком свою грудь с левой стороны, пытался успокоить рвущееся от тоски сердце. «Что делать? Как быть?» – с жгучей горечью думал он, пытаясь отогнать скорбную мысль, что можно покончить с этой безотрадной поганой жизнью сразу и навсегда. Лечь рядом с Анютой. Жена его Анна Михайловна умерла два года назад. Прожили они вместе пятьдесят пять лет, прожили мирно, покойно, но детей не нажили. Не дал им Бог детей. Увезут теперь в Тверскую деревню, сдохнешь там и зароют в чужой земле вдали от Анюты. Вместе жизнь прожита, и упокоиться вечным сном хотелось дома, чтоб лежать рядышком с женой. Иван Николаевич до такой степени ушел в себя, что не слышал орущих по-весеннему воробьев на высоком густом кусте сирени, приготовившемся зацвести, под окном его старенькой избы, не слышал подъехавшей и остановившейся на дороге напротив него машины, старенького «Запорожца» давнего друга однополчанина Леонида Сергеевича Долгова, Леньки. Леонид Сергеевич некоторое время весело смотрел из окна машины на Ивана Николаевича, надеясь, что тот поднимет голову, обратит на него внимание и радостно вскочит во весь высокий рост, как всегда бывало, когда он приезжал. Не дождавшись, посигналил. Пересыпкин уныло поднял голову, взглянул на друга, но даже не шевельнулся, чтобы подняться. Тогда Леонид Сергеевич стал тяжело выбираться из «Запорожца», позвякивая многочисленными медалями на пиджаке, в старости люди вес теряют, худеют, а он наоборот, отяжелел, полнеть стал, выбрался, оперся на палку и весело спросил у Ивана Николаевича:
– Ты чего такой скорбный? – И прихрамывая, как-то бочком, направился к нему: – И не в парадном мундире. Праздник ведь, наш праздник!.. Язва скрутила? – протянул он сочувственно руку Пересыпкину.
– Хуже, – вяло пожал Иван Николаевич мягкую горячую руку Долгова. – Хуже. Со свету сживает новый соседушка, – глянул он в сторону высокого забора из красного кирпича возвышавшегося неподалеку от его избы, за которым виднелась зеленая крыша особняка. – Усадьба моя приглянулась ему. Расширяться вздумал, а я мешаю. Выселить хочет в Тверскую деревню, говорит, не все ли равно тебе, где подыхать…
– Вот сволочь, а! – посерьезнел, возмущенно качнул головой Леонид Сергеевич.
– «Быки» его грозят, не соглашусь, ускорят смерть. Мол, земля моя даром достанется… И придушат, придушат, рука не дрогнет. Не я первый, не я последний…