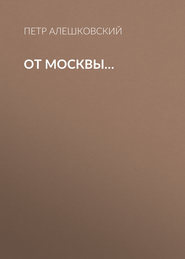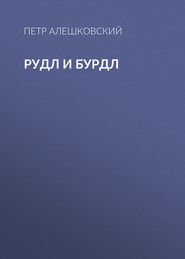По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чайки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Те взял, не напутал? – шепотом спросил Вовчик.
– Те, те самые, они у стены стояли снятые, я… – зачастил было Окурок, протискиваясь на волю, но Вовчик резко оборвал его:
– Гляди, спутал если – крышка тебе.
Он не то чтоб пугал, он был уверен, что бич не ошибся, но надо было, необходимо было обозначить сейчас свое главенство. Бросив ставню ненавешенной, так же бесшумно, как взошли, они проскользнули по ступенькам вниз и, озираясь по сторонам, побежали к недалекой ограде.
– Спят, парень, спят, – сам себя успокаивая, давясь сквозь всхлипы прокуренных легких, выдавил бич, когда они на секунду остановились у большой, еще помещичьей липы.
– Ладно, пронесло вроде, – мрачно подытожил Вовчик. – Давай по воде, да перцем присыпь – собакам, падлам, чтоб нюх отбило.
Он без оглядки припустил по кромке болотины, стараясь поменьше чавкать сапогами, а Окурок засуетился за спиной, рассыпая перец, и вскоре догнал его. Испугавшись чего-то, он бежал быстро и шумно, за что незамедлительно сподобился тычка в зубы, но проглотил его и пошел за своим командиром, попритихший, тщательно ставя ноги в намокших офицерских ботинках след в след. Окурок привык к побоям, мокроте, стуже настолько, что почти не обращал на них внимания, лишь больше сутулился да ниже пригибался к грязной земле.
Они вышли на лужок, и, зачастив по высокой траве, вскоре очутились у стен Монастыря. Вовчик на секунду замер, вглядываясь во Фрицевы окна, но там свет не горел, да и вокруг не было ни души, и, что удачно, дверь в кочегарку, летом бездействующую, была приоткрыта. Вовчик заглянул внутрь и, не найдя там ничего опасного, зашел, приказав Окурку стоять на стреме. Старичок покорно пожевал губами и сел возле двери, полагая, что так меньше привлечет чье-либо внимание.
Спустя недолгое время появился освободившийся от мешка Вовчик. Он был подозрительно весел и вертел в руках увесистый целлофановый пакет.
– Пошли, доходяга, – шепнул он на ходу, и скоро они уже сидели в старом фургончике за наспех сколоченным столом, словно час назад и не выходили отсюда.
– А знаешь, я было испугался, – признался он Окурку. – Захожу в кочегарку – тихо, и вдруг как застонет кто-то из-за печки. Подошел – Бутыла. Тоже бич, навроде тебя, как напьется, так домой не идет, у своих печей долбаных отсыпается. Лежит, ну мертвяк краше, челюсть откатил – сопит. Потрогал я его, потолкал – мертвяк и есть, они вчера на станции «БФ» покупали в хозмаге, вот его и склеило.
– А деньги-то, ты говорил, оставил? – нетерпеливо перебил Окурок.
– Деньги, не боись, деньги, как в банке, шеф порядок любит. – Вовчик достал из кармана мятую пачку, и при свете фонарика быстро разметал ее на две кучки – по пять сотен, как сговаривались.
Окурок тут же пересчитал долю и запрятал куда-то на теле, в ему одному ведомый закуток.
– Как уйду, деньги перепрячь, – наказал Вовчик, небрежно сгребая бумажки. – А сейчас – давай за удачу.
Он свинтил голову бутылке, оказавшейся в целлофановом пакете, большим рыборазделочным ножом накромсал луковицу и хлеб и разлил водку по кружкам.
– Ну, давай. – Вовчик опрокинул кружку, крякнул и захрустел луковицей. Зажевав, он вынул из мешка непочатую бутылку и поставил ее на стол.
– Держи, халява, это тебе с барского стола, и чтоб как уговаривались – две недели никуда. Бичуй, как бичевал, бутылки собирай, а ноги не дай Бог сделаешь – из-под земли выну.
Он взял ржавый ножик и картинно воткнул его в стол.
– Смотри же, – напомнил еще раз от двери.
– О говореном говорить не будем, – вяло откликнулся Окурок. Он уже захмелел и, казалось, погрузился в свои бродяжьи думы.
– Гляди, я днем зайду, проверю – чтоб здесь был, а потянут – сам знаешь, что сказать. Они на туристов подумают – не дорос ты вроде до Николиных досок.
Вовчик вышел из фургона и зашагал к реке, к Колькиной лодке. Петр и Павел – рыбацкий день, и времени до праздника оставалось достаточно, а уж там он своего не упустит, к восьми самое позднее и подкатит. Но сейчас он спешил к Маруське, та, верно, заждалась – обещался ведь ей прийти. Вот и придет, и выложит ей полторы тысячи кровные, и схоронит их баба, и поедут они потом в Баргузин, подальше от проклятого сиволапого Поозерья.
Он оттолкался шестом от берега, погреб немного веслом, чтоб не наводить шороху в деревне, и уже на фарватере запустил мотор. От толчка Вовчика кинуло в корму, лодка заплясала, но он уверенно навел ее на цель – на Цыганскую слободу, где ждала его Маруська и всего небось уже в сердцах изматерила.
– Ниче, то-то обрадуется, – сказал себе под нос Вовчик и хмыкнул довольно в отпущенные для форсу щетинистые сивые усы.
Окурок тем временем очнулся от раздумий, куда-то сбегал ненадолго, видно, прятал в заранее подготовленное местечко большие свои деньги, и, вернувшись, откупорил бутылку, и разом отмахнул половину, а другую, запечатав, припрятал на утро в сене и, ни на что уже не глядя, повалился на лежак и уснул.
Ночь меж тем только готовилась отступать. Тучи по-прежнему висели над землей. Где-то в Слободке прокричал первый, шальной петух. Ветерок нагнал туману, и, окутанный им, утонул фургончик, слился с дамбой, словно и не было его.
3
Серега проснулся среди ночи от кошмара – снились иконы, две проклятые иконы, за которыми он и ехал в Старгород. В общем вагоне было душно, пьяный сосед, свесив ногу с полки храпел так, что было не до сна. Он вышел в тамбур, закурил. Поглядел в темень за окном, послушал тарахтенье колес – послушал и помотался вместе с ними: вправо-влево-вправо-влево-вправо-влево. Кривая нога словно была создана для качки – держала тело, лишь особо сильные рывки заставляли вскидывать руки и отжиматься на стенках, и только колеса противно тянули, как Сенька – «Ма-ма-ма-маа-маа», трясло нутро, и Сенька вставал перед глазами.
…Сенька – двоюродный брат, сын тети Сони, был двумя годами старше Сереги. Он носил настоящий «парабеллум», правда без обоймы, но найти такой никому еще не удавалось. Простого оружия в лесу была прорва – заржавленное, с заклинившими затворами, оно, как и прочие военные железки, служило надежной подкормкой – раз, два раза в неделю приезжал на телеге Цыган, забирал железо и давал взамен сладкие, посыпанные настоящим сахаром подушечки с кислым вареньем внутри – большую по тем временам роскошь.
На них играли в секу самодельными картами, и Сенька, самый удачливый, всегда выигрывал. Но долго жмотничать он не умел, раздавал награбленное назад, и они опять играли или догрызали конфетки и отправлялись на новые поиски – Цыган наезжал бесперебойно.
В лес, правда, отваживались ходить только старшие близнецы Железновы – Колька с Витькой да бесстрашный Сенька – в лесу легко было напороться на мину. Серега собирал железо по обочинам, а потому приносил меньше всех, боялся. Боялся и не скрывал этого.
Труслив он был с рождения – к отцу в сойму его, было, силком не затащишь, и хотя он умел плавать, но купался редко и всегда отдельно от других мальчишек. Он по-своему любил Озеро – днями пролеживал в траве за деревней, следил за полетом шмелей или, подкравшись в камышах к уткам, мог бессчетное время простоять в воде, наблюдая за их кормежкой, и тихо, не вспугнув птиц, уходил, весь синий, промокший и довольный. Птицы были его тайной страстью – одному Вовке он открылся, признался, что понимает их нехитрый язык, понимает с самого, наверное, рождения, когда, лежа в старой карнауховской колыбели и разглядывая вырезанную на спинке тетерку-берегиню, даже с ней умудрялся разговаривать на непонятном взрослым языке.
– И что он лопочет? – изумлялся отец. – Зинка, может, он у нас немтырь? Парню два года с половиной, а он «папа-мама» не скажет – стрекочет себе по-птичьему.
– Ты бы пил больше, – огрызалась мать. – Говорят, с этой водки более всего дети страдают.
Она брала Серегу на руки и убаюкивала. Он засыпал, и во сне видел свою тетерочку, и с ней разговаривал, разговаривал…
Первое его слово было: «Чайки!» Мать вывела его на берег, и он, увидав кружившихся у подходящих к берегу сойм озерных побирушек, потянулся ручонкой и сказал громко и внятно: «Чайки!» Мать чуть на землю не села от испуга. С того дня он начал говорить сразу фразами, легко, ведь слова давно в нем сидели, он только ленился их произносить. Куда как приятней было кричать по-птичьему, передразнивать сороку, пугать до смерти кур или подзывать озерных чаек. С ними он легко сдружился и, когда никто не видел, подзывал их, и птицы слетались, садились на песок, глядели сперва недоверчиво, но бочком, бочком подбирались к мальчишке, давали себя гладить, брали рыбу, что он таскал для них из рыбацких ящиков.
Раз, правда, ему досталось – дед Алексей Платонович, всегда к нему добрый, застал Серегу с чайками и почему-то отчитал. Дед тогда заругался, сказал, что чайки – дуры, попрошайки и кормить их – пустое дело, что воду в песок лить, взял его за руку, отвел к себе в избушку, посадил слушать Библию.
Только Сенька один его понимал и даже завидовал его умению. С Сенькой они ходили глядеть птиц, и тогда Серега преображался, начинал командовать, даже ругался, если брат полз слишком громко, слишком хрустко ступал, и они замирали на опушке или на бережку, и Сенька шепотом спрашивал: «А что он сказал? А что она ответила?» И Серега переводил. Это и была их совместная тайна.
И вот однажды они забрались в Никольский карьер к ласточкам. Птицы облюбовали глинистый обрыв, нарыли в нем нор и сновали взад-вперед, прилетая с кормом и улетая за ним в поднебесье. Сперва они смотрели на них, а после Сенька загорелся достать ласточонка и, как ни отговаривал, как ни молил его Серега, полез по обрыву, запустил руку в дырочку лаза и чуть было не достал, но сорвался, поехал по глине и – невредимый и веселый – уже кричал снизу, звал к себе – на что-то он там наткнулся интересное.
Сенька стоял на коленях и рыл, только глина летела из-под ног, и Серега не стерпел, съехал вниз, и… Сенька уже держал в руках тяжеленный артиллерийский снаряд. В песке, на самом дне ямы, блестели еще хищные, остроносые головки, и рядом валялась доска с колючими немецкими буквами от снарядного ящика.
Сенька сразу принялся подсчитывать, сколько запросит с Цыгана за такое богатство. Он не обращал внимания на Серегины причитания и, вконец разозлившись, даже замахнулся на него рукой: «Не хочешь – вали, я сам перетаскаю, маменькин сынок…» – он оттолкнул Серегу, поднял снаряд и попер его к дороге.
Снаряд был, наверное, пудовый – не десятилетними руками такой таскать, но Серега, словно окаменел от страха, бежал впереди, шагах в десяти, боясь даже предложить свою помощь – да гордый Сенька бы и не дал.
А после – ударило от земли, и его подняло и швырнуло в обочину, мордой прямо в крапиву, и он заорал, и вскочил, и тут же упал – ноги не слушались, голова шла кругом, и гул стоял в ушах, и где-то рядом кричал Сенька, кричал надсадно, на одной ужасной ноте, беспрестанно, не прерываясь ни на секундочку: «Ма-маа-маа-ма-мааааа…» И он наконец очнулся и увидел: Сенька извивался в пыли, в яме, что разворотил снаряд. От него осталась ровно половина, и эта кроваво-сизая половина еще мычала, еще звала, а Серега, все поняв, пополз вперед, вперед по дороге, цепляясь руками за землю, и плача, захлебываясь от пыли и слез, и совсем не чуя боли, но не чуя и ног. Он только раз взглянул на них и, увидев, затрясся от страха, от жалости к ним, к себе, но продолжал ползти, нутром чуя, что иначе нельзя, иначе – смерть. Он полз, оставляя за собой кровавую полосу, пока не увидал телегу и на ней Цыгана. Цыган заметил его, скатился с телеги, поднял, и ласкал, и причитал от испуга по-цыгански, разодранной рубахой наспех бинтуя тело и ноги, и завернул потом в брезент – Серегу начал бить озноб, – и погнал в город, в больницу. Серега мотался в телеге, а Цыган яростно избивал коня, и, тарахтя и пыля по большаку, они летели, но Серега не слышал ничего, кроме Сенькиного крика: «Ма-маа-ма-маааа…»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: