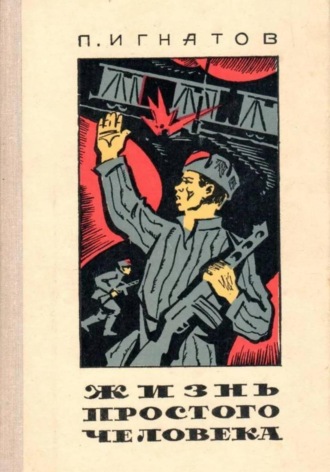
Жизнь простого человека
любимые мною люди, и мерное тиканье ходиков, и тёплый запах хлеба, – что у меня защекотало
в носу и слёзы снова навернулись на глаза. Но это уже были не слёзы обиды и ожесточения, а
тёплые слёзы радости.
– Ну, нагостевался? – спросил отец, поднимая от книги голову.
– Хорошо было, сынок? – спросила мать.
– Дома лучше, – ответил я, не глядя на них.
10
Мне шёл двенадцатый год, когда я окончил четырёхклассное городское училище. Хотелось
учиться дальше.
Отец тоже хотел, чтобы я продолжал образование, пока у него есть силы и возможность
содержать семью.
В то же время он старался приохотить меня к своей работе.
– Ремесло, – говорил он, – в жизни не помеха, а на кусок хлеба при случае заработать всегда
можно.
Отец радовался, что мой интерес к труду не только не остывал, а, наоборот, увеличивался,
чем старше я становился и чем ближе знакомился с «тайнами» ремесла. Иногда с простодушной
мальчишеской хитростью я пользовался этой маленькой слабостью отца. Когда мне нужно было
выпросить у него что-нибудь, я заводил с ним серьёзный разговор о работе, стараясь блеснуть
познаниями, и почти всегда добивался своего. Но и без всякого притворства, я действительно
живо интересовался работой отца, и он всегда находил во мне заинтересованного слушателя.
Соскучившись слушать эти наши разговоры, мать пыталась порой прервать их каким-
нибудь вопросом. Отец притворно сурово хмурил брови и говорил:
– А ты, мать, помолчи! Видишь, два рабочих человека беседуют!..
На двенадцатом году жизни я значительно подвинулся вперёд в своём умении работать, как
отец. Многое из мелких домашних поделок и починок делал теперь я сам и очень любил этим
заниматься. В какой-то мере это заменяло мне игрушки, которых у меня в детстве не было. Да,
вероятно, если бы мне и подарили игрушечный паровозик или автомобиль, я отнёсся бы к нему
с презрением. Гораздо более интересные вещи я умел сделать сам, своими руками!
Отец с неумолимой придирчивостью проверял мою работу. Он требовал безукоризненной
точности и чистоты в отделке самой, казалось бы, второстепенной детали.
– Что ж, – говорил он, разглядывая сделанную мною задвижку для двери в чулан, –
задвижка как задвижка, дверь ею запирать можно… Да ведь можно и просто гвоздь вбить и
верёвкой завязывать. А ты, дружок, сделай не просто задвижку, а такую вещь, чтобы сразу было
видно – мастер руку приложил! Понимаешь – мастер! Ну-ка, бери напильник…
Я очень любил отца, хотя он был со мной строг, а порой слишком суров, требователен. С
малых лет я был приучен к тому, что слово отца – закон. Этому немало способствовало то, что
отец всегда твёрдо и нерушимо держал своё слово. Он был на редкость прямой, справедливый
человек.
Отец не участвовал прямо и активно в рабочем революционном движении. Но бригады,
которыми он руководил, нередко одними из первых примыкали к организованному протесту
рабочих против увольнений, штрафов или других притеснений со стороны хозяев. Отец с
интересом читал революционные газеты и листовки, ходил на митинги и собрания рабочих, но
никогда не выступал на них. Раз он участвовал в жестокой потасовке с членами черносотенного
«Союза русского народа», которой закончился словесный диспут с ними в «Соляном городке».
После этого случая он раздобыл где-то маленький смит-и-вессон. Мать сшила из
бархатного лоскута кобуру, и отец, отправляясь на собрание, иногда прихватывал револьвер с
собой.
Помню, когда мы жили в Петербурге, у нас одно время часто ночевали какие-то молчаливые
люди; приходили они поздно вечером, на рассвете уходили и потом никогда не возвращались.
Теперь мне ясно, что это были революционеры-подпольщики, которые в те времена
нередко находили приют и временное пристанище в рабочих семьях. Мы не знали, кто они, как
их зовут. Они приходили и уходили. И отец и мать приветливо встречали ночных постояльцев,
старались получше накормить их, поудобней уложить. А мне был дан отцом строгий наказ: ни о
чём не спрашивать их и вообще не болтать.
Один из этих гостей запомнился мне особенно хорошо – возможно, потому что остальные
приходили, когда я спал, и видел их я только мельком, рано утром. Этот тоже пришёл поздно
вечером, но я ещё почему-то не спал. Отца не было дома, – он пришёл позднее. Мать, как всегда
по вечерам, не то шила, не то штопала, сидя за столом.
В дверь постучали. Мать открыла, и в комнату вошёл молодой, невысокого роста человек с
чёрной бородкой, в очках, которые сейчас же запотели, как только он вошёл в тёплую комнату.
Он прикрыл за собою дверь, снял очки, отчего его лицо стало ещё моложе, добродушней, и начал
поспешно протирать их.
– Входите, милости просим, – сказала мать, очевидно предупреждённая отцом о приходе
незнакомца.
– Благодарю вас, – сказал тот, слегка заикаясь.
Когда он надевал очки, его красные руки сильно дрожали, и тут только я и мать сообразили,
что этот человек продрог, что называется, до костей, ему и слово-то вымолвить трудно.
И не мудрено! Стояли жестокие крещенские морозы с ветром, метелью, а на незнакомце
было лёгкое осеннее пальтецо, старенькая шляпа; не было у него даже перчаток и шарфа.
– Да вы ж замёрзли совсем! – всполошилась мать. – Раздевайтесь скорей, садитесь вот сюда,
к печке, я сейчас самовар согрею!
– Да, знаете, мороз, как на Северном полюсе! – отвечал молодой человек, улыбаясь и крепко
потирая свои красные руки. – А мне ещё, признаться, целый час пришлось петлять по улицам,
прежде чем попасть к вам! – Что смотришь? – обратился он ко мне. – Знаешь, как зайцы петляют,
чтобы сбить с толку собаку? Зайцу-то хорошо, у него шуба тёплая, а я ещё тёплой шубы не
нажил!
Он весело подмигнул мне, снимая своё потрёпанное пальто.
– Вот чаю я выпью с удовольствием, с радостью! Вы себе и представить не можете, как я
мечтал о стакане горячего чая там, на улице. Но только уговор, хозяюшка, – сказал он, увидев,
что мать снимает самовар с табуретки, – самовар ставить буду я! У меня, знаете, правило такое:
всё делать самому, не допускать, чтобы кто-нибудь хлопотал за меня.
– Ну что это вы выдумали такое, – сказала, смеясь, мать, – У меня, может, тоже такое
правило и я тоже хочу чаю выпить. Как же мы с вами поладим? Второго-то самовара у меня нет!
Он от души рассмеялся.
– Ну, поддели вы меня!.. Тогда давайте вместе трудиться, я, знаете, очень люблю ставить
самовар. Чудесная машина – самовар!..
Ещё и получаса не прошло, как он постучался в нашу дверь, а нам казалось, что мы знаем
его давно, такой он был простой, общительный.
Он с жадностью выпил пять стаканов чаю с хлебом, рассказывая с милой, застенчивой
теплотой о старухе матери, которая жила в маленьком городке на Волге. И вдруг он замолчал,
глаза у него закрылись, он уронил голову на руку и затих. Это было так неожиданно, что мать
вскрикнула и бросилась к нему. Он спал, спал крепчайшим сном. Мать всплеснула руками.
– Ах ты, боже мой! До чего же намучился человек!
Она взяла старый отцовский полушубок, одеяло, подушку и быстро соорудила на лавке
постель, поставив в изголовье табуретку.
– Ложитесь, ложитесь скорее, я вам постель приготовила, – говорила она, трогая
незнакомца за плечо.
Он медленно поднял голову, не раскрывая глаз. Видно было, что, собрав всю силу воли, он
боролся с одолевавшим его сном. С усилием раскрыл глаза, тряхнул головой, встал.
– Ффу!.. Вот как меня разморило в тепле-то, после чая… Вы извините меня… извините, две
ночи не спал! – бормотал он. – Спасибо вам… Вы должны мне дать честное слово, что я никого
не стесняю, не занимаю ничьё место… – Он сел на лавку, потянулся. – Ох, как хорошо!
Через минуту он спал, повернувшись лицом к стене, не успев даже снять сапоги. Их снял с
него позднее отец, вернувшись домой.
Мать на цыпочках подошла к нему, долго смотрела, подперев щёку рукой, жалостно
покачивая головой.
– Молоденький совсем… Студент, должно быть… Бьются люди, бьются, себя не жалея, –
чего-то добьются? Святые, что ли, ничего себе, всё народу. Одно слово – большевики!..
Она заботливо осмотрела пальто гостя, пришила вешалку, закрепила пуговицу,
болтавшуюся на ниточке. Подумала, вздохнула, достала новые шерстяные варежки, которые
незадолго перед тем связала для себя, и сунула их в карман пальто.
Когда я проснулся на следующее утро, ночного гостя уже не было. Отец собирался на
работу. На мой вопрос, кто ночевал у нас, он равнодушно ответил:
– Этот-то?.. Так… один мой знакомый дяденька…
Но я понимал, что отец чего-то не договаривает.
Неужели это и был один из тех, кого отец называл «справедливыми» людьми, кто борется
за правду?
Я был в том возрасте, когда события внешней жизни не могли не задевать меня. К тому же
я видел у одних из окружающих меня людей страх, подавленность, у других – скрытую злобу и
ненависть.
Страшное, чёрное время переживал русский народ. В эти годы, после подъёма
революционной борьбы, расшатавшей устои царизма, начался кровавый разгул контрреволюции.
Сотни, тысячи людей были брошены в тюрьмы, осуждены на каторжные работы. Вся страна
покрылась виселицами.
Я слышал рассказы о замученных в тюрьмах революционерах, о страшных «столыпинских
галстуках», как в народе называли виселицы. Всё это тёмным, тяжёлым гнётом ложилось на
душу. Я боялся и ненавидел царя, ненавидел полицейских.
А тут ещё ранней весной с отцом случилось несчастье.
Мать только что вымыла пол и собрала обед, как пришёл один из его товарищей и,
смущённо комкая в руках шапку, сказал, что отца поранило на работе.
– Ты не сомневайся, жив он… Голову поранило, в больницу свезли.
Мать заголосила, заметалась по комнате, сестрёнка заплакала, я сидел за столом ни жив ни
мёртв. Часто в те времена калечило, а то и убивало людей на производстве.
В обеденный перерыв отец стоял под лесами строящегося корабля и читал собравшимся
вокруг него рабочим какую-то листовку. Что это была за листовка – не знаю. И вдруг сверху
свалился кусок железа и сильно поранил отцу голову. Отец упал, обливаясь кровью. Многие из
рабочих утверждали, что наверху, на лесах, мелькнула чья-то фигура. Кинулись было наверх, да
никого не нашли. Отца отвезли в морской госпиталь, куда мать, оставив на моё попечение
сестрёнку, немедленно отправилась. Вернулась она в слезах, горюя, что отца сильно поранило.
Болел отец долго. Когда он выписался из госпиталя, давно уже зазеленели деревья. Мать
привезла его домой бледного, слабого, обросшего бородой. У него дрожали руки, когда он,
посадив меня и сестрёнку на колени, ощупывал нас, словно слепой, гладил по голове. На лице у
него была добрая, кроткая улыбка. Никогда ещё не видел я отца таким, и сердце моё разрывалось
от любви к нему.
Работу отец потерял. Друзья советовали ему уехать на время из Петербурга. Распродав кое-
какие вещи, мы всей семьёй двинулись в Рязанскую губернию; там отец выхлопотал место
конторщика в экономии, в большом поместье богатого помещика, постоянно жившего за
границей.
– Вот и чудесно, ребятушки! – сказал отец, когда мы слезли с поезда на маленькой станции,
где нас ждала лошадь, чтобы доставить в экономию. Он вздохнул полной грудью. – Поживём на
вольной волюшке, под чистым небом, попьём молочка, накопим силушки!.. – Так я говорю,
старуха? – Смеясь, он обнял мать за плечи.
Мы долго ехали в телеге – сначала лесом, потом полями. Старые берёзы близко подступали
к дороге, склоняя над ней тонкие красноватые ветки, унизанные маленькими яркими, словно
светящимися листочками. По высокой тонкой траве скользили золотые солнечные пятна, густые
тёмные тени. Пахло в лесу чем-то свежим, медовым. Далеко куковала кукушка. И всё было таким
прекрасным, новым и в то же время близким, родным, что мы невольно притихли. У отца было
ласковое, задумчивое лицо. Мать положила ему на плечо голову, закрыла глаза.
А когда лес кончился и на нас хлынул свет огромного неба, подул душистый ветер и перед
глазами раскрылся зелёный простор полей с голубоватой полоской далёкого леса и белой
церковью на холме вдали, все задвигались, заулыбались.
Подставляя лицо ветру, мать тихонько запела. Отец подхватил песню.
Мужичонка, правивший лошадью, покрутил головой, усмехнулся:
– Весёлый, видать, народ! – и стал погонять сытую молодую кобылку.
Эта неожиданная перемена в нашей жизни была для меня настоящим счастьем.
Стояло жаркое лето. В шумной компании детей служащих экономии и крестьянских
ребятишек я проводил целые дни в лесу, в полях, на берегу маленькой, петляющей среди
зарослей ольхи и черёмухи речушки.
Я ведь впервые жил в деревне, впервые видел задушевную, милую красу русской природы.
Всё было для меня здесь новым, всё было чудесным откровением – и крик перепела в
зацветающей ржи, и земляника на прогретой солнцем, пахнущей мёдом и смолой вырубке, и
ночное у костра под звёздным небом…
Недолго продолжалась счастливая жизнь. Отец не ужился и здесь.
Месяца не прошло со времени нашего приезда в экономию, а отец уже поспорил с
управляющим, до которого дошли слухи, что конторщик держит сторону наёмных батраков и
здешних крестьян. Действительно, в дом, в котором мы жили, к отцу довольно часто заглядывали
мужики из окрестных деревень. Он беседовал с ними, что-то объяснял им, что-то писал…
Однажды вечером к нам пожаловал Фридрих Фридрихович, как звали немца-
управляющего. Здоровенный, толстый немец с тугими малиновыми щеками, с
«вильгельмовскими» усами, в куцем пиджаке и жёлтых крагах был в экономии «царь и бог».
У него было по соседству своё имение, нажитое, как говорили, на «прибыли» с экономии,
хозяйством которой он распоряжался как своим собственным.
Все трепетали перед управляющим, все боялись его, и все его ненавидели. К людям он
относился с пренебрежением, с тупой, холодной жестокостью, да он и не считал за людей
подвластных ему батраков и крестьян. «Русский мужик – дикарь, – говорил он. – Русский мужик
понимает одно – кнут!»
И вот случилось чудо: эта важная персона стояла у нашего крыльца и милостиво беседовала
с отцом. Войти в дом он отказался. Он случайно шёл мимо и вот решил посмотреть, как живёт
«господин новый конторщик».
На толстом, грубом лице немца застыла фальшивая улыбка. В правой руке он сжимал стек
(вспомогательное средство управления лошадью, тонкий гибкий, хлёсткий прут (стержень). –
Прим. ред.), которым похлопывал по крагам. В левой руке дымилась вонючая сигара.
– Вы, господин Игнатов, исполнительный, хороший работник, – говорил он отцу,
стоявшему на крыльце. – Вы – честный человек, а это редкость в наше время. Я тоже честный
человек, я понимаю вас. Но… – он сделал паузу, – вы идеалист. Это хорошо, когда мы молоды.
А у вас седые виски, у вас – семья… В ваши годы это смешно. Я дружески разговариваю с вами,
я хочу вам добра…
Он ещё долго говорил, и всё в том же духе. Отец ни словом не перебил его.
А когда немец ушёл, отец сказал, обеспокоенный посещением управляющего, матери:
– Знаю – соломой обуха не перешибёшь!.. А вот, что хочешь мать, не могу видеть, когда
людей обманывают, да каких людей – голь перекатную!.. Что в городе, что в деревне – везде
рабочему человеку одна доля: работай до седьмого пота, грызи чёрствую корку да помалкивай!..
Я тоже скоро понял, что и здесь, среди привольных полей и лесов, человек так же несчастен,
как в городе, даже, может быть, ещё несчастнее – темней, забитей. Я видел, как плохо живут
крестьяне, видел замученных работой батраков, получающих гроши за свой тяжёлый труд,
спящих вповалку в сарае, как их старается обмануть, прижать, обсчитать «честный» Фридрих
Фридрихович… «Где же хорошо живётся бедному человеку? Или нет такого места на земле?» –
думал я.
Чаще всего горькие, томящие мысли о тяжёлой жизни приходили по вечерам, когда на
«чёрный» двор экономии возвращались с работы батраки, работавшие с утренней зари дотемна.
С лугов возвращались косари в залубеневших от пота рубахах, с огородов и из огромного
фруктового сада – женщины и девушки. Люди шли тяжёлой, усталой походкой. Неслышно было
ни песен, ни смеха. Батраки еле держались на ногах от усталости и думали только о том, чтобы
поскорее лечь и забыться на несколько часов сном. Было что-то обречённое, приниженное в этих
молчаливых толпах людей, отдавших земле свой труд и ничего не получивших взамен.
И только позднее, когда после скудного ужина все разбредались по углам и двор затихал, в
тишину позднего вечера просачивался, как светлая струйка воды, тихий звук свирели. Это играл
старик, один из косарей; в переливающейся мелодии его нехитрого инструмента слышалась
тихая грусть.
Месяцем позже отец помог крестьянам написать жалобу на управляющего. Немец уже
больше не «объяснялся» с отцом. Он донёс в полицию, что конторщик «мутит» мужиков, и
сейчас же рассчитал отца. Нам нужно было бы уехать. Но отец пожалел меня с сестрой и снял на
две недели комнатку у знакомого крестьянина в ближайшей деревне.
Мать собрала все политические брошюры, которые были у отца, забрала у него револьвер
в бархатной кобуре и закопала всю эту «крамолу» в кухне, где был земляной пол. Вскоре после
этого утром нашу избу оцепили стражники. К нам ввалился становой. Он потребовал у отца
выдачи оружия. Отец спокойно пожал плечами и сказал, что оружия у него нет.
– Есть топор в сарае, – добавила мать.
Становой затопал ногами, заорал на неё: твоё, мол, дело горшки да плошки, не суйся, когда
тебя не спрашивают! – и приказал начать обыск. Перевернули весь дом, но ничего не нашли. На
то место у печки, где были зарыты брошюры и револьвер, мать посадила меня с сестрёнкой, будто
мы играем тут.
Стражники увели отца. Много дней подряд мать бегала за десять вёрст в полицейское
управление, совала уряднику последние полтинники, а то и рубли, добиваясь свидания с отцом.
По её рассказам, отец был спокоен, даже весел. Его скоро выпустили за отсутствием каких-либо
улик. Мы вернулись в Петербург.
Кончилась вольная волюшка!.. Как во сне, вставали передо мной поля ржи, по которым
ветер гоняет шелковистые волны, берёзовая роща, пронизанная солнцем, белые кувшинки в
тихой тёмной заводи…
Отец устроился механиком на маленький толевый завод, за Московской заставой.
Случалось, когда болел кочегар, я помогал ему в работе: возил на тачке уголь, следил за котлом.
Мне нравилось возвращаться вместе с отцом с работы домой, смывать с себя копоть и угольную
пыль, садиться за стол, уплетать горячие щи.
В одно из дежурств в кочегарке я взял с собой книгу «Грабители морей» Луи Жаколио и
так увлёкся приключениями отважных пиратов, что вспомнил о своих обязанностях только тогда,
когда пар с пронзительным свистом стал вырываться из предохранительных клапанов. Кочегарка
наполнилась паром. Бросился я к огромному котлу, – стрелка манометра далеко ушла за красную
черту!
Зажмурив глаза от ужаса, я ждал, что котёл вот-вот взорвётся и весь завод взлетит на
воздух… Но страх и растерянность длились всего несколько секунд. Я открыл спускной кран,
включил насосы, подал холодную воду в котёл… И стрелка быстро пошла вниз. Теперь
оставалось только открыть дверь и проветрить кочегарку. Но в эту минуту вошёл отец. Он
услышал свист пара и решил, что что-то случилось. Он был бледен. Взгляд его скользнул по
манометру, по мне и остановился на раскрытой книге, валявшейся на полу. Он сразу всё понял.
– Иди домой, – коротко сказал он и встал у котла.
Лучше бы он накричал на меня, выругал, даже побил!
Самое страшное для меня было – потерять уважение и доверие отца.
Я стоял, опустив голову, и не мог двинуться с места.
Отец побыл у котла, потом ушёл, потом снова вернулся, словно меня и не было в кочегарке.
А я всё стоял, не поднимая головы…
Так продолжалось не меньше часа. Наконец отец сжалился надо мной.
– Снеси книгу домой, – сказал он, – и возвращайся дежурить у котла.
Словно гора с плеч свалилась у меня. На всю жизнь запомнил я этот урок.
Осенью отец стал хлопотать, чтобы меня приняли в военно-морское техническое училище,
что у Калинкина моста. Добиться этого было нелегко для сына рабочего, но уж если отец за что-
нибудь брался, то доводил дело до конца. Так было и на этот раз.
То-то была радость! Мне казалось, что теперь передо мною откроется широкая дорога в
жизнь.
В военно-морском техническом училище готовили техников-механиков для флота. В
первом классе, в который я поступил, один день в неделю отводился на производственную
практику в технической мастерской училища. С первого раза полюбилась мне эта мастерская –
просторное, светлое помещение, в котором с одной стороны стояли верстаки с привёрнутыми к
ним тисками, а с другой – станки для обработки металла и дерева. Занимался с нами старик
механик. Он никогда не кричал на нас, редко наказывал, и вся наша шумная ребячья ватага
быстро прониклась к нему глубочайшим уважением. Он покорил наши сердца знанием дела,
своим замечательным мастерством.
Первое задание, которое нам дал мастер, было совсем простым. Каждый получил
продолговатую чугунную плитку с гребешком на тыльной стороне для зажима в тисках. Нужно
было с лицевой стороны плитки снять зубилом стружку в одну шестнадцатую дюйма, а потом
драчевой пилой и напильником обработать плитку, сделав ровную, под угольник, поверхность,
чтобы не было просвета между плоскостью плитки и ребром угольника.
Для меня, привыкшего под руководством отца к работе разным инструментом, всё это было
делом несложным. Мастер, зорко наблюдавший за каждым из нас, сейчас же заметил, что я
справляюсь с задачей.
– Отец-то твой кто? – спросил он, останавливаясь за моей спиной.
– Механик! – с гордостью ответил я.
– Ну-ну, – поощрительно проговорил мастер.
Я рассказал об этом коротком разговоре с мастером отцу, и он, кажется, был доволен не
меньше, чем я.
Впоследствии мы работали в мастерской над изготовлением угольников, кронциркулей,
нутрометров, метчиков.
В училище я пробыл недолго – немногим более полутора лет. Кроме общеобразовательных
предметов, я познакомился в нём с основами черчения, с английским языком.
В военно-морском техническом училище я попал в совсем новую для меня среду. Интересы
учащихся были здесь шире, серьёзнее, чем в городском училище. Со временем я узнал от ребят,
как величайшую тайну, что в училище есть подпольный кружок революционно настроенной
молодёжи, занятиями которого руководят старшеклассники. Я загорелся желанием попасть в
него. Товарищи говорили, что в кружок таких «малышей», как я, не принимают, но мне всё же
хотелось попытать счастья.
Целую неделю ходил я по пятам за учеником выпускного класса Николаем Арбузовым, о
котором мне сказали, что он одни из руководителей кружка. Очень мне нравился этот высокий
юноша с курчавыми волосами и тёмным пушком на верхней губе. Одно портило его – очки. Но