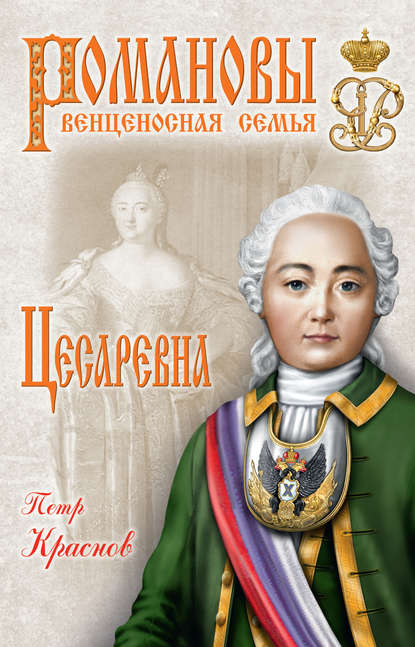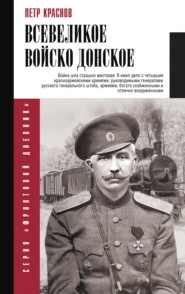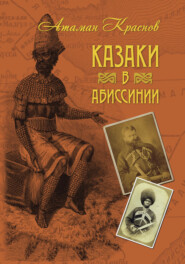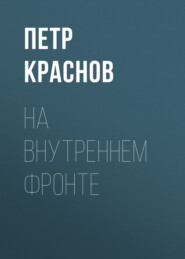По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Цесаревна
Автор
Год написания книги
1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Горячими, сухими губами она прижималась к холодной руке цесаревны, и та чувствовала, каким огнем горели ее щеки. Цесаревна подняла фрейлину и повлекла ее в свою уборную. Там, замкнув дверь, в темноте, при свете одного маленького ночника, усадив ее на маленький угловой диванчик, цесаревна села рядом и, взяв за руку Настасью Михайловну, строго сказала:
– Твоим проказам, Настька, конца-краю нет… Говори как на духу. Признавайся во всем… Ты хотя бы, сударыня, во дворце-то постыдилась любовными шашнями заниматься.
– Ваше высочество… Ей-богу, я…
– Да не божись, по крайней мере… В таком деле. В какие еще сети завлек тебя Купидон?..
– Ваше высочество… Ей-богу, я… Он прямо-таки измучил меня… Чистый зверь…
И пошел тихий шепот исповеди на французском языке, на котором легче казалось несказуемое сказать. Еще тише, чуть слышным шелестом шепчут горячие губы.
Ее камердинер Алексей Разумовский!.. Какая наглость, какая дерзость и какая бешеная страсть!
– И дальше?..
Они шалили, как дети, все утро и весь день.
– Все это прекрасно, милая моя Настасья Михайловна, но посмотрите на себя в зеркало, на кого вы похожи!.. Ступай к себе, приведи себя в порядок и оденься прилично. Вы, сударыня, во дворце цесаревны-девушки… А ему пошли сказать, чтобы и на глаза мне не смел показываться. Каков пастушок!.. Ступай!..
Гремя тяжелыми охотничьими сапогами, забрызганными грязью, цесаревна прошла в гардеробную. Гневно, звонко, нетерпеливо и продолжительно зазвонил ее литой бронзовый колокольчик, призывая девушек, чтобы помочь ей раздеться.
Ночью, при свете одинокой свечи, горящей в изголовье, цесаревна читает – «Дафнис и Хлоя». Прекрасная книга издания 1718 года с рисунками, наивно неприличными, давала ей урок любви, какой она не знала с Шубиным.
Она только что была в бане, где парилась после утомления охоты. Она лежала в постели, чесальщица пяток сидела на низком табурете у ее ног и осторожно почесывала, разминая еще сырые, полные, нежные пятки, перебирая маленькие пальчики, и шлифовала розовые ноготки. Тревожные, щекочущие мураши пробегали под кожей по ногам, и сладкая истома охватывала все ее молодое крепкое тело.
Хлоя и Дафнис!.. Он тоже был когда-то пастухом и, по словам Настасьи Михайловны, показал столь необычную в его годы наивность… Дитя природы!..
Цесаревна мечтательно улыбается. Она поджимает колени, отталкивает чесальщицу: «Иди к себе, Маврушка, довольно, смех душит…» Приближает книгу к потемневшим глазам и продолжает читать… По-французски все это не кажется таким неприличным… Но какие картинки!.. Как им не стыдно было рисовать такое!.. Это грех – читать такие книги… Грех?.. Ну что же – она покается… Все фрейлины читают такие книги. Лучше все это оставить…
«Но избави нас от лукавого», – шепчет цесаревна и гасит свечу.
В низкой комнате с окнами до полу ночник и лампадка льют мягкий, обманчивый свет. Прошуршал шелк натягиваемого к подбородку одеяла. Стали в темноте слышнее звуки дворца: за стеною со смехом укладываются спать фрейлины, через комнату слышно, как звенит в столовой посуда. За окном стоит и будто сторожит дворец ночная тишина. Морозом подувает из окон. Ни охота, ни баня не утомили цесаревну. Сна нет. Мысли то убегают, то возвращаются к тому стыдному и влекущему, о чем ей рассказывала Настасья Михайловна и о чем она только что читала в стыдной, греховной книге. Неужели Купидонова преострая стрела пронзила снова ее грудь. Она вспомнила бандуру, что как гусли звенела в руках ее камердинера и пела ей про любовь… Вспомнила былые утехи в селе Александровском… Странное совпадение – того… Шубина… тоже звали Алешей.
Нет, спать цесаревна не будет… Она встает, надевает дымчатый, гризетовый полушлафрок и сверху накидывает епанчу серебряной парчи на собольем меху. Откинуты завесы малинового французского штофа с позументом. Цесаревна медленно подходит к стеклянной двери, ведущей на мраморный балкон у моря. Тихо растворяет дверь. Зимний холод обручем стягивает ей лоб, жжет щеки и бежит под белым теплым мехом к ногам. Слегка захватывает дух.
В серебряном сиянии стоит перед ней полная рождающейся тайны ночь. По мраморным шашкам пола тонким кружевом лег мягкий снег. Цесаревна скользит по нему и идет к балюстраде. Море, ровное и тихое, застыло, как блестящий камень, и исчезает в мутной дали. На двадцать шагов ничего не видно. Чуть сереет вдоль берега прозрачная дымка голых кустов. Крупными звездочками мерно, тихо порхая, сыплет и сыплет первый снег. Вот и зима пришла… Пахнет снегом, морозом, невнятен, нежен и прекрасен, несказанно волнующ тот запах.
Цесаревна долго стоит на балконе. Глаза привыкают к темноте. Снежинки щекочут веки и лежат, не тая, на длинных ресницах. Сквозь них очаровательные радужные звездочки вспыхивают перед глазами.
Как тихо падают снежинки… Как медленно, непрерывно и бесконечно их падение… Куда деваются они, упадая в море?.. Не они ли делают лед?..
Как спокойно прекрасное море… Море ее отца…
VIII
Снег шел еще день и ночь. Цесаревна это время не выходила из внутренних покоев и никого, кроме ближних фрейлин, не видала. На второе утро она проснулась поздно. День уже наступил. Золотом были налиты холщовые занавеси окон. Цесаревна отдернула их. Зима стала на дворе. Лиловое, покойное море дымило белым паром. У берега на песке легло серебряным узором ледяное кружево. Все было бело кругом и сверкало тысячью алмазов на солнце. Цесаревна открыла форточку. Пахнуло первым морозом. За домом веселые голоса раздавались, и звонок и радостен был лай собак.
В мужском охотничьем костюме цесаревна отдавала приказания своей статс-даме:
– Чулкова пошли в слободку к егермейстеру, пусть охотники сейчас снаряжаются ехать со мной в отъезжее поле. Полтавцеву скажи, пусть саньми летит во дворец на Дудоровой горе, готовит мне ночлег, возьмет с собой повара и напитки… В Ропшинском дворце к двум часам кашу полевую учинить из курятины… Мне Мумета подать… Из камердинеров со мною ехать Алексею Разумовскому, поседлать ему черкесским седлом Нарсима.
У ворот Монплезира цесаревна внимательно осмотрела Разумовского. В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишневых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.
– Ты, Алексей Григорьевич, охотился ли когда? С коня-то не спадешь? – со спокойной насмешкой спросила цесаревна. – Ежели что, за «спасительницу» хватайся.
– Зачем так фататься, – точно обиделся Разумовский, – як же, не раз и не два с хортами издив. Звисно, дело знакомое.
В прекрасный этот день хохлацко-русский говор Разумовского как-то особенно нравился цесаревне – он так соответствовал его стройной, рослой фигуре, молодцеватой посадке и всей его казацкой повадке.
Легкой, упругой походкой, точно и веса в ней не было, цесаревна подошла к своему персидской породы жеребцу, приподняла, согнув в колене, ногу, лихой стремянный взял ее под колено и, словно перышко, перекинул ее крупное тело на немецкое, малинового бархата седло, прошитое золотыми плетешками.
И только тронулись – красота несказанная раскинулась перед ними. Был весел и точно праздничный, яркий, солнечный день. Бледно-голубое небо висело низко. На горизонте оно затягивалось тонкими белесыми полосами. Мороз пощипывал не привыкшие к нему, еще не обтерпевшиеся уши, нос и щеки. Все сразу разрумянились, помолодели и похорошели. Снег лег ровным пушистым ковром, лошади охотно по нему бежали, прося повода, радостно фыркая и играя.
У выезда из охотничьей слободы цесаревну ожидали бор зятники. По чистой дороге голубой лентой протянулся единственный санный след – то Чулков проскакал готовить ночлег.
Ловчий держал совет с цесаревной, как будет охота.
– Сегодня, – озабоченно хмуря густые брови, говорила цесаревна, – серьезной охоты делать не поспеем. Немного в наездку потропим. В уйму[2 - Уйма – большой лес.] и вовсе лазать не станем.
– Верное дело, ваше высочество, – сняв шапку с седой головы, говорил старый ловчий. – Время позднее… Пока до места доедем, а погода… Гляди еще, кабы не замело. Вишь, ветерок какой задувать начал…
– Ну, так, айда за мной… Едем!..
Цесаревна нажала ногами лошадь и поскакала широким галопом по мягкому снегу сбоку каменной дороги. Белые комья ископыти летели из-под ног ее лошади вместе с желтым песком. Охотники неслись сзади. Взвизгивали радостно собаки. Пестрая сука Филлида опережала Мумета, прыгала к цесаревне и старалась заглянуть в лицо своей госпожи.
В Ропше цесаревна не входила в каменные нетопленые горницы дворца, но приказала принести ковры на двор под большие липы, и на коврах разлеглись все без чинов и званий вокруг большого горячего котла с полевой кашей. Стремянные обносили стаканами с венгерским вином, борзятникам поднесли водки.
Было цесаревне дивно хорошо в кругу своих охотников, таких же молодых, таких же простых, таких же русских, какой была и сама она. Полулежа на ковре, опершись на локоть, она деревянной ложкой черпала варево, вылавливая потроха. Против нее сидел на ковре Разумовский, и цесаревна смотрела с улыбкой на милом лице, как аппетитно он ел, запивая вином из серебряного шкалика. Смешливые огоньки загорались и потухали в глазах цесаревны.
– Ты бандуру взял, Алексей Григорьевич?
– А ни… Нема бандуры… На що мени она. На охоту едем…
– Вечера-то длинные, темно рано становится, вот бы и сыграл что да спел своей цесаревне.
Разумовский смутился. Руками по бедрам хлопнул:
– Экий какой недогадливый, – вскочил с места. – Е, ни!.. Треба було знати!.. Так мы ж то гарненько потрафим. Дозволь, ваше высочество, кого послать пошукать ее дома.
Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал.
За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудергофскими и Кавелахтскими холмами, пошли в равняжку, в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась с атуканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по-казачьи к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охотой.
«Славный казак, – думала цесаревна, – ловкий, смелый и, видимо, добрый. И по красе и Шубину не уступит…»
И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым.
У деревни Вилози цесаревна отправила охоту ночевать в Варикселева, а сама с Разумовским и двумя стремянными по ехала, огибая озеро, к Дудоровой горе.
– Твоим проказам, Настька, конца-краю нет… Говори как на духу. Признавайся во всем… Ты хотя бы, сударыня, во дворце-то постыдилась любовными шашнями заниматься.
– Ваше высочество… Ей-богу, я…
– Да не божись, по крайней мере… В таком деле. В какие еще сети завлек тебя Купидон?..
– Ваше высочество… Ей-богу, я… Он прямо-таки измучил меня… Чистый зверь…
И пошел тихий шепот исповеди на французском языке, на котором легче казалось несказуемое сказать. Еще тише, чуть слышным шелестом шепчут горячие губы.
Ее камердинер Алексей Разумовский!.. Какая наглость, какая дерзость и какая бешеная страсть!
– И дальше?..
Они шалили, как дети, все утро и весь день.
– Все это прекрасно, милая моя Настасья Михайловна, но посмотрите на себя в зеркало, на кого вы похожи!.. Ступай к себе, приведи себя в порядок и оденься прилично. Вы, сударыня, во дворце цесаревны-девушки… А ему пошли сказать, чтобы и на глаза мне не смел показываться. Каков пастушок!.. Ступай!..
Гремя тяжелыми охотничьими сапогами, забрызганными грязью, цесаревна прошла в гардеробную. Гневно, звонко, нетерпеливо и продолжительно зазвонил ее литой бронзовый колокольчик, призывая девушек, чтобы помочь ей раздеться.
Ночью, при свете одинокой свечи, горящей в изголовье, цесаревна читает – «Дафнис и Хлоя». Прекрасная книга издания 1718 года с рисунками, наивно неприличными, давала ей урок любви, какой она не знала с Шубиным.
Она только что была в бане, где парилась после утомления охоты. Она лежала в постели, чесальщица пяток сидела на низком табурете у ее ног и осторожно почесывала, разминая еще сырые, полные, нежные пятки, перебирая маленькие пальчики, и шлифовала розовые ноготки. Тревожные, щекочущие мураши пробегали под кожей по ногам, и сладкая истома охватывала все ее молодое крепкое тело.
Хлоя и Дафнис!.. Он тоже был когда-то пастухом и, по словам Настасьи Михайловны, показал столь необычную в его годы наивность… Дитя природы!..
Цесаревна мечтательно улыбается. Она поджимает колени, отталкивает чесальщицу: «Иди к себе, Маврушка, довольно, смех душит…» Приближает книгу к потемневшим глазам и продолжает читать… По-французски все это не кажется таким неприличным… Но какие картинки!.. Как им не стыдно было рисовать такое!.. Это грех – читать такие книги… Грех?.. Ну что же – она покается… Все фрейлины читают такие книги. Лучше все это оставить…
«Но избави нас от лукавого», – шепчет цесаревна и гасит свечу.
В низкой комнате с окнами до полу ночник и лампадка льют мягкий, обманчивый свет. Прошуршал шелк натягиваемого к подбородку одеяла. Стали в темноте слышнее звуки дворца: за стеною со смехом укладываются спать фрейлины, через комнату слышно, как звенит в столовой посуда. За окном стоит и будто сторожит дворец ночная тишина. Морозом подувает из окон. Ни охота, ни баня не утомили цесаревну. Сна нет. Мысли то убегают, то возвращаются к тому стыдному и влекущему, о чем ей рассказывала Настасья Михайловна и о чем она только что читала в стыдной, греховной книге. Неужели Купидонова преострая стрела пронзила снова ее грудь. Она вспомнила бандуру, что как гусли звенела в руках ее камердинера и пела ей про любовь… Вспомнила былые утехи в селе Александровском… Странное совпадение – того… Шубина… тоже звали Алешей.
Нет, спать цесаревна не будет… Она встает, надевает дымчатый, гризетовый полушлафрок и сверху накидывает епанчу серебряной парчи на собольем меху. Откинуты завесы малинового французского штофа с позументом. Цесаревна медленно подходит к стеклянной двери, ведущей на мраморный балкон у моря. Тихо растворяет дверь. Зимний холод обручем стягивает ей лоб, жжет щеки и бежит под белым теплым мехом к ногам. Слегка захватывает дух.
В серебряном сиянии стоит перед ней полная рождающейся тайны ночь. По мраморным шашкам пола тонким кружевом лег мягкий снег. Цесаревна скользит по нему и идет к балюстраде. Море, ровное и тихое, застыло, как блестящий камень, и исчезает в мутной дали. На двадцать шагов ничего не видно. Чуть сереет вдоль берега прозрачная дымка голых кустов. Крупными звездочками мерно, тихо порхая, сыплет и сыплет первый снег. Вот и зима пришла… Пахнет снегом, морозом, невнятен, нежен и прекрасен, несказанно волнующ тот запах.
Цесаревна долго стоит на балконе. Глаза привыкают к темноте. Снежинки щекочут веки и лежат, не тая, на длинных ресницах. Сквозь них очаровательные радужные звездочки вспыхивают перед глазами.
Как тихо падают снежинки… Как медленно, непрерывно и бесконечно их падение… Куда деваются они, упадая в море?.. Не они ли делают лед?..
Как спокойно прекрасное море… Море ее отца…
VIII
Снег шел еще день и ночь. Цесаревна это время не выходила из внутренних покоев и никого, кроме ближних фрейлин, не видала. На второе утро она проснулась поздно. День уже наступил. Золотом были налиты холщовые занавеси окон. Цесаревна отдернула их. Зима стала на дворе. Лиловое, покойное море дымило белым паром. У берега на песке легло серебряным узором ледяное кружево. Все было бело кругом и сверкало тысячью алмазов на солнце. Цесаревна открыла форточку. Пахнуло первым морозом. За домом веселые голоса раздавались, и звонок и радостен был лай собак.
В мужском охотничьем костюме цесаревна отдавала приказания своей статс-даме:
– Чулкова пошли в слободку к егермейстеру, пусть охотники сейчас снаряжаются ехать со мной в отъезжее поле. Полтавцеву скажи, пусть саньми летит во дворец на Дудоровой горе, готовит мне ночлег, возьмет с собой повара и напитки… В Ропшинском дворце к двум часам кашу полевую учинить из курятины… Мне Мумета подать… Из камердинеров со мною ехать Алексею Разумовскому, поседлать ему черкесским седлом Нарсима.
У ворот Монплезира цесаревна внимательно осмотрела Разумовского. В атласном камзоле лимонного цвета, в суконном саксонском кафтане, осинового, серебристо-серого цвета, в вишневых широких шароварах, в серой смушковой шапке, по-казацки сбитой на затылок и набок, он молодецки гарцевал на гнедом, поджаром коне.
– Ты, Алексей Григорьевич, охотился ли когда? С коня-то не спадешь? – со спокойной насмешкой спросила цесаревна. – Ежели что, за «спасительницу» хватайся.
– Зачем так фататься, – точно обиделся Разумовский, – як же, не раз и не два с хортами издив. Звисно, дело знакомое.
В прекрасный этот день хохлацко-русский говор Разумовского как-то особенно нравился цесаревне – он так соответствовал его стройной, рослой фигуре, молодцеватой посадке и всей его казацкой повадке.
Легкой, упругой походкой, точно и веса в ней не было, цесаревна подошла к своему персидской породы жеребцу, приподняла, согнув в колене, ногу, лихой стремянный взял ее под колено и, словно перышко, перекинул ее крупное тело на немецкое, малинового бархата седло, прошитое золотыми плетешками.
И только тронулись – красота несказанная раскинулась перед ними. Был весел и точно праздничный, яркий, солнечный день. Бледно-голубое небо висело низко. На горизонте оно затягивалось тонкими белесыми полосами. Мороз пощипывал не привыкшие к нему, еще не обтерпевшиеся уши, нос и щеки. Все сразу разрумянились, помолодели и похорошели. Снег лег ровным пушистым ковром, лошади охотно по нему бежали, прося повода, радостно фыркая и играя.
У выезда из охотничьей слободы цесаревну ожидали бор зятники. По чистой дороге голубой лентой протянулся единственный санный след – то Чулков проскакал готовить ночлег.
Ловчий держал совет с цесаревной, как будет охота.
– Сегодня, – озабоченно хмуря густые брови, говорила цесаревна, – серьезной охоты делать не поспеем. Немного в наездку потропим. В уйму[2 - Уйма – большой лес.] и вовсе лазать не станем.
– Верное дело, ваше высочество, – сняв шапку с седой головы, говорил старый ловчий. – Время позднее… Пока до места доедем, а погода… Гляди еще, кабы не замело. Вишь, ветерок какой задувать начал…
– Ну, так, айда за мной… Едем!..
Цесаревна нажала ногами лошадь и поскакала широким галопом по мягкому снегу сбоку каменной дороги. Белые комья ископыти летели из-под ног ее лошади вместе с желтым песком. Охотники неслись сзади. Взвизгивали радостно собаки. Пестрая сука Филлида опережала Мумета, прыгала к цесаревне и старалась заглянуть в лицо своей госпожи.
В Ропше цесаревна не входила в каменные нетопленые горницы дворца, но приказала принести ковры на двор под большие липы, и на коврах разлеглись все без чинов и званий вокруг большого горячего котла с полевой кашей. Стремянные обносили стаканами с венгерским вином, борзятникам поднесли водки.
Было цесаревне дивно хорошо в кругу своих охотников, таких же молодых, таких же простых, таких же русских, какой была и сама она. Полулежа на ковре, опершись на локоть, она деревянной ложкой черпала варево, вылавливая потроха. Против нее сидел на ковре Разумовский, и цесаревна смотрела с улыбкой на милом лице, как аппетитно он ел, запивая вином из серебряного шкалика. Смешливые огоньки загорались и потухали в глазах цесаревны.
– Ты бандуру взял, Алексей Григорьевич?
– А ни… Нема бандуры… На що мени она. На охоту едем…
– Вечера-то длинные, темно рано становится, вот бы и сыграл что да спел своей цесаревне.
Разумовский смутился. Руками по бедрам хлопнул:
– Экий какой недогадливый, – вскочил с места. – Е, ни!.. Треба було знати!.. Так мы ж то гарненько потрафим. Дозволь, ваше высочество, кого послать пошукать ее дома.
Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал.
За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудергофскими и Кавелахтскими холмами, пошли в равняжку, в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась с атуканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по-казачьи к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охотой.
«Славный казак, – думала цесаревна, – ловкий, смелый и, видимо, добрый. И по красе и Шубину не уступит…»
И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым.
У деревни Вилози цесаревна отправила охоту ночевать в Варикселева, а сама с Разумовским и двумя стремянными по ехала, огибая озеро, к Дудоровой горе.