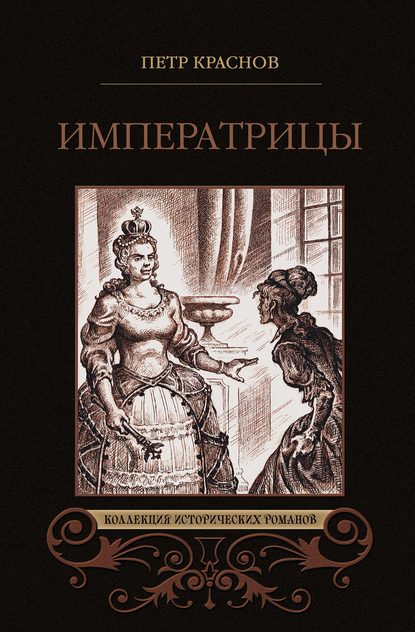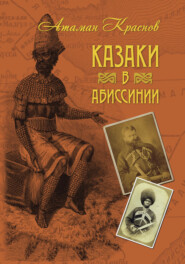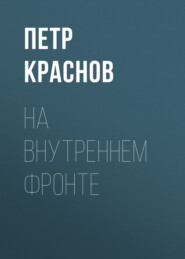По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Императрицы (сборник)
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Е, ни!.. Треба було знати!.. Так мы ж то гарненько потрафим. Дозволь, Ваше Высочество, кого послать пошукать ее дома.
Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал.
За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудергофскими и Кавелахтскими холмами, пошли «в равняжку», в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась с атуканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по-казачьи к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охотой.
«Славный казак, – думала цесаревна, – ловкий, смелый и, видимо, добрый. И по красе и Шубину не уступит…»
И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым.
У деревни Вилози цесаревна отправила охоту ночевать в Варикселева, а сама с Разумовским и двумя стремянными поехала, огибая озеро, к Дудоровой горе.
Смеркалось. Солнце зашло в серые тучи. Подернутое тонким ледком озеро казалось темным и холодным. Дудергоф, осыпанный снегом, громадным белым ежом вздымался перед цесаревной. Узкая дорога поднималась на гору. С обеих сторон ели и сосны в блестящем наряде инея ее обступили. В лесу стало темно. Цесаревна сделала знак Разумовскому, чтобы он ехал рядом с ней. Их колени касались. Усталые лошади торопливо шагали по скользкой дороге, обрывались на замерзших колеях, и цесаревна невольно толкала Разумовского ногами.
Было совсем темно, и черными тенями показались молодые дубы, Петром Великим насаженные, и за ними желтыми квадратами выявились освещенные окна дворца. Дворец был – двухъярусная бревенчатая изба с наружной галереей во втором этаже. Подле дворца у сарая стояли распряженные сани. Стремянные спрыгнули с коней и приняли лошадей цесаревны и Разумовского. Цесаревна вошла во дворец.
Ночью показалось цесаревне, что в ее опочивальне угарно. Она встала с постели. Во дворце давно не топили. Должно быть, поднялся ветер. Через щели медной заслонки голландской печи вырывался сизый дымок. Цесаревна ночевала одна, без фрейлин и горничных девок. Она приоткрыла окно. Сладко кружилась голова – то ли от угара, то ли от выпитого вечером с Разумовским за ужином вина. Цесаревна надела горностаевую шубу и вышла на верхнюю, наружную галерею. Лес глухо шумел. Молодые дубы качались и стучали ветками. Налетела вьюга. Нечего было и думать охотиться завтра.
В затишке двора порхали и крутились снежинки. В мутном свете зимней ночи таинственными казались сараи и конюшни, окруженные частоколом. Мягкий шум леса в старых елях напоминал ропот моря. С ветром пришла оттепель. Таял снег на крыше, и вода тяжелыми каплями упадала и с чуть слышным шорохом исчезала в снеговой вате.
Дверь на конюшне раскрылась. В дымном и мутном красноватом свете показался прямоугольник конюшенного входа. Оттуда вышел человек. Цесаревна сразу узнала Разумовского. Алексей Григорьевич был в шароварах, рубашке и в полушубке, накинутом наопашь, без шапки.
– Алексей Григорьевич, ты, что ль? – негромко окликнула цесаревна.
– Я, Ваше Высочество, коний ходил проведать.
В ночной тишине голос певчего был глубок и приятен. И то, что случилось, было как молния, вдруг ударившая с ясного неба, без грома прилетевшая от какой-то далекой грозы. Все прошлое – Шубин и страшная непреоборимая скорбь по его утрате, думы о монастыре, волнующий недавний рассказ Настасьи Михайловны – все точно унеслось в бездну, растаяло, как таял снег перед ней, недавней вьюгой отшумело, – точно ничего этого, больного, острого и печального, и не было вовсе. Перед нею – ночь с тихим шумом ветра в деревьях, сладостный запах снега, легкий шумок в голове, зябнущее под лаской горностаевого меха все более и более возбуждающееся тело и уже непреодолимое желание счастья, ласки и любви…
– Пожалуй сюда, Алексей Григорьевич.
Разумовский точно не понял. Он подошел к наружной лестнице, ведшей на галерею, и нерешительно взялся за верею.
– Пожалуй, сударь, наверх.
Заскрипели дубовые ступени под рослым телом. Разумовский прошел за цесаревной в столовую, где на простом дубовом столе горела в медном шандале оплывшая свеча. Цесаревна остановилась в дверях опочивальни. Она томно и призывно улыбалась. И были в ее улыбке те самые ласка и задор, что увидал Разумовский тогда, когда первый раз показалась она ему царевной сказки у качелей села Александровского. Он не верил своим глазам.
На щеках цесаревны повыше губ появились ямочки, маленький рот раскрылся, обнажая блеск ровных, белых зубов, короткий смех прозвенел песней жаворонка. Освещенная спереди свечой в ее неровном мерцании, цесаревна стояла у темной опочивальни. Ее шубка распахнулась. Длинная белая рубашка голландского полотна спускалась ниже колен, мягко огибая высокое, юное, гибкое тело. Полная грудь часто дышала. Был неизъяснимо прекрасен и зовущ томный, грудной голос с новыми, неслыханными, низкими нотами, когда едва слышно сказала она – царевна сказки – ему, Иванушке-дурачку, в своем чудодейственном терему:
– Да иди же, когда тебя зовут!..
Одним прыжком Разумовский был подле цесаревны и, охватив сильными, горячими руками ее поперек стана, приподнял и понес, как коршун несет горлинку, и бережно положил на постель.
– О, чаривниченько моя, – прошептал он и покрыл ее страстными поцелуями…
IX
Цесаревна Елизавета Петровна была зачата в те дни, когда зачиналась полтавская победа, завершавшая долгую и тяжелую войну со шведами, и когда рождалась великая слава российская. Елизавета Петровна родилась 19 декабря 1709 года в Москве. Как и ее старшая сестра Анна, она была незаконной дочерью царя Петра и лифляндской солдатской женки из Мариенбурга, добычи Меншикова – Екатерины Скавронской. Что до того! В тот день, когда она родилась, с Московского Кремля палили пушки: в Москву, в триумфальном шествии, входили сотни пленных шведских генералов и офицеров и тысячи солдат – полтавская виктория докатилась до царской Москвы…
Цесаревне Елизавете Петровне шел двенадцатый год, когда 4 сентября 1721 года она подошла утром к окну. Невская ширь у слияния Большой Невы с Малой была в частых белых гребешках, поднятых свежим западным ветром, и в ярких, режущих глаз солнечных сверканиях. По Неве каким-то призраком, сонным видением поднималась, переваливаясь на волнах, с туго надутыми парусами яхта ее отца.
Она ежеминутно окутывалась дымом трех медных пушечек. Дымы вылетали круглыми шарами, точно громадные клубки белой шерсти, и ветер сейчас же разметывал их в длинные, лохматые клочья, которые низко летели над водой. На носу, под узким, треугольным розово-прозрачным в солнечном свете кливером, стоял трубач и в золотую трубу, не умолкая, трубил. Все это было ярко, красочно, не похоже на настоящую жизнь, было точно свежая картина голландского мастера с блестящими красками. Во всем: в пестрой красоте красок, сверкании водной шири, в звуках пальбы и трубных зовов, в запахе моря, принесенном ветром с залива, – чувствовался приближающийся необыкновенный праздник. Все волновало и заставляло сердце трепетать ожиданием. Невские берега расцветились заполоскавшими и сразу надутыми парусами бесчисленных яхт, лодок, шняв и галиотов. Пестрые лодки с вельможами, генералами, офицерами, с простым народом, кто под парусами, кто на веслах понеслись, полетели за отцовской яхтой к Люст-Эланту, к Троицкому на нем собору.
Мать Елизаветы Петровны заволновалась, засуетилась, забегали денщики, поспешно приодели Елизавету Петровну и ее сестру Анну, подали к дворцовой пристани шлюпку, и все сели в нее. У матери было лицо красное, встревоженное и радостное, поминутно орошаемое слезами. Гребцы торопливо гребли, враз отваливаясь назад, и плескала быстрая волна.
На Троицкой площади уже толпился народ. Сотни лодок непрерывно подвозили новых и новых петербуржцев. Отцовская яхта причаливала в этой массе лодок. На ней, на корме стоял Петр и, придерживая под мышкой румпель, махал свободной рукой с белым платком и кричал народу на лодках и на берегу: «Мир!.. Мир!..»
Неожиданно, так, что Елизавета Петровна испугалась, с Петербургской крепости загремели пушки, им ответили другие от Адмиралтейства и «ба-ба-бах, бах-бах» пошло полыхать и перекатываться по Неве, по островам и по городу.
Елизавета Петровна с матерью и сестрой пробрались к отцу. Он был в необычайном возбуждении и, казалось, никого не видел. Солдаты бегали по площади, нося привезенные на прискакавших подводах доски. Они устанавливали на пыльной площади, у голубого деревянного собора столы и скамьи. Люди стекались со всех сторон и толпились около этих столов и скамей. Торжественный перезвон колоколов раздался с собора, его подхватили другие петербургские церкви и медными зовами напоили свежий осенний воздух. Вокруг Троицкого собора, как драгоценная оправа, стояли березы в золоте увядающих листьев, за собором шумел густой сосновый лес.
Духовенство прибыло в собор. Елизавета Петровна помнит тесноту и давку в соборе, куда она с матерью едва протолкались, помнит молебное пение, заглушаемое звонами колоколов и пушечными выстрелами, стуком топоров и треском досок на площади. Когда вышли из церкви, на площади уже готовы были столы, скамьи, стояли бочки с вином и пивом и посередине было возвышение, убранное еловыми ветками и пестрыми флагами. Ее отец в преображенском кафтане широкой, могучей поступью взошел на помост и стал на нем – прямой и громадный. Гомонившая на площади толпа стихла. Все головы внезапно обнажились. Ее отец снял шапку, и в мертвую тишину площади вошли его громко и с силой сказанные слова:
– Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что толикую долговременную войну, которая продолжалась двадцать один год, Всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир!..
Особенным, тоже точно и не наяву это было, представлялся в эти минуты Елизавете Петровне ее отец. Громадный, с колышимыми ветром длинными, пробитыми сединой, слегка вьющимися волосами, с прекрасным, возбужденным счастием полной победы лицом, он принял поднесенный ему серебряный плоский ковш, зачерпнул им из бочонка вина и еще раз воскликнул:
– Здравствуйте, православные!
Лес рук поднялся над головами. Черные шапки, белые платки замахали, заиграли над толпой. Раздались ликующие крики: «Виват!..» – а затем великолепное, из самой глубины человеческих душ исторгнутое:
– Ура!.. Да здравствует государь!..
Мать Елизаветы Петровны рыдала подле, не стесняясь, утирая слезы платком. Кругом тоже плакали слезами радости люди. На глазах отца крупными бриллиантами вспыхнули слезы.
Пускай она была незаконнорожденная… Но она была дочерью такого великого отца…
22 октября того же года – как Елизавете Петровне не помнить этого дня, когда ее мать, все окружающие их близкие люди столько раз рассказывали ей со всеми подробностями все это, – после обедни в том же Троицком соборе оглашали с амвона ратифицированный мирный трактат. Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович говорил красноречивое слово, и когда он кончил, к амвону тесной толпой придвинулись в красных кафтанах сенаторы сената российского, и канцлер Головкин прерывающимся от волнения голосом начал говорить речь. Эту речь Елизавета Петровна наизусть помнит.
– Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены: и того ради, как мы возможем за то и за настоящее исходатайствование толь славного и полезного мира по достоинству возблагодарити?.. Однако ж да не явимся тщи в зазор всему свету, дерзаем мы, именем всего Всероссийского государства подданных Вашего Величества, всех чинов народа, всеподданнейше молить, да благоволите от нас, в знак нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского приняти! Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, император всероссийский!!!
Сенаторы и все, кто был в храме, подхватили торжественно признательный крик и трижды прокричали: «Виват!..»
Двадцать полков, только что пришедших из Финляндии, открыли на площади беглый огонь, загремели литавры и барабаны, ударили с крепости пушки…
Елизавете Петровне шел пятнадцатый год, когда 7 мая 1724 года ее мать была коронована императорской короной ее отцом. Может быть, когда-то она и была рожденной вне брака – бастардкой… Теперь она была дочерью Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского и императрицы Екатерины…
Она была цесаревной.
Дитя любви и нарастающего, необычайного, сверхъестественного успеха, она была красива. Ей было около десяти лет, когда придворный художник Л. Каравак изобразил ее обнаженной «во образе Венеры». Она полулежала на мехе горностаевой мантии. В золотистой бронзы назад зачесанных волосах вставлены две розы, детская ручка приподнимает край драпирующей ее мантии. Даже при бедном, скромном и экономном дворе родителей ее наряжали, как куклу. В костюме итальянской рыбачки, в черном бархатном лифе, короткой красной юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами – она казалась картинкой, мечтой, неземным созданием…
Когда ей минуло двенадцать лет, в январе 1722 года, Петр на большой ассамблее, нарочно для этого устроенной, ножницами обрезал ей эти крылышки. Она была объявлена совершеннолетней.
По смерти отца, при матери, и после, во время царствования своей двоюродной сестры, она любила наряжаться и часто носила мужской костюм, особенно шедший к ее высокому росту, прекрасному сложению и стройным прямым ногам. Она была в нем необычайно грациозна и гибка.
Саксонский агент Лефорт писал о ней: «Всегда легкая на подъем, она была легкомысленна, шаловлива и насмешлива. Она как будто создана для Франции и любит блеск остроумия…»
Английский резидент Рондо писал о ней в 1730 году: «Когда я вижу ум и красоту этой молодой женщины, я не могу не сожалеть, зная, как она себя компрометирует, потому что со временем все это будет известно…»
Уже много позднее, когда Елизавета Петровна стала императрицей и ей шел тридцать шестой год, английский посланник лорд Хиндфорд писал 30 ноября 1745 года: «Ваша светлость с трудом можете себе представить, как замечательно идет императрице военный мундир. Я уверен, что люди, которые ее не знают, приняли бы ее за молодого офицера, если бы только не ее прелестное лицо. В действительности у Ее Величества сердце мужчины и красота женщины, и она заслуживает восхищения целого света…» Враждебно относившийся к цесаревне испанский посланник де Лирия называл ее красоту «сверхъестественной». Французские резиденты Кампредон и Лави считали ее красавицей.