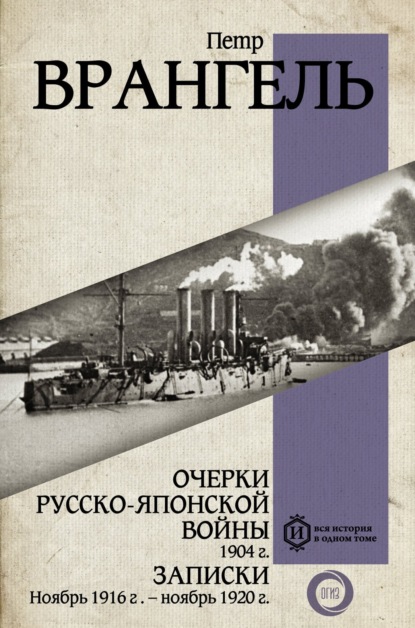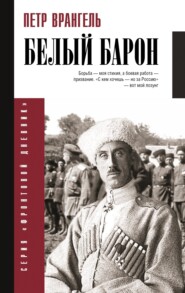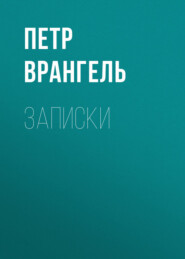По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Очерки Русско-японской войны, 1904 г. Записки: Ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
IV
22 апреля поздно вечером после недельного скитания в горах, где мы за все время не встретили ни одного европейца, мы вышли на большую этапную дорогу Лаоян – Фынхуанчен и расположились на ночлег в деревне Цау-Хе-Гау, в лавке богатого китайского купца. Рекогносцировка наша была окончена, и составленная капитаном маршрутная съемка сведена. Путей, проходимых не только для артиллерии, но и для кавалерии, на всем исследованном нами участке не оказалось, имелись лишь горные тропы, служащие путями сообщения жителям многочисленных бедных деревушек, разбросанных в горах. Мы проходили в день, находясь все время в ходу, не более 20 верст; иные дни шли почти исключительно пешком, ведя коней в поводу, но даже и при этих условиях двигаться подчас было крайне тяжело. Местами кони наши съезжали по горным каменистым тропам, буквально сидя на заду, а взбираясь на крутые, голые каменистые перевалы, приходилось останавливаться каждые десять шагов, чтобы перевести дыхание. Не обошлось и без несчастья: мой взводный, урядник Баженов, прекрасный, расторопный казак, сорвался с конем под кручу и страшно разбился. Не имея с собою фельдшера, мы с капитаном, как умели, перевязали его, и он, хотя и очень страдая, следовал с нами до большой этапной дороги, откуда я отправил его в сопровождении двух казаков в лаоянский госпиталь.
Первые дни наше движение страшно задерживала взятая капитаном из Лаояна тяжелая фудутунка, запряженная парой мулов. В этой фудутунке капитан поместил свой многочисленный багаж. Не говоря уже о массе всевозможных консервов, в том числе двенадцати банках с ананасами, нескольких ящиках с мармеладом и т. п., тут находились: большой саквояж-несессер с массою всевозможных туалетных принадлежностей, банок одеколона, туалетной воды, вежеталя, белье, которого хватило бы на целый год похода, и т. д. С первого же дня двуколка эта принесла нам массу хлопот; приходилось спешивать людей для втаскивания ее на подъемах и торможении при спусках с перевалов. На мои доводы об обременительности подобного обоза капитан лишь ссылался на пример ближайшей турецкой кампании, когда даже тяжелые полевые орудия перетаскивались на руках через Балканский хребет… Наконец, убедившись в полной невозможности двигаться далее при подобном обозе, капитан согласился бросить свою арбу и, купив в одной из деревушек вьючные китайские седла, поместил свой багаж на вьюки.
Недостатка в фураже мы в продолжение разъезда не терпели. В многочисленных деревушках можно было легко достать чумизную солому и гаоляновое зерно, которое наши кони ели с удовольствием. Куры, утки и прочая птица здесь находились в изобилии, лишь с непривычки трудно было обходиться без хлеба – кроме сладких китайских печений на бобовом масле другой мучной пищи здесь не найти.
Местность здесь, как и вообще во всей Северной Маньчжурии, малокрасивая: скалистые, большею частью голые, лишь местами покрытые убогой растительностью горные хребты, с разбросанными по падям убогими, большею частью из двух-трех фанз, деревушками, с многочисленными, быстротекущими горными ручьями…
Несмотря на раннюю весну, поражала скудость животного мира – не было почти совершенно тех звуков пернатого царства, которыми так полон весенний воздух Европейской России. Лишь по долинам горных речек попадались более зажиточные деревушки, выглядевшие особенно весело благодаря многочисленным вишневым деревьям, в это время года покрытым чудным цветом…
Мы вошли в деревню Цау-Хе-Гау в полную темноту и, разбудив старого китайца, владельца лавки, кое-как устроились на ночлег. Не имея более недели никаких сведений из действующей армии и надеясь узнать хоть что-либо о движении наших частей по большой этапной дороге, я попробовал вступить в разговор с нашим «джангуйдой» (хозяином) на том особенном воляпюке, который неизменно служил нам при объяснениях с китайцами.
– Ходя! Лускуа джега дау ходи?[1 - Что, друг, русские этой дорогой идут?] – начинаю я.
– Ибена Тюренчен пау-пау, лускуа ламайла, – Лаоян ходи[2 - Японцы в Тюренчене стреляют; русские побиты, идут на Лаоян.], – таинственно сообщает «джангуйда».
– Все врет, мерзавец, – возмущаюсь я, – слышите, капитан, говорит, наши отходят…
Наскоро закусив холодной курицей и выпив чаю, ложимся спать. Ночью подымается ветер, начинается дождь, к утру усиливающийся, – плотнее стараюсь с головою укрыться буркой…
– Ваше высокоблагородие, вставайте, – будит меня вестовой. В фанзе холодно, сыро, дождь выбивает частую дробь по оклеенным бумагою окнам, слышен какой-то равномерный грохот, точно от многочисленных двуколок или телег, идущих по дороге.
– Наших, сказывают, японцы побили, – сообщает вестовой, – на Лаоян отступают, вон, слышите, артиллерия идет; раненых по дорого тоже много идет…
Как ошпаренный вскакиваю с кана и бросаюсь на двор, где капитан, стоя без фуражки у ворот, разговаривает со стрелковым офицером в бурке и мохнатой мокрой папахе на небольшом белом «манзюке».
– Неужели и орудия бросили?!
– Пришлось оставить; слишком уж неравные силы были, да и потери громадны.
– А как велики наши потери?
– В одном 11-м полку около 900 нижних чинов выбыло из строя; некоторые роты без офицеров остались…
Боже! Что же это? Неужели поражение? Неужели слышанное мною правда? Оставлены орудия, оставлены раненые и убитые на поле сражения… Маленький, еще вчера казавшийся таким ничтожным, япошка перешел Ялу, отбросил нас на север, захватил наши орудия, наших раненых, оставшихся на поле битвы…
Да, это так! Об этом свидетельствуют эти подбитые, искалеченные орудия, эти редкие, наполовину осиротевшие роты, эти бледные, с перевязанными головами, подвязанными руками, в мокрых серых шинелях люди, что поодиночке или кучками по два-три человека под дождем, по липкой грязи этапной дороги отходят на север… Сердце больно сжимается, слезы навертываются на глаза, не хочется верить ужасной истине…
Молча, не обменявшись с капитаном ни словом, вошли мы в фанзу. Угрюмо и как-то поспешно, точно желая скорее уйти от ужасной действительности, казаки седлали коней.
Молча, без чая, тронулись мы в путь на север по направлению к ближайшему этапу Ланшангуань. Под мелким, сеявшим, как сквозь сито, дождем по обочинам дороги, вытянувшись справа по одному, шел наш разъезд. Мы обгоняли зарядные ящики, обозы, длинные вереницы казенных двуколок с ранеными. Угрюмые, землистого цвета лица, забинтованные розовой марлей головы виднеются из-под серых мокрых шинелей… По обе стороны дороги бредут по липкой, глинистой грязи еще раненые. Многие в изнеможении ложатся прямо в грязь у самой дороги или, припав к земле, пьют из лужи грязную, желтую воду… Я спешиваю мой разъезд и сажаю на коней наиболее приставших. Но уже несколько шагов далее опять попадаются выбившиеся из сил, изможденные люди, лихорадочным, полным отчаяния взглядом молящие о помощи, без перевязки, без пищи двое суток бредущие по липкой грязи… Я отворачиваюсь, будучи не в силах им помочь.
При нашем приближении к этапу Ланшангуань дождь прекратился, солнце нежданно выглянуло из-за туч. На этапе столпотворение вавилонское: масса офицеров Генерального штаба, артиллеристов, стрелков, в шинелях, бурках, шведских порыжелых куртках – все это громко разговаривает, шумит и закусывает в ресторанчике, устроенном тут же в дощатом бараке каким-то греком.
На косогоре, где раскинулись палатки Красного Креста, неутомимо работают врачи и сестры, перевязывая все прибывающих с юга раненых. Многие молча, прислонившись к глинобитному забору или сидя и лежа на траве, ждут своей очереди. А вот слышно грустное, заунывное пение, и по мостику, перекинутому через протекающий тут же ручей, туда, где на косогоре виднеются несколько белых крестов, группа солдатиков на носилках под серой солдатской шинелью несет одного из тех, который в числе многих раненых за сто верст прибрел сюда, чтобы здесь, вдали от родины, найти покой…
Масса двуколок, арб, запряженных мулами, верховых лошадей под всевозможными седлами столпилась на дороге.
Кучки солдат разных родов оружия, расположившись у ручья, варят чай в медных походных котелках.
В группах офицеров разговоры исключительно о тюренченском деле.
– Все были герои, от командира полка до последнего солдата, – рассказывает полный капитан с растрепанной русой бородой, в папахе и солдатской шинели, – мы держались до последней крайности, несмотря на то что неприятеля было в десять раз больше. Японцы наступали колоннами, потери их были громадны, песчаный берег чернел от неприятельских трупов… У нас потери ужасны, некоторые батальоны потеряли две трети состава…
– Генерал Ренненкампф 21-го выступил на юг с Забайкальской дивизией… – рассказывает в другой группе молодой казачий сотник.
Я подхожу, представляюсь и спрашиваю, не может ли он сообщить мне, где ныне находится отряд генерала.
– Я обогнал колонну верстах в двенадцати отсюда к северу, генерал скоро должен быть здесь…
Действительно, через полчаса генерал Ренненкампф со штабом, опередив свою колонну, прибыл в Ланшангуань, и я, распрощавшись с капитаном К., который направлялся в Лаоян, в штаб армии, присоединился к своей сотне.
Летучему отряду генерала Ренненкампфа приказано, ведя разведку на крайнем левом фланге нашей армии, в обширном гористом районе бассейнов рек Айхэ и Бадаахэ, одновременно оттягивать, по возможности, силы противника, способствуя тем самым сосредоточению наших сил на большой дороге Лаоян – Фынхуанчен, где имеются прекрасные позиции. Базой наших действий избран небольшой городок Саймадзы, расположенный на узле двух важных дорог, ведущих на города Кинденсянь и Фынхуанчен. Мы прибыли сегодня, 25 апреля, в Саймадзы и отныне ежедневно можем ожидать дела.
V
Недолго пришлось нам ждать дела. На следующий же день нашего прихода в Саймадзы генерал Ренненкампф решил произвести поиск в сторону города Кинденсянь, расположенного в 60 верстах к юго-востоку от Саймадзы и откуда японцы 22 апреля вытеснили казаков 1-го Аргунского казачьего полка, причем один убитый казак был оставлен в городе. В 9 часов утра две казачьи сотни и конно-охотничья команда под общим начальством есаула князя Карагеоргиевича были направлены по дороге на город Кинденсянь. В деревне Аянямынь, на полдороге, к нам должна была присоединиться еще одна сотня 1-го Аргунского казачьего полка, стоявшая там на передовой заставе. Отряд князя Карагеоргиевича должен был занять скалистый перевал Шау-Го в 20 верстах к северу от Кинденсяня, а в последний город бросить разъезд с целью проверить сведения о присутствии там неприятеля и, буде город занят, выяснить силы противника.
Мы выступили в знойную, безветренную погоду. Дорога шла большею частью скалистыми, узкими ущельями, сдавленными с обеих сторон отвесными, лишенными почти совершенно древесной растительности хребтами. То и дело путь наш пересекался горными ручьями и речками с каменистым, покрытым галькою ложем. Бедные, в две-три фанзы, деревушки ютились в многочисленных «падях» и «отладках» гор. Лохматые сонные собаки и грязные, черные, с отвислым брюхом «чушки» бродили по улицам деревни. Китайцы, бронзовые, почти голые «ходя», высыпали на дорогу при нашем приближении, протягивая казакам в деревянных корчагах студеную воду из глубоких, выложенных камнем колодцев. Они, видимо, всячески старались задобрить нас, дрожа за свое незатейливое имущество. Бедный, несчастный народ! Завтра с тем же подобострастием он будет встречать желтолицых японских драгун, ожидая ежедневно лишения последнего скудного своего добра, а может быть, и жизни.
Сделав по дороге часовой привал в деревне Аянямынь, мы в 4 часа дня подошли к перевалу Шау-Го, оказавшемуся свободным от неприятеля. Князь Карагеоргиевич приказал мне, вызвав казаков-охотников, идти с разъездом на Кинденсянь. Охотников оказалось много, и, выбрав 10 человек, я в 5 часов тронулся в путь. Карт, кроме двадцативерстных, у нас не было, и я шел по кроки, сделанному мне есаулом 1-го Аргунского казачьего полка Тютчевым, бывшим уже раз в Кинденсяне. Переводчиком должен был мне служить казак моей сотни Терентий Перебоев, изучивший «мало-мало» китайский язык в прошлую китайскую кампанию.
Мы двигались шагом, тщательно осматривая впереди лежащую местность вдоль горного ручья, местами почти пересохшего. Гористая, с массою складок местность легко способствовала устройству засад и требовала особой осторожности при движении. На наши расспросы о неприятеле китайцы отговаривались полным неведением, на все наши вопросы повторяя «пуджидау» («не знаю»). Старый, полуслепой «джангуйда», копошившийся во дворе полуразвалившейся одинокой фанзы, сообщил нам, что накануне восемь конных японцев заезжали к нему и взяли его единственную курицу. Очевидно, это был неприятельский разъезд. Наступали сумерки, как это здесь всегда в это время бывает, очень быстро. Я выслал двух дозорных на белых конях, но скоро и их стало плохо видно.
Перед нами открылась котловина, и замелькали на дне ее огоньки Кинденсяня. До города оставалось версты две. Ясно было, что значительных сил противника в городе быть не могло, иначе на перевале была бы выставлена застава. В городе могла находиться лишь небольшая часть. Так как двигаться скрытно далее с разъездом было нельзя, то, спешив людей на перевале, я спустился с Перебоевым вдвоем пешком в котловину и, соблюдая полную тишину, направился к городу. На дне котловины нас охватила холодная сырость. Сумерки окутали нас густой пеленой, и полная тишина нарушалась лишь доносившимся до нас лаем собак в городе да рокотом воды по каменистому ложу ручья. Было жутко, сердце громко стучало, казалось, вот-вот раздастся окрик японского часового и блеснет в упор выстрел… Перед нами чернела городская стена, местами обвалившаяся… С винтовками в руках мы крались вдоль нее к широким городским воротам, прислушиваясь к каждому шороху, до боли вглядываясь в горную ночную мглу. Все тихо… Широкая улица китайского города, с рядами закрытых лавок, спит. В ближайшей к воротам фанзе светится огонек и слышен китайский говор. Изредка прокричит где-то мул или залает собака…
Цель разъезда достигнута, мы дошли до Кинденсяня и обнаружили в нем полное отсутствие неприятеля. Весело, быстро шагая и делясь пережитыми впечатлениями, подымаемся мы с Перебоевым на перевал, где казаки беспокоятся нашим долгим отсутствием. Мы сделали сегодня около 60 верст, до Шау-Го нам осталось еще 20, и я, отойдя на 6 верст, останавливаюсь в небольшой деревушке подкормить коней и напиться чаю. У кого-то из казаков оказываются притороченными к седлу две утки, и вкусная похлебка вознаграждает нас за труды дня.
Отдохнув 2 ? часа, мы трогаемся в путь и, едва забрезжил рассвет, подходим к сонному биваку Шау-Го. Накануне вечером сюда подошел генерал Ренненкампф с остальным отрядом, и я являюсь ему положить о разъезде. Застаю генерала уже вставшего, как и всегда, в 5 часов. В желтой чесучовой рубахе, с Георгием 3-й степени на шее и в расстегнутой черной шведской куртке, генерал пьет чай, сидя на капе, и громким, отрывистым голосом диктует какое-то приказание начальнику штаба. От всей фигуры генерала, несколько тучной, но плотной и мускулистой, веет энергией и силой.
Он внимательно выслушивает меня, изредка, как бы про себя, вставляя краткие замечания, сразу освещающие, по-видимому, незначительные мелочи и ярко выясняющие общую обстановку.
– Евгений Александрович, отдайте приказание через час трем сотням быть готовыми к выступлению, – отдает приказание генерал начальнику штаба, – надо пощупать японцев…
Оставив отряд в Шау-Го, генерал с тремя сотнями направляется на Кинденсянь. Я едва успеваю напиться чаю и переменить лошадь, как мы уже выступаем. Быстро двигается отряд по знакомой мне уже дороге. Три версты не доезжая города, генерал высылает три взвода, чтобы занять все трое городских ворот с приказанием никого из города не выпускать. Приказание вызвано тем, что, подходя к городу, пойман сигнализирующий красным флагом китаец. В колонне справа по три втягивается в городские ворота отряд. Генерал со штабом направляется к тифангуану, офицеры, сидя в китайской лавке, пьют чай с сладкими китайскими печеньями, казаки тащат для коней снопы чумизы и бобовые жмыхи. При входе в город китайцы указали нам труп казака 1-го Аргунского полка, убитого еще 22 апреля и до сего времени не похороненного. Генерал приказал немедленно приступить к похоронам несчастного, и у стены китайской кумирни несколько казаков роют могилу… Я стою с караулом у городских ворот; после сильных впечатлений, бессонной ночи и суток, проведенных все время в седле, клонит ко сну. По улице снуют китайцы, пробегают к колодцу казаки с котелками в руках… Мимо меня, приподнявшись на стременах и поднимая облако пыли, быстрой рысью проезжает казак. Он сворачивает к кумирне, где хоронят убитого казака, и скрывается с моих глаз…
Не проходит и пяти минут, как на улице подымается страшная суета: бегут офицеры, на ходу поправляя амуницию, из фанз выскакивают казаки, выплескивая из котелков недопитый чай, другие выводят из дворов коней – сотни быстро строятся на улице. Китайцы, почуяв тревогу, поспешно закрывают лавки и тяжелые двустворчатые ворота. Караулам, выставленным у ворот города, приказано сниматься и присоединяться к своим сотням – с заставы получено донесение о наступлении неприятеля, и мы выступаем из города. Нашей 5-й сотне приказано занять холмистый гребень к западу от города. Мы быстро спешиваемся и рассыпаем стрелковую цепь. В бинокль ясно видны в долине, между группами деревьев, наступающие перебежками неприятельские цепи. По-видимому, здесь около двух рот. Вон из рощи показались три всадника и остановились у небольшой деревушки. Левее от нас, там, где наша вторая сотня, слышны выстрелы. Мы тоже даем два залпа, но за дальностью расстояния, надо думать, они безвредны. Имея всего три сотни, мы, очевидно, серьезного боя принять не можем, и генерал приказывает отступать. Японцы нас не преследуют, и мы медленно отходим по направлению на Шау-Го. В этом первом деле нашей сотне не пришлось быть под огнем, во второй же сотне ранен казак и две лошади.
VI
Вот уже восемь дней, как мы стоим в Саймадзы. За это время генерал Ренненкампф произвел 3 мая еще одну рекогносцировку по дороге на город Фынхуанчен, где у деревни Хай-Чу-Мындзы обнаружены значительные силы противника. К сожалению, нашей сотне не пришлось участвовать в этой рекогносцировке, мы со 2 на 3 мая занимали сторожевое охранение в окрестностях Саймадзы. Желая хоть отчасти узнать о том, что делается за завесой неприятельских постов, генерал Ренненкампф отправил из Саймадзы в расположение японцев несколько китайцев-шпионов. Из них особые надежды возлагал генерал на нашего китайца-переводчика Андрея, крещеного китайца, бывшего еще в прошлую китайскую кампанию на русской службе. Переодевшись китайским нищим, Андрей благополучно прошел к японцам и принес известие, что неприятель сосредоточивается в значительных силах близ города Фынхуанчена. Известие это представлялось крайне важным, и для проверки полученных сведений генерал решил отправить ряд небольших разъездов, долженствующих проникнуть сквозь неприятельское сторожевое охранение в тыл противника. Охотниками идти вызвались поголовно все офицеры отряда, так что пришлось кинуть жребий, который и вытянули: есаул князь Карагеоргиевич (с ним ушел хорунжий граф Беннигсен), есаул Гулевич (с ним отправился хорунжий граф Бенкендорф), ротмистр Дроздовский (взявший с собой хорунжего Гудеева), подъесаул Миллер, сотник Казачихин и хорунжий Роговский. Ввиду невозможности проникнуть через неприятельское сторожевое охранение в конном строю разведчики ушли пешком, каждый с тремя-четырьмя казаками-охотниками. Они ушли вчера и вернутся не ранее 2–3 недель. Если вернутся… При той тщательности, с которой охраняются японцы, при несочувствии к нам, русским, местного населения, при отсутствии точных, подробных карт многие из них, вероятно, поплатятся за свой смелый подвиг. С грустью, хотя и с некоторой завистью в душе, провожали мы их, мысленно благословляя на высокое дело…
Все это время стоит жаркая, сухая погода. Казаки помещаются в фанзах, где духота адская, несмотря на то что сняты с петель все двери и выставлены оклеенные бумагою оконные рамы. Мы, офицеры, помещаемся или в палатках (у кого таковые есть), или в шалашах из плотных китайских циновок. Очень страдаем от недостатка пищевых продуктов и фуража. Приходится ежедневно ездить на фуражировку верст за 15–20, ближайшие запасы все съедены, Здешняя местность, гористая и бесплодная, крайне бедна, к тому же зимние запасы населения к весне уже истощились, и зерно остается лишь необходимое для обсеменения. Китайцы тщательно прячут от нас все, что только возможно, угоняя скот далеко в горы и зарывая зерно в землю. Даже кур, гусей и уток ухитряются скрывать они в особых погребках, которые сверху маскируют всякими способами. Такие погреба называются нашими забайкальцами «потайниками». Есть между казаками особые специалисты по отысканию этих «потайников». Так на днях один из казаков моей сотни разыскал такой «потайник», устроенный среди китайского огорода. Погреб, укрепленный деревянным срубом, был сверху присыпан землей, на которой были устроены грядки и даже посеяна какая-то трава. В этом «потайнике» мы нашли несколько громадных кувшинов с чумизным зерном и около 100 яиц.
Я часто поражаюсь способностью казака помещать невероятное количество всяких предметов на седло и в сумы. В этом отношении он напоминает того фокусника в цирке, который из цилиндра вынимает на ваших глазах кур, кроликов и, наконец, аквариум с рыбами!.. Чего-чего только вы не найдете у казака: тут и китайские улы (род поршней), и пачки китайского табаку, и «лендо» – серп для подрезывания гаоляна, и завернутые в бумагу «цаухагау» – сладкие печенья на бобовом масле. К седлу приторочены несколько кур и уток, а иногда и целый поросенок. Казак удивительно быстро устраивается с закуской; не успеете вы спешить сотню, как уж вода кипит в котелках, и казак «чаюет» или варит суп. На переходах я люблю идти сзади сотни и наблюдать: сотня втягивается в какую-нибудь деревушку, смотришь – один, другой казак незаметно выезжает из строя и заворачивает в какой-нибудь двор. Оттуда с криком вылетают куры, с визгом под ворота выскакивает поросенок… По выходе из деревни порядок быстро восстанавливается, и лишь несущийся от сотни по ветру пух свидетельствует, что суп будет с хорошим наваром. Я должен засвидетельствовать, что до сего времени не слышал ни одной жалобы на присвоение казаками какого-либо китайского имущества – я подразумеваю предметы неудобоваримые. Что же касается всякого рода живности или фуража, то безвозмездное присвоение их не составляет в понятии казака чего-либо предосудительного. Я помню, как неподдельно недоумевал, даже возмущался мой взводный урядник, когда я во время фуражировок платил китайцам за забираемые продукты.
– За что же, ваше высокоблагородие, платить им, ведь мы же имущества ихнего не берем, – убеждал он меня, порицая, видимо, в душе мою расточительность.
22 апреля поздно вечером после недельного скитания в горах, где мы за все время не встретили ни одного европейца, мы вышли на большую этапную дорогу Лаоян – Фынхуанчен и расположились на ночлег в деревне Цау-Хе-Гау, в лавке богатого китайского купца. Рекогносцировка наша была окончена, и составленная капитаном маршрутная съемка сведена. Путей, проходимых не только для артиллерии, но и для кавалерии, на всем исследованном нами участке не оказалось, имелись лишь горные тропы, служащие путями сообщения жителям многочисленных бедных деревушек, разбросанных в горах. Мы проходили в день, находясь все время в ходу, не более 20 верст; иные дни шли почти исключительно пешком, ведя коней в поводу, но даже и при этих условиях двигаться подчас было крайне тяжело. Местами кони наши съезжали по горным каменистым тропам, буквально сидя на заду, а взбираясь на крутые, голые каменистые перевалы, приходилось останавливаться каждые десять шагов, чтобы перевести дыхание. Не обошлось и без несчастья: мой взводный, урядник Баженов, прекрасный, расторопный казак, сорвался с конем под кручу и страшно разбился. Не имея с собою фельдшера, мы с капитаном, как умели, перевязали его, и он, хотя и очень страдая, следовал с нами до большой этапной дороги, откуда я отправил его в сопровождении двух казаков в лаоянский госпиталь.
Первые дни наше движение страшно задерживала взятая капитаном из Лаояна тяжелая фудутунка, запряженная парой мулов. В этой фудутунке капитан поместил свой многочисленный багаж. Не говоря уже о массе всевозможных консервов, в том числе двенадцати банках с ананасами, нескольких ящиках с мармеладом и т. п., тут находились: большой саквояж-несессер с массою всевозможных туалетных принадлежностей, банок одеколона, туалетной воды, вежеталя, белье, которого хватило бы на целый год похода, и т. д. С первого же дня двуколка эта принесла нам массу хлопот; приходилось спешивать людей для втаскивания ее на подъемах и торможении при спусках с перевалов. На мои доводы об обременительности подобного обоза капитан лишь ссылался на пример ближайшей турецкой кампании, когда даже тяжелые полевые орудия перетаскивались на руках через Балканский хребет… Наконец, убедившись в полной невозможности двигаться далее при подобном обозе, капитан согласился бросить свою арбу и, купив в одной из деревушек вьючные китайские седла, поместил свой багаж на вьюки.
Недостатка в фураже мы в продолжение разъезда не терпели. В многочисленных деревушках можно было легко достать чумизную солому и гаоляновое зерно, которое наши кони ели с удовольствием. Куры, утки и прочая птица здесь находились в изобилии, лишь с непривычки трудно было обходиться без хлеба – кроме сладких китайских печений на бобовом масле другой мучной пищи здесь не найти.
Местность здесь, как и вообще во всей Северной Маньчжурии, малокрасивая: скалистые, большею частью голые, лишь местами покрытые убогой растительностью горные хребты, с разбросанными по падям убогими, большею частью из двух-трех фанз, деревушками, с многочисленными, быстротекущими горными ручьями…
Несмотря на раннюю весну, поражала скудость животного мира – не было почти совершенно тех звуков пернатого царства, которыми так полон весенний воздух Европейской России. Лишь по долинам горных речек попадались более зажиточные деревушки, выглядевшие особенно весело благодаря многочисленным вишневым деревьям, в это время года покрытым чудным цветом…
Мы вошли в деревню Цау-Хе-Гау в полную темноту и, разбудив старого китайца, владельца лавки, кое-как устроились на ночлег. Не имея более недели никаких сведений из действующей армии и надеясь узнать хоть что-либо о движении наших частей по большой этапной дороге, я попробовал вступить в разговор с нашим «джангуйдой» (хозяином) на том особенном воляпюке, который неизменно служил нам при объяснениях с китайцами.
– Ходя! Лускуа джега дау ходи?[1 - Что, друг, русские этой дорогой идут?] – начинаю я.
– Ибена Тюренчен пау-пау, лускуа ламайла, – Лаоян ходи[2 - Японцы в Тюренчене стреляют; русские побиты, идут на Лаоян.], – таинственно сообщает «джангуйда».
– Все врет, мерзавец, – возмущаюсь я, – слышите, капитан, говорит, наши отходят…
Наскоро закусив холодной курицей и выпив чаю, ложимся спать. Ночью подымается ветер, начинается дождь, к утру усиливающийся, – плотнее стараюсь с головою укрыться буркой…
– Ваше высокоблагородие, вставайте, – будит меня вестовой. В фанзе холодно, сыро, дождь выбивает частую дробь по оклеенным бумагою окнам, слышен какой-то равномерный грохот, точно от многочисленных двуколок или телег, идущих по дороге.
– Наших, сказывают, японцы побили, – сообщает вестовой, – на Лаоян отступают, вон, слышите, артиллерия идет; раненых по дорого тоже много идет…
Как ошпаренный вскакиваю с кана и бросаюсь на двор, где капитан, стоя без фуражки у ворот, разговаривает со стрелковым офицером в бурке и мохнатой мокрой папахе на небольшом белом «манзюке».
– Неужели и орудия бросили?!
– Пришлось оставить; слишком уж неравные силы были, да и потери громадны.
– А как велики наши потери?
– В одном 11-м полку около 900 нижних чинов выбыло из строя; некоторые роты без офицеров остались…
Боже! Что же это? Неужели поражение? Неужели слышанное мною правда? Оставлены орудия, оставлены раненые и убитые на поле сражения… Маленький, еще вчера казавшийся таким ничтожным, япошка перешел Ялу, отбросил нас на север, захватил наши орудия, наших раненых, оставшихся на поле битвы…
Да, это так! Об этом свидетельствуют эти подбитые, искалеченные орудия, эти редкие, наполовину осиротевшие роты, эти бледные, с перевязанными головами, подвязанными руками, в мокрых серых шинелях люди, что поодиночке или кучками по два-три человека под дождем, по липкой грязи этапной дороги отходят на север… Сердце больно сжимается, слезы навертываются на глаза, не хочется верить ужасной истине…
Молча, не обменявшись с капитаном ни словом, вошли мы в фанзу. Угрюмо и как-то поспешно, точно желая скорее уйти от ужасной действительности, казаки седлали коней.
Молча, без чая, тронулись мы в путь на север по направлению к ближайшему этапу Ланшангуань. Под мелким, сеявшим, как сквозь сито, дождем по обочинам дороги, вытянувшись справа по одному, шел наш разъезд. Мы обгоняли зарядные ящики, обозы, длинные вереницы казенных двуколок с ранеными. Угрюмые, землистого цвета лица, забинтованные розовой марлей головы виднеются из-под серых мокрых шинелей… По обе стороны дороги бредут по липкой, глинистой грязи еще раненые. Многие в изнеможении ложатся прямо в грязь у самой дороги или, припав к земле, пьют из лужи грязную, желтую воду… Я спешиваю мой разъезд и сажаю на коней наиболее приставших. Но уже несколько шагов далее опять попадаются выбившиеся из сил, изможденные люди, лихорадочным, полным отчаяния взглядом молящие о помощи, без перевязки, без пищи двое суток бредущие по липкой грязи… Я отворачиваюсь, будучи не в силах им помочь.
При нашем приближении к этапу Ланшангуань дождь прекратился, солнце нежданно выглянуло из-за туч. На этапе столпотворение вавилонское: масса офицеров Генерального штаба, артиллеристов, стрелков, в шинелях, бурках, шведских порыжелых куртках – все это громко разговаривает, шумит и закусывает в ресторанчике, устроенном тут же в дощатом бараке каким-то греком.
На косогоре, где раскинулись палатки Красного Креста, неутомимо работают врачи и сестры, перевязывая все прибывающих с юга раненых. Многие молча, прислонившись к глинобитному забору или сидя и лежа на траве, ждут своей очереди. А вот слышно грустное, заунывное пение, и по мостику, перекинутому через протекающий тут же ручей, туда, где на косогоре виднеются несколько белых крестов, группа солдатиков на носилках под серой солдатской шинелью несет одного из тех, который в числе многих раненых за сто верст прибрел сюда, чтобы здесь, вдали от родины, найти покой…
Масса двуколок, арб, запряженных мулами, верховых лошадей под всевозможными седлами столпилась на дороге.
Кучки солдат разных родов оружия, расположившись у ручья, варят чай в медных походных котелках.
В группах офицеров разговоры исключительно о тюренченском деле.
– Все были герои, от командира полка до последнего солдата, – рассказывает полный капитан с растрепанной русой бородой, в папахе и солдатской шинели, – мы держались до последней крайности, несмотря на то что неприятеля было в десять раз больше. Японцы наступали колоннами, потери их были громадны, песчаный берег чернел от неприятельских трупов… У нас потери ужасны, некоторые батальоны потеряли две трети состава…
– Генерал Ренненкампф 21-го выступил на юг с Забайкальской дивизией… – рассказывает в другой группе молодой казачий сотник.
Я подхожу, представляюсь и спрашиваю, не может ли он сообщить мне, где ныне находится отряд генерала.
– Я обогнал колонну верстах в двенадцати отсюда к северу, генерал скоро должен быть здесь…
Действительно, через полчаса генерал Ренненкампф со штабом, опередив свою колонну, прибыл в Ланшангуань, и я, распрощавшись с капитаном К., который направлялся в Лаоян, в штаб армии, присоединился к своей сотне.
Летучему отряду генерала Ренненкампфа приказано, ведя разведку на крайнем левом фланге нашей армии, в обширном гористом районе бассейнов рек Айхэ и Бадаахэ, одновременно оттягивать, по возможности, силы противника, способствуя тем самым сосредоточению наших сил на большой дороге Лаоян – Фынхуанчен, где имеются прекрасные позиции. Базой наших действий избран небольшой городок Саймадзы, расположенный на узле двух важных дорог, ведущих на города Кинденсянь и Фынхуанчен. Мы прибыли сегодня, 25 апреля, в Саймадзы и отныне ежедневно можем ожидать дела.
V
Недолго пришлось нам ждать дела. На следующий же день нашего прихода в Саймадзы генерал Ренненкампф решил произвести поиск в сторону города Кинденсянь, расположенного в 60 верстах к юго-востоку от Саймадзы и откуда японцы 22 апреля вытеснили казаков 1-го Аргунского казачьего полка, причем один убитый казак был оставлен в городе. В 9 часов утра две казачьи сотни и конно-охотничья команда под общим начальством есаула князя Карагеоргиевича были направлены по дороге на город Кинденсянь. В деревне Аянямынь, на полдороге, к нам должна была присоединиться еще одна сотня 1-го Аргунского казачьего полка, стоявшая там на передовой заставе. Отряд князя Карагеоргиевича должен был занять скалистый перевал Шау-Го в 20 верстах к северу от Кинденсяня, а в последний город бросить разъезд с целью проверить сведения о присутствии там неприятеля и, буде город занят, выяснить силы противника.
Мы выступили в знойную, безветренную погоду. Дорога шла большею частью скалистыми, узкими ущельями, сдавленными с обеих сторон отвесными, лишенными почти совершенно древесной растительности хребтами. То и дело путь наш пересекался горными ручьями и речками с каменистым, покрытым галькою ложем. Бедные, в две-три фанзы, деревушки ютились в многочисленных «падях» и «отладках» гор. Лохматые сонные собаки и грязные, черные, с отвислым брюхом «чушки» бродили по улицам деревни. Китайцы, бронзовые, почти голые «ходя», высыпали на дорогу при нашем приближении, протягивая казакам в деревянных корчагах студеную воду из глубоких, выложенных камнем колодцев. Они, видимо, всячески старались задобрить нас, дрожа за свое незатейливое имущество. Бедный, несчастный народ! Завтра с тем же подобострастием он будет встречать желтолицых японских драгун, ожидая ежедневно лишения последнего скудного своего добра, а может быть, и жизни.
Сделав по дороге часовой привал в деревне Аянямынь, мы в 4 часа дня подошли к перевалу Шау-Го, оказавшемуся свободным от неприятеля. Князь Карагеоргиевич приказал мне, вызвав казаков-охотников, идти с разъездом на Кинденсянь. Охотников оказалось много, и, выбрав 10 человек, я в 5 часов тронулся в путь. Карт, кроме двадцативерстных, у нас не было, и я шел по кроки, сделанному мне есаулом 1-го Аргунского казачьего полка Тютчевым, бывшим уже раз в Кинденсяне. Переводчиком должен был мне служить казак моей сотни Терентий Перебоев, изучивший «мало-мало» китайский язык в прошлую китайскую кампанию.
Мы двигались шагом, тщательно осматривая впереди лежащую местность вдоль горного ручья, местами почти пересохшего. Гористая, с массою складок местность легко способствовала устройству засад и требовала особой осторожности при движении. На наши расспросы о неприятеле китайцы отговаривались полным неведением, на все наши вопросы повторяя «пуджидау» («не знаю»). Старый, полуслепой «джангуйда», копошившийся во дворе полуразвалившейся одинокой фанзы, сообщил нам, что накануне восемь конных японцев заезжали к нему и взяли его единственную курицу. Очевидно, это был неприятельский разъезд. Наступали сумерки, как это здесь всегда в это время бывает, очень быстро. Я выслал двух дозорных на белых конях, но скоро и их стало плохо видно.
Перед нами открылась котловина, и замелькали на дне ее огоньки Кинденсяня. До города оставалось версты две. Ясно было, что значительных сил противника в городе быть не могло, иначе на перевале была бы выставлена застава. В городе могла находиться лишь небольшая часть. Так как двигаться скрытно далее с разъездом было нельзя, то, спешив людей на перевале, я спустился с Перебоевым вдвоем пешком в котловину и, соблюдая полную тишину, направился к городу. На дне котловины нас охватила холодная сырость. Сумерки окутали нас густой пеленой, и полная тишина нарушалась лишь доносившимся до нас лаем собак в городе да рокотом воды по каменистому ложу ручья. Было жутко, сердце громко стучало, казалось, вот-вот раздастся окрик японского часового и блеснет в упор выстрел… Перед нами чернела городская стена, местами обвалившаяся… С винтовками в руках мы крались вдоль нее к широким городским воротам, прислушиваясь к каждому шороху, до боли вглядываясь в горную ночную мглу. Все тихо… Широкая улица китайского города, с рядами закрытых лавок, спит. В ближайшей к воротам фанзе светится огонек и слышен китайский говор. Изредка прокричит где-то мул или залает собака…
Цель разъезда достигнута, мы дошли до Кинденсяня и обнаружили в нем полное отсутствие неприятеля. Весело, быстро шагая и делясь пережитыми впечатлениями, подымаемся мы с Перебоевым на перевал, где казаки беспокоятся нашим долгим отсутствием. Мы сделали сегодня около 60 верст, до Шау-Го нам осталось еще 20, и я, отойдя на 6 верст, останавливаюсь в небольшой деревушке подкормить коней и напиться чаю. У кого-то из казаков оказываются притороченными к седлу две утки, и вкусная похлебка вознаграждает нас за труды дня.
Отдохнув 2 ? часа, мы трогаемся в путь и, едва забрезжил рассвет, подходим к сонному биваку Шау-Го. Накануне вечером сюда подошел генерал Ренненкампф с остальным отрядом, и я являюсь ему положить о разъезде. Застаю генерала уже вставшего, как и всегда, в 5 часов. В желтой чесучовой рубахе, с Георгием 3-й степени на шее и в расстегнутой черной шведской куртке, генерал пьет чай, сидя на капе, и громким, отрывистым голосом диктует какое-то приказание начальнику штаба. От всей фигуры генерала, несколько тучной, но плотной и мускулистой, веет энергией и силой.
Он внимательно выслушивает меня, изредка, как бы про себя, вставляя краткие замечания, сразу освещающие, по-видимому, незначительные мелочи и ярко выясняющие общую обстановку.
– Евгений Александрович, отдайте приказание через час трем сотням быть готовыми к выступлению, – отдает приказание генерал начальнику штаба, – надо пощупать японцев…
Оставив отряд в Шау-Го, генерал с тремя сотнями направляется на Кинденсянь. Я едва успеваю напиться чаю и переменить лошадь, как мы уже выступаем. Быстро двигается отряд по знакомой мне уже дороге. Три версты не доезжая города, генерал высылает три взвода, чтобы занять все трое городских ворот с приказанием никого из города не выпускать. Приказание вызвано тем, что, подходя к городу, пойман сигнализирующий красным флагом китаец. В колонне справа по три втягивается в городские ворота отряд. Генерал со штабом направляется к тифангуану, офицеры, сидя в китайской лавке, пьют чай с сладкими китайскими печеньями, казаки тащат для коней снопы чумизы и бобовые жмыхи. При входе в город китайцы указали нам труп казака 1-го Аргунского полка, убитого еще 22 апреля и до сего времени не похороненного. Генерал приказал немедленно приступить к похоронам несчастного, и у стены китайской кумирни несколько казаков роют могилу… Я стою с караулом у городских ворот; после сильных впечатлений, бессонной ночи и суток, проведенных все время в седле, клонит ко сну. По улице снуют китайцы, пробегают к колодцу казаки с котелками в руках… Мимо меня, приподнявшись на стременах и поднимая облако пыли, быстрой рысью проезжает казак. Он сворачивает к кумирне, где хоронят убитого казака, и скрывается с моих глаз…
Не проходит и пяти минут, как на улице подымается страшная суета: бегут офицеры, на ходу поправляя амуницию, из фанз выскакивают казаки, выплескивая из котелков недопитый чай, другие выводят из дворов коней – сотни быстро строятся на улице. Китайцы, почуяв тревогу, поспешно закрывают лавки и тяжелые двустворчатые ворота. Караулам, выставленным у ворот города, приказано сниматься и присоединяться к своим сотням – с заставы получено донесение о наступлении неприятеля, и мы выступаем из города. Нашей 5-й сотне приказано занять холмистый гребень к западу от города. Мы быстро спешиваемся и рассыпаем стрелковую цепь. В бинокль ясно видны в долине, между группами деревьев, наступающие перебежками неприятельские цепи. По-видимому, здесь около двух рот. Вон из рощи показались три всадника и остановились у небольшой деревушки. Левее от нас, там, где наша вторая сотня, слышны выстрелы. Мы тоже даем два залпа, но за дальностью расстояния, надо думать, они безвредны. Имея всего три сотни, мы, очевидно, серьезного боя принять не можем, и генерал приказывает отступать. Японцы нас не преследуют, и мы медленно отходим по направлению на Шау-Го. В этом первом деле нашей сотне не пришлось быть под огнем, во второй же сотне ранен казак и две лошади.
VI
Вот уже восемь дней, как мы стоим в Саймадзы. За это время генерал Ренненкампф произвел 3 мая еще одну рекогносцировку по дороге на город Фынхуанчен, где у деревни Хай-Чу-Мындзы обнаружены значительные силы противника. К сожалению, нашей сотне не пришлось участвовать в этой рекогносцировке, мы со 2 на 3 мая занимали сторожевое охранение в окрестностях Саймадзы. Желая хоть отчасти узнать о том, что делается за завесой неприятельских постов, генерал Ренненкампф отправил из Саймадзы в расположение японцев несколько китайцев-шпионов. Из них особые надежды возлагал генерал на нашего китайца-переводчика Андрея, крещеного китайца, бывшего еще в прошлую китайскую кампанию на русской службе. Переодевшись китайским нищим, Андрей благополучно прошел к японцам и принес известие, что неприятель сосредоточивается в значительных силах близ города Фынхуанчена. Известие это представлялось крайне важным, и для проверки полученных сведений генерал решил отправить ряд небольших разъездов, долженствующих проникнуть сквозь неприятельское сторожевое охранение в тыл противника. Охотниками идти вызвались поголовно все офицеры отряда, так что пришлось кинуть жребий, который и вытянули: есаул князь Карагеоргиевич (с ним ушел хорунжий граф Беннигсен), есаул Гулевич (с ним отправился хорунжий граф Бенкендорф), ротмистр Дроздовский (взявший с собой хорунжего Гудеева), подъесаул Миллер, сотник Казачихин и хорунжий Роговский. Ввиду невозможности проникнуть через неприятельское сторожевое охранение в конном строю разведчики ушли пешком, каждый с тремя-четырьмя казаками-охотниками. Они ушли вчера и вернутся не ранее 2–3 недель. Если вернутся… При той тщательности, с которой охраняются японцы, при несочувствии к нам, русским, местного населения, при отсутствии точных, подробных карт многие из них, вероятно, поплатятся за свой смелый подвиг. С грустью, хотя и с некоторой завистью в душе, провожали мы их, мысленно благословляя на высокое дело…
Все это время стоит жаркая, сухая погода. Казаки помещаются в фанзах, где духота адская, несмотря на то что сняты с петель все двери и выставлены оклеенные бумагою оконные рамы. Мы, офицеры, помещаемся или в палатках (у кого таковые есть), или в шалашах из плотных китайских циновок. Очень страдаем от недостатка пищевых продуктов и фуража. Приходится ежедневно ездить на фуражировку верст за 15–20, ближайшие запасы все съедены, Здешняя местность, гористая и бесплодная, крайне бедна, к тому же зимние запасы населения к весне уже истощились, и зерно остается лишь необходимое для обсеменения. Китайцы тщательно прячут от нас все, что только возможно, угоняя скот далеко в горы и зарывая зерно в землю. Даже кур, гусей и уток ухитряются скрывать они в особых погребках, которые сверху маскируют всякими способами. Такие погреба называются нашими забайкальцами «потайниками». Есть между казаками особые специалисты по отысканию этих «потайников». Так на днях один из казаков моей сотни разыскал такой «потайник», устроенный среди китайского огорода. Погреб, укрепленный деревянным срубом, был сверху присыпан землей, на которой были устроены грядки и даже посеяна какая-то трава. В этом «потайнике» мы нашли несколько громадных кувшинов с чумизным зерном и около 100 яиц.
Я часто поражаюсь способностью казака помещать невероятное количество всяких предметов на седло и в сумы. В этом отношении он напоминает того фокусника в цирке, который из цилиндра вынимает на ваших глазах кур, кроликов и, наконец, аквариум с рыбами!.. Чего-чего только вы не найдете у казака: тут и китайские улы (род поршней), и пачки китайского табаку, и «лендо» – серп для подрезывания гаоляна, и завернутые в бумагу «цаухагау» – сладкие печенья на бобовом масле. К седлу приторочены несколько кур и уток, а иногда и целый поросенок. Казак удивительно быстро устраивается с закуской; не успеете вы спешить сотню, как уж вода кипит в котелках, и казак «чаюет» или варит суп. На переходах я люблю идти сзади сотни и наблюдать: сотня втягивается в какую-нибудь деревушку, смотришь – один, другой казак незаметно выезжает из строя и заворачивает в какой-нибудь двор. Оттуда с криком вылетают куры, с визгом под ворота выскакивает поросенок… По выходе из деревни порядок быстро восстанавливается, и лишь несущийся от сотни по ветру пух свидетельствует, что суп будет с хорошим наваром. Я должен засвидетельствовать, что до сего времени не слышал ни одной жалобы на присвоение казаками какого-либо китайского имущества – я подразумеваю предметы неудобоваримые. Что же касается всякого рода живности или фуража, то безвозмездное присвоение их не составляет в понятии казака чего-либо предосудительного. Я помню, как неподдельно недоумевал, даже возмущался мой взводный урядник, когда я во время фуражировок платил китайцам за забираемые продукты.
– За что же, ваше высокоблагородие, платить им, ведь мы же имущества ихнего не берем, – убеждал он меня, порицая, видимо, в душе мою расточительность.