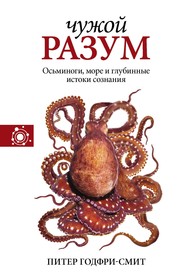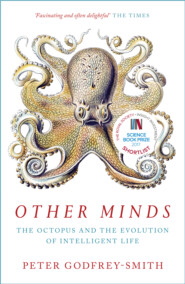По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Метазоа. Зарождение разума в животном мире
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Идея кажется странной, но отчасти она была мотивирована пристальным изучением клеток и простых организмов. Заглядывая внутрь клетки, ученые видели там довольно слабую организацию: в ней явно не хватало обособленных и дифференцированных деталей, позволявших клетке делать все то, что она, очевидно, делать умела[11 - Давняя философская традиция убеждает нас, что самая обычная материя содержит в себе скрытые миры – сложные и, вероятно, бесконечные. Философ XVII века Готфрид Лейбниц утверждал, что материя должна быть устроена именно так. Съездив в Голландию, Лейбниц заглянул в один из левенгуковских микроскопов, хотя и утверждал, что у него имеются и более общие резоны настаивать на существовании миров внутри миров. В общем, идея скрытой структуры микроскопического уровня лежала на поверхности. Но я подозреваю, что люди, рассматривавшие клетки в микроскоп во времена Дарвина и Гексли, даже если и знали о существовании подобных теорий, всерьез их не воспринимали. В конце концов, они смотрели на крошечную прозрачную кляксу, и эта прозрачная клякса вытворяла удивительные вещи. Ну как тут не подумать о протоплазме!]. Внутреннее наполнение клетки казалась им однородной субстанцией, прозрачной и мягкой. Английский физиолог Уильям Бенджамин Карпентер, восхищаясь способностями одноклеточных организмов, отмечал в 1862 году, что «жизненно важные операции», которые у животных «осуществляются с помощью развитого аппарата», на этом уровне жизни выполняются «крошечными частичками очевидно гомогенного желе». Комочек такого желе «захватывает пищу без конечностей, проглатывает безо рта, переваривает без желудка» и «перемещается с места на место без мускулов». Подобные наблюдения навели Гексли и других на мысль о том, что жизнедеятельность организмов объясняется не сложной организацией обычной материи, но совершенно иным ингредиентом, живым по самой своей природе: «организация материи есть результат жизни, а не жизнь есть результат организации материи».
На этом фоне батибиус казался невероятно многообещающим. Это же чистый образец материи жизни, материи, которая, возможно, возникает спонтанно и непрерывно, образуя постоянно обновляющийся органический ковер, покрывающий морское дно. Были исследованы и другие образцы. Сообщалось, например, что батибиус, взятый со дна Бискайского залива, умел самостоятельно передвигаться. Тем не менее другие биологи скептически отнеслись к этой якобы изначальной форме жизни, вокруг которой сгущался туман предположений и догадок. «Как батибиус выживает на глубине и чем он там питается?» – размышляли они.
В 1870-х годах был дан старт экспедиции «Челленджер» – проекту, организованному Лондонским королевским обществом[12 - На некоторых из наилучших иллюстраций Геккеля изображены представители биологических видов, обнаруженных этой экспедицией; см.: «Art Forms from the Abyss: Ernst Haeckel's Images from the Challenger Expedition», ed. Peter J. le B. Williams et al. (Munich: Prestel, 2015). Эми Райс предполагает, что батибиус все-таки мог быть органическим веществом, скорее всего остатками планктона, но, конечно, не особой формой жизни ("Thomas Henry Huxley and the Strange Case of Bathybius haeckelii; A Possible Alternative Explanation," Archives of Natural History 2 (1983): 169–80).]. За четыре года экспедиция собрала массу проб в сотнях точек океанского дна по всему миру. Перед учеными стояла задача составить первую развернутую опись живых существ, обитающих в глубоких водах. Возглавлявший экспедицию Чарльз Уайвилл Томсон стремился разрешить загадку батибиуса, хотя и относился к нему с недоверием. Несмотря на все усилия, участникам экспедиции не удалось раздобыть никаких новых образцов, и двое ученых на борту судна по зрелом размышлении начали подозревать, что ничего общего с живыми организмами батибиус не имеет. Проведя серию экспериментов, они показали, что нашумевший батибиус, не исключая и самого первого образца, полученного Гексли с фрегата «Циклоп», не что иное, как продукт химической реакции между морской водой и спиртом, который использовался для консервации проб.
Таким образом, батибиус испустил дух. Гексли немедленно признал свою ошибку. К несчастью, Геккель, сильнее увлеченный идеей батибиуса как недостающего звена, упирался еще как минимум десяток лет[13 - См. труд Геккеля "Bathybius and the Moners," Popular Science Monthly 11 (October 1877): 641–52. Здесь он практически слово в слово повторяет за Гексли: «Следовательно, не жизнь есть результат организации – верно обратное».]. И все же этот мостик провалился.
Некоторые ученые какое-то время еще лелеяли надежду отыскать связующее звено подобного типа – особую субстанцию (substance), которая соединит жизнь и материю, но с годами такие идеи теряли популярность. Их заменил постепенный процесс открытий, который со временем разрешил загадку жизнедеятельности организмов. В конце концов объяснение жизни было найдено именно там, где Гексли и Геккель отказались его искать, – в невидимой глазу организации обычной материи.
Как мы увидим далее, упомянутую материю отнюдь не во всех отношениях можно назвать «обычной», но по базовой композиции она действительно самая обыкновенная. Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и все остальное во Вселенной, и ведут себя в соответствии с теми же законами физики, которым подчиняется и царство неживого. Нам до сих пор неизвестно, как зародилась жизнь на Земле, но ее происхождение перестало быть загадкой такого рода, что заставляет нас верить, будто живой мир породила некая особая субстанция.
Это был триумф материалистического взгляда на жизнь – мировоззрения, не допускающего никаких сверхъестественных вмешательств. Столь же триумфально утвердилось и представление о том, что мироздание целиком построено из одних и тех же основных компонентов. Жизнедеятельность организмов теперь следует объяснять не в терминах некоего мистического ингредиента, но в терминах сложной организации на микроскопическом уровне – таком крошечном, что его практически невозможно себе представить. Взять хотя бы рибосомы – это важные для клетки органы, станции, где собираются белковые молекулы. Рибосомы и сами по себе имеют довольно сложное строение, однако на поверхности точки, которая стоит в конце этого предложения, может уместиться больше 100 миллионов рибосом[14 - В заметке "How You Consist of Trillions of Tiny Machines," The New York Review of Books, July 9, 2015, Тим Фланнери пишет: "Не менее 400 миллионов рибосом может уместиться в одной-единственной точке в конце предложения, напечатанного в The New York Review." Четыреста миллионов? Я не мог не попытаться пересчитать заново. Вот результаты моих вычислений. Если сравнивать площадь (проигнорировав наложения и пустое пространство), то диаметр рибосомы эукариотической клетки составляет примерно 25 нанометров – 25 миллионных миллиметра. Круг такого же диаметра имеет площадь примерно 500 нм2. Диаметр точки равен примерно трети миллиметра, а отсюда ее площадь равна примерно 85 миллиардам нм2. Исходя из величины площади, на одну точку придется примерно 170 миллионов рибосом. Учитывая, что точки могут немного отличаться по размеру, а рибосомы могут принимать разные формы, можно утверждать, что наши вычисления в целом верны.].
Жизнь, в общем, нашла свое место в структуре нашего знания. Но если говорить о разуме, тут еще далеко не все понятно.
Разрыв
С конца XIX века и далее, по мере того как революция Дарвина набирала обороты, становилось все сложнее придерживаться дуалистического взгляда на разум, сформулированного Декартом. Дуализм имеет некоторый смысл в рамках общей картины, определяющей человека как уникальную, особенную часть природы, в каком-то смысле приближенную к Богу. При таком подходе все остальное, живое и мертвое, предстает чисто материальным, а вот в нас обнаруживается некий добавочный ингредиент. Придерживаясь эволюционного представления о человечестве, утверждающего неразрывную связь между нами и другими животными, отстаивать дуализм непросто, хотя все-таки возможно. Это, в свою очередь, мотивирует к формированию материалистического представления о разуме, которое могло бы объяснить мышление, память и чувства в терминах физических и химических процессов. Впрочем, несмотря на то что сам факт рассмотрения жизни в материалистических терминах вдохновляет, это отнюдь не означает, что от него будет какой-то толк и в нашем случае, поскольку далеко не ясно, какое отношение успехи материализма в биологии имеют к разгадке тайны разума.
Вновь обратившись к истории, мы можем отыскать два альтернативных подхода, здравствующих и по сей день. Аристотель, как уже было показано, выделял несколько уровней души, присущих растениям, животным и людям. То, что мы называем «разумом», он считал естественным продолжением или разновидностью жизнедеятельности организма. И хотя Аристотель не был эволюционистом, его взгляды довольно легко переформулировать в эволюционных терминах. Эволюция сложных форм жизни естественным образом порождает разум, стимулируя развитие целенаправленных действий и поощряя чувствительность к окружающей среде.
Декарт, напротив, считал, что жизнь – это одно, а разум – совершенно другое. Руководствуясь этим вторым подходом, нет оснований думать, будто прогресс в понимании жизни внесет хоть какой-то вклад в разрешение загадки разума.
На протяжении последнего столетия или около того в этой области преобладали материалистические взгляды, но в одном отношении они все же сдвинулись чуть ближе к представлениям Декарта. С середины ХХ века ученые-теоретики начали отказываться от признания неразрывной связи между жизнью и разумом. Не в последнюю очередь это происходило благодаря появлению компьютеров. Компьютерные технологии, активно развивавшиеся с середины прошлого столетия, сулили навести новый мост между психическим и физическим – мост, построенный из логики, а не из живой материи. Автоматизация мышления и памяти – вычисление – казалась более перспективным путем. По мере развития систем искусственного интеллекта (ИИ) некоторые из них стали казаться в какой-то степени разумными, но не было никаких оснований считать их живыми. Физические тела, как представлялось, не так уж и нужны разуму, более того, они стали выглядеть вовсе не обязательными. Душой материи стало программное обеспечение: мозг запускает программу, которая в свою очередь запускает другие механизмы (или, напротив, не-механизмы).
В эти же годы обострилась проблема физического и ментального, тела и разума. На смену былой «загадке разума» пришла более специфичная головоломка. В рамках сложившегося недавно нового подхода считается, что какую-то часть разума можно довольно убедительно объяснить с материалистической точки зрения, но зато ряд других его аспектов подобной трактовке не поддается. Прежде всего в этот разряд попадает субъективный опыт, или сознание. Возьмем, к примеру, память. Мы без труда обнаруживаем, что памятью обладают самые разные животные; их мозг регистрирует прошлый опыт и использует его в дальнейшем для выбора подходящего варианта поведения. Не так уж сложно вообразить, как это может быть устроено. Эта проблема еще далеко не решена, но выглядит она абсолютно решаемой; со временем наверняка удастся выяснить, как работает эта сторона памяти. Но люди, однако, не только запоминают свой опыт, но еще и некоторым образом переживают его. Как сказал Томас Нагель в 1974 году, обладать разумом – это на что-то похоже; это как-то ощущается[15 - См. статью Нагеля «What Is It Like to Be a Bat?», The Philosophical Review 83, no. 4 (1974): 435–50. [Русский перевод: Нагель Т. Каково быть летучей мышью? // Глаз разума / Сост.д. Хофштадтер, Д. Деннетт. – Самара: Бахрах-М, 2003. C. 349–360. – Прим. ред.]]. Приятное воспоминание как-то ощущается, и неприятное – тоже. «Обрабатывающая информацию» сторона памяти – способность хранить и извлекать полезное знание – может либо сопровождаться этой добавочной характеристикой, либо нет. Сложная часть проблемы тела-разума – объяснить эту черту нашей психики, растолковать в биологических, физических или же в компьютерных понятиях, каким образом в материальном мире может существовать субъективный опыт.
Эту проблему по-прежнему нередко изучают под одним из привычных углов зрения. Это либо материализм («физикализм»), либо дуализм. Существуют, однако, и более радикальные подходы. Например, панпсихизм утверждает, что психическая сторона присуща любой материи, включая ту, из которой состоят объекты вроде столов[16 - Взгляды Нагеля изложены в эссе «Панпсихизм», опубликованном в его книге «Mortal Questions», (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1979), 181–95. Гален Стросон также горячий приверженец этого подхода; см.: "Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism," Journal of Consciousness Studies 13, no. 10–11 (2006): 3–31. Дэвид Чалмерс больше склоняется к родственному течению, которое он называет «панпротопсихизм»; см.: "Panpsychism and Panprotopsychism," в Consciousness in the Physical World: Perspectives on Russellian Monism, ed. Torin Alter and Yujin Nagasawa (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015). Простое и понятное толкование понятия предложено в интервью Филипа Гоффа Гарету Куку в журнале Scientific American, January 14, 2020, scientificamerican.com/article/does-consciousness-pervade-the-universe (https://scientificamerican.com/article/does-consciousness-pervade-the-universe).]. Не путайте панпсихизм с идеализмом – представлением, согласно которому вся вселенная состоит из субъективного опыта. Панпсихисты принимают физическое существование мира как данность, но добавляют, что материи, из которой мир состоит, неизменно свойственна некая невообразимо простая форма сознания. Именно это свойство материи дает начало субъективному опыту и самосознанию, при условии что некоторая часть этой материи организуется в виде мозга. Несмотря на явную экстравагантность, у панпсихизма есть авторитетные последователи. По мнению Томаса Нагеля, которого я упоминал выше, панпсихизм не стоит сбрасывать со счетов, потому что у каждого подхода к проблеме есть свои собственные недостатки, и недостатки панпсихизма ничем не хуже прочих. Эрнст Геккель, расставшись с батибиусом, тоже склонялся к панпсихизму. Гексли же выбрал другой нетрадиционный подход[17 - Он называется «эпифеноменализм». Гексли изложил свои аргументы в его защиту (которые не всегда легко понять) в заметке 1874 года «О гипотезе, что животные – это автоматы, и о ее истории», см: "On the Hypothesis that Animals Are Automata, and Its History," Collected Essays, vol. 1 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011), 199–250.]. Он предполагал, что сознательный опыт может возникать как продукт материального процесса, но не может выступать его причиной. Это оригинальный подвид дуализма, у которого есть сторонники и в наши дни.
Из приведенной подборки альтернативных взглядов на вселенную, как и из традиционных дискуссий, ясно одно: существует невероятное разнообразие представлений о том, где следует искать разум. Для одних разум повсюду – ну или почти повсюду. Другие считают, что им наделены только люди – и, возможно, кое-какие животные, похожие на нас. Кто-то, глядя на одноклеточную инфузорию, энергично барахтающуюся в пленке воды, скажет: «То, что происходит внутри этого создания, наделяет его чувствами. Инфузория реагирует и стремится к цели. У нее есть опыт, пусть и крайне незначительный». Но другой не просто с ходу откажет инфузории в чувствах, но и, увидев сложно устроенное животное вроде рыбы, произнесет: «Рыба, вероятно, вообще ничего не чувствует. У нее есть рефлексы и инстинкты и какая-то достаточно сложная психическая активность, но большая часть этой активности происходит как бы "в потемках" и не осознается». Если этот второй человек не прав, то почему? И если ни одна песчинка не испытывает ни намека на чувства, а панпсихисты тоже ошибаются, то в чем именно их ошибка? Разве этого не может быть? Часто кажется, что таким рассуждениям не хватает обоснованности, какой-то твердой базы. Люди могут говорить, что им заблагорассудится. Но если бы меня попросили угадать, как мои современники ответят на вопрос, какие живые существа обладают чувственным опытом, то я бы сказал, что самым распространенным ответом будет «да» для млекопитающих и птиц, «может быть» для рыб и рептилий и «нет» для всех прочих. Но вот если кто-то захочет вдруг раздвинуть эти границы (включить, например, муравьев, растения и инфузорий) или сузить их (только до млекопитающих), то дискутирующие быстро потеряют почву под ногами. Как мы вообще можем определить, кто прав?
Это чувство необоснованности сродни тому, что философ Джозеф Левин назвал разрывом в объяснении[18 - См.: "Materialism and Qualia: The Explanatory Gap," Pacific Philosophical Quarterly 64 (1983): 354–61. Гексли иногда приписывают первое обращение к этой проблеме, но я думаю, что он имел в виду нечто менее конкретное: «Почему нечто столь удивительное, как состояние сознания, возникающее в результате раздражения нервной ткани, так же непостижимо, как явление джинна из лампы Аладдина» (Lessons in Elementary Physiology (London: Macmillan, 1866), 193).]. Даже если мы окончательно удостоверимся, что разум должен иметь чисто материальную основу, и ничего больше, мы все равно захотим узнать, почему такое физическое устройство порождает именно такой, а не какой-то другой вид опыта. Почему обладание разумом, которым мы наделены и в котором происходят все те процессы, что происходят в данный конкретный момент, ощущается именно так, а не иначе? Даже если трудности, с которыми сталкиваются другие подходы, убеждают нас в правоте материализма, трудно понять, почему конкретно он прав и почему все устроено именно так, а не как-то по-другому.
К этому-то комплексу проблем я и хочу обратиться в своей книге. Моя цель не предполагает ответа на вопрос Левина о конкретном опыте и выяснения того, какие процессы в мозгу отвечают за различение цветов или ощущение боли. Это задача нейронауки. Я же хочу попытаться понять, почему мы переживаем свое существование, осознаем его, будучи физическими существами, какими мы и являемся. Причем это «мы» следует значительно расширить: меня интересуют не столько особенности человеческого самосознания, сколько опыт в широком смысле, нечто, свойственное и многим другим животным. Я хочу исследовать вопросы переживания опыта так, чтобы приглушить ощущение необоснованности, о котором я писал выше, – чувство, будто можно приписать разум бактерии или отказать в нем птице в зависимости от того, что вам больше нравится.
Исследуя проблему тела-разума, я буду придерживаться биологического подхода, который не противоречит материалистической картине мира. Многие считают, что «материализм» предполагает узко практический и негибкий подход: мир меньше, чем вы думаете, он не настолько удивителен и не так свят; это просто атомы, бьющиеся друг о друга. Сталкивающиеся атомы – это, конечно, важно, но я не собираюсь рассказывать свою историю под гнетом запретов и ограничений. «Физический» или «материальный» мир есть нечто большее, чем соударение частиц и сухие формулы. Это мир энергий, полей и скрытых взаимодействий. Я уверен, он нас еще не раз удивит.
Позиция, которой я придерживаюсь в этой книге, называется биологическим материализмом, но в основе моих убеждений – более широкий подход, который иногда называют монизмом. Монизм утверждает фундаментальное единство в природе[19 - Термин применяется для описания целого ряда родственных философских течений. Геккель тоже называл себя монистом; его панпсихизм был скорее разновидностью монизма. См.: "Our Monism: The Principles of a Consistent, Unitary World-View," The Monist 2, no. 4 (1892): 481–86.]. Материализм же лишь одна из разновидностей монизма, поскольку он ставит во главу угла мысль о том, что все психические феномены, включая субъективный опыт, суть проявление фундаментальных процессов, описанных в биологии, химии и физике. Идеализм – представление, что все сущее вокруг есть идеи, являет еще один вид монизма – он лишь иначе постулирует единство. (Идеалисту нужно как-то объяснить, почему то, что кажется нам физическими объектами и явлениями, на самом деле остается проявлением духа или разума.) Еще один способ быть монистом – считать, что и «физическое», и «психическое» – проявления одной и той же лежащей в их основе реальности; такой подход называется нейтральным монизмом. Вместо того чтобы объяснять психику в терминах физики или физику в терминах психики, мы объясняем и то и другое в терминах чего-то еще. Это «что-то еще» по-прежнему сохраняет налет таинственности. Если бы я не был материалистом, то стал бы нейтральным монистом, хотя это все-таки не моё[20 - Этот вопрос подробнее обсуждается в моей работе «Материализм в прошлом и в настоящем», планирующейся к изданию в сборнике статей, посвященных теории разума Дэвида Армстронга и развитию материализма в XX веке.]. Путь, на который я ступаю, начнется с самих основ жизни – понятой в материалистическом ключе; дальше я попытаюсь показать, как в процессе эволюции живых систем может зародиться разум. Мне хотелось сократить, хотя бы отчасти, разрыв в объяснении физического и психического.
Но, прежде чем начать, давайте присмотримся к психической стороне этой головоломки и к словам, которыми мы ее описываем. Свойство разума, которое пытался определить Нагель, сказав: «Это на что-то похоже…», сегодня обычно называют сознанием. (Сам Нагель тоже так его называл.) В указанном смысле вы обладаете сознанием, если ощущаете, что значит «быть вами». Но термин «сознание» часто сбивает с толку, потому что может показаться, будто он предполагает нечто более сложное. Фраза «нечто, на что похоже…» предполагает наличие неких ощущений. Быть вами – или рыбой, или мотыльком – на что-то похоже, если смутные, едва уловимые волны ощущений являются частью вашей жизни. Тот факт, что в слово «сознание» часто вкладывают более широкий смысл, может нам помешать.
Нейробиологи, например, часто говорят, что сознание возникает в коре больших полушарий, складчатом верхнем отделе головного мозга, который имеется только у млекопитающих и у ряда других позвоночных. В одной из своих статей врач и писатель Оливер Сакс рассказывает о пациенте, который перенес инфекцию мозга, в результате чего потерял всякую способность удерживать в памяти новые события[21 - См.: "The Abyss," The New Yorker, September 24, 2007.]. Сакс спрашивает: «Какая связь существует между, с одной стороны, моделями поведения и процедурной памятью, которые ассоциируются со сравнительно примитивными частями нервной системы, а с другой стороны – сознанием и чувствительностью, которые связаны с корой больших полушарий?» Сакс здесь не только задает вопрос, он еще и делает допущение: сознание и чувствительность связаны с корой больших полушарий. Подразумевает ли Сакс, что если некто или нечто не имеет коры больших полушарий, то у него не будет и сознания во всем его «вот-он-я» богатстве, но при этом такое существо все же сможет иметь какие-то чувства? Или же Сакс думает, что в отсутствие коры свет гаснет полностью и любое лишенное ее создание будет вовсе лишено всякого опыта, даже если оно обладает какими-то моделями поведения? У большинства животных, особенно животных, описанных в этой книге, нет коры больших полушарий. Вопрос стоит следующим образом: их опыт в корне отличается от нашего или же они вообще никакого опыта не имеют?
Некоторые люди действительно думают, что в отсутствие коры больших полушарий невозможен и опыт. Что ж, может, в итоге мы все придем к такому выводу, однако я в этом сомневаюсь[22 - Если не принимать в расчет животных и сосредоточиться исключительно на людях, интересные данные приводит нейроученый Бьёрн Меркер. Он изучал детей, которым приходится жить с тяжелым диагнозом гидранэнцефалии. В этом состоянии кора больших полушарий и многие другие области мозга практически полностью отсутствуют, часто из-за пережитого во внутриутробном периоде инсульта. Эти дети – глубокие инвалиды во многих отношениях, и, скорее всего, им не свойственна психическая жизнь, знакомая большинству из нас. Но неужели у них вообще нет никакого опыта? Меркер считает, что это маловероятно, и доказательство тому – их улыбки и смех, неустойчивая, но очевидная способность взаимодействовать с близкими людьми. Меркер считает, у нас нет оснований полагать, что отсутствие у этих детей коры мозга начисто лишает их переживания опыта. Аргументы Меркера кажутся мне убедительными. С ними можно подробнее ознакомиться в его статье "Consciousness Without a Cerebral Cortex: A Challenge for Neuroscience and Medicine," Behavioral and Brain Sciences 30, no. 1 (2007): 63–81. Антонио Дамасио также утверждает, что переживание опыта не обязательно связано с корой мозга; см.: Damasio and Gil B. Carvalho, "The Nature of Feelings: Evolutionary and Neurobiological Origins," Nature Reviews Neuroscience 14 (2013): 143–52.]. Нам нужно целенаправленно избегать привычки думать, будто все формы опыта должны быть во всех отношениях похожи на человеческий. Когда слово «сознание» используют для описания крайне широкого понятия чувственного опыта, запутаться очень легко. Однако термин «сознание» или какую-нибудь его модификацию («феноменальное сознание») сегодня чаще всего используют именно в этом широком смысле. Ладно, не буду привередничать, тем более что идеальной терминологии не существует. Хотя, наверное, «чувствительность» была бы хорошим термином для отсылки к этой более широкой концепции. Мы могли бы спросить: «Какие животные обладают чувствительностью?» – и это было бы не то же самое, что поинтересоваться, какие из них обладают сознанием. Но «чувствительность» часто употребляют в отношении отдельных видов опыта: удовольствия, боли и близких к ним ощущений, которые могут оцениваться как приятные или неприятные. Этот опыт, безусловно, важен, и, вероятно, есть смысл предполагать, что он может иметь место и в отсутствие высших уровней сознания. Однако не исключено, что это не единственная разновидность элементарного, простого опыта. В последующих главах я рассмотрю вероятность того, что чувственная и оценочная сторона опыта в некотором роде разные вещи: фиксировать то, что происходит, вовсе не то же самое, что оценивать, плохо это или хорошо. Слово «чувствительность» не всегда обозначает чувственный аспект опыта.
Есть еще один, причем довольно неуклюжий, термин – «субъективный опыт». Определение кажется избыточным (разве есть какой-то другой вид опыта?), и от него не произведешь удобного прилагательного вроде «сознающий» или «чувствующий». Но само понятие «субъективный опыт» указывает в верном направлении, обращая к идее субъекта. В каком-то смысле эта книга посвящена эволюции субъективности – что это такое и откуда взялось. Субъект – то место, где размещается опыт.
Иногда я буду говорить исключительно о разуме; думаю, именно это нам предстоит осмыслить в процессе повествования – эволюцию разума и его место во вселенной. Я буду переключаться между терминами без какой-то особой системы. Существующее сегодня понимание еще не позволяет настаивать на выборе конкретного языка.
Теорию, которую я пытаюсь развить, можно описать по-разному, но это непросто, с какой стороны ни посмотри. Своей работой я намереваюсь показать, что совокупность процессов – не психических и не сознательных в своей основе – каким-то образом способна организоваться так, что из нее начинает произрастать чувственный опыт. Иначе говоря, часть бессмысленной активности, которой кишит наша вселенная, как-то складывается в разум.
Дуализм, панпсихизм и многие другие философские течения считают это невозможным: нельзя создать разум – и, уж конечно, разум во всей его полноте – из чего-то другого, из элементов, которые вообще не имеют никакого отношения к психике. Либо разум у нас пронизывает все сущее, либо же его нужно добавить «сверху» – не в буквальном смысле сверху, но приплюсовать к физической системе, которая, в принципе, и без него была бы законченной. Однако я уверен, что создать разум из чего-то иного возможно – такое вполне под силу эволюции. Из слияния и соединения объектов, которые сами по себе неразумны, может появиться разум. Разум – продукт эволюции, порожденный организацией других, неразумных природных элементов. Тема этой книги – зарождение разума.
Я сказал, что разум – продукт эволюции и нечто созданное (something built), но я хочу с самого начала предостеречь от распространенной ошибки. Материалистическое мировоззрение отнюдь не подразумевает, что разум – результат физических процессов, которые происходят в мозге, их следствие или их продукт. (А вот Гексли, кажется, именно так и думал.) Напротив, смысл в том, что опыт и другие психические проявления – по сути своей биологические, то есть физические, процессы определенного рода. Наш мозг есть особая конфигурация материи, а также происходящей в ней энергетической активности. Такое устройство – продукт эволюции; формировалось оно постепенно. Но это устройство и эти процессы не основа разума – именно они и есть разум. Процессы, которые происходят в мозге, не порождают мышление и опыт; они сами – мышление и опыт.
Мне предстоит осуществить проект биологический и материалистический – показать, что описанная выше точка зрения имеет право на существование, и вполне вероятно, что все устроено именно так. Цель моей книги – продвинуться по этому пути как можно дальше. Конечно же, я не надеюсь, что загадка разрешится одним лишь росчерком пера или ответ на нее появится, как кролик из шляпы фокусника. По ходу повествования я хочу наметить перспективный путь, набросать решение, которое в первом приближении сложит три детали головоломки в картину, по моему мнению, имеющую смысл. Однако не на все вопросы найдется ответ, и не все загадки будут решены. А что будет дальше, образно описывает цитата, которая вдохновляла меня все годы моего писательства и которая послужила бы прекрасным эпиграфом к этой книге. Она вышла из-под пера Александра Гротендика, математика:
Море наступает незаметно и тихо; кажется, что ничего не происходит и ничего не меняется. … Но в конце концов оно окружает упрямый объект, который постепенно становится полуостровом, потом островом, затем островком и в итоге полностью уходит под воду, словно растворившись в океане, простирающемся вдаль насколько хватает глаз[23 - Высказывание Гротендика см. в его работе Rеcoltes et Semailles, p. 553, написанной на французском языке. Французский текст выложен на веб-сайте ncatlab.org/nlab/show/Rеcoltes+et+semailles. В дискуссиях чаще всего ссылаются на английский перевод этого отрывка, приведенный в статье Colin McLarty, "The Rising Sea: Grothendieck on Simplicity and Generality," в сборнике Episodes in the History of Recent Algebra (1800–1950), ed. Jeremy J. Gray and Karen Hunger Parshall (Providence, RI: American Mathematical Society, 2007). Перевод, который даю я, несколько отличается (с ним мне помогала Джейн Шелдон). Я не математик и не претендую на развитие математической мысли Гротендика.].
Гротендик работал над крайне абстрактной проблемой – абстрактной даже по стандартам чистой математики. Приведенный выше абзац описывает подход, которого он придерживался в своей области исследований. Кажется, что задачу, стоящую перед нами, не решить обычными методами. Но тогда мы будем решать ее, накапливая знания в смежных областях, надеясь, что в итоге загадка трансформируется и растворится. Задача будет переформулирована и со временем станет постижимой. Образ, который Гротендик выбрал для описания этого процесса, – погружение объекта в воду.
Я держал его в голове довольно долго. Я не считаю, подобно некоторым из философов, что загадки, с которыми мы сталкиваемся, исследуя разум, – чистые иллюзии, разрешить которые можно, всего лишь думая о них иначе. Нам необходимы новые знания. И пока мы их накапливаем, сама проблема меняет форму и исчезает.
Найденный Гротендиком образ кажется таким удачным, что поначалу я даже хотел взять его в качестве эпиграфа. Но сейчас, во времена, когда тающие полярные льды быстро нагревающейся Земли крадут у нас драгоценные тихоокеанские острова, он обрел новые, малоприятные коннотации[24 - Расскажу чуть больше об отрывке из книги Мелвилла, который в итоге послужил эпиграфом к этой книге. Джон Уиклиф, английский богослов XIV века, был одним из первых критиков католической церкви. Он скончался от естественных причин и был похоронен, но тридцать лет спустя папа римский приказал выкопать его прах и сжечь, а пепел выбросить в реку. В первом американском издании «Моби Дика» Мелвилл упоминал на месте Уиклифа (Томаса) Крэнмера. Крэнмер – еще один английский реформатор, живший почти на столетие позже, как раз в эпоху Реформации; его сожгли на костре. Критики считают, что Мелвилл, во исправление ошибки, сам заменил Крэнмера на Уиклифа, который появляется в английской редакции. В английской редакции также отсутствует слово «пантеистический», но в некоторых поздних редакциях оно появляется снова, по сути объединяя английскую и американскую версии. Я благодарен Джону Брайанту за помощь в этом вопросе.]. Теперь мне уже не хочется начинать им книгу. Тем не менее метафора Гротендика по-прежнему направляет ход моих мыслей, а перспектива, описанная в ней, подсказывает, как наилучшим образом выстроить повествование. «Метазоа» подходит к проблеме тела-разума, изучая природу жизни, историю животного мира и образ жизни животных, которые сегодня сосуществуют с нами бок о бок. Изучая животный мир, мы наращиваем знания вокруг центральной проблемы и наблюдаем, как она трансформируется и оседает.
Эта книга – продолжение проекта, начатого в другой моей книге, которая называется «Чужой разум». В ней я изучал эволюционный путь и разум конкретной группы животных – головоногих, в сообщество которых входят и осьминоги. «Чужой разум» начинается с описания встреч с этими животными в воде, во время погружений с аквалангом и маской. Знакомство с осьминогами в их естественной среде обитания, во всей их изменчивой и текучей сложности, пробудило во мне желание понять, что происходит у них в голове. Я принялся изучать их эволюционный путь, который уходит вглубь веков к ключевому событию в истории животных, давнему разветвлению генеалогического древа жизни. Эта развилка, наметившаяся более полумиллиарда лет назад, направила одну ветвь к осьминогу (и не только), а другую – к нам.
Некоторые идеи касательно разума, тела и опыта были очерчены уже в книге «Чужой разум», вдохновленной наблюдениями за осьминогами. Здесь эти идеи будут развиты и дополнены. Это стало возможно благодаря более пристальному вниманию к философским граням проблемы, изучению отдаленных ветвей древа жизни, а также часам погружений и наблюдений за другими нашими меньшими братьями. В «Чужом разуме» я все время возвращался к осьминогам, но в этой книге буду продвигаться вперед в компании других видов; одни находятся ближе к нам на эволюционном древе, а другие – дальше. Для некоторых из них я тоже был существом, за которым они могли наблюдать и узнавать его, для других мое присутствие было лишь смутным сном. К концу книги мы перейдем к изучению наших ближайших родичей, чьи тела и разумы напоминают наши собственные. Но все-таки в моем историческом повествовании основное внимание будет уделено ранним стадиям эволюции, и цель его – понять, как на Земле появился опыт – сначала в воде, а затем на суше.
Таким и будет наше путешествие. Мы пойдем – поползем, полетим, поплывем – сквозь историю животного мира с самого ее начала, следуя по стопам ряда ныне живущих созданий. Мы будем учиться у них, постигая, что ощущают и как функционируют их тела, как они взаимодействуют с миром. С их помощью мы попытаемся понять не только происхождение, но и различные формы субъективности, существующие в наши дни. Я не претендую на то, чтобы объять необъятное и описать все разнообразие животного мира. Я сфокусируюсь на тех его представителях, которые отмечают собой ступени эволюции разума, прежде всего те, на которых он впервые появился. Большая часть этих животных – обитатели морей. Так давайте же спустимся по этим ступеням.
2. Стеклянная губка
Башни
Сад губок обычно начинается на небольшой глубине[25 - Я дал некоторым главам названия, повторяющие названия музыкальных композиций, которые вдохновляли меня в процессе работы над книгой. Название второй главы отсылает к альбому Лорена Шасса и Джима Хейнса (группа «Coelacanth»), вышедшему в 2003 году.], куда легко проникают солнечные лучи, особенно в местах, где ощущается течение. Здесь, где тают краски, открывается вид на заросли неподвижных живых организмов. Одни напоминают чашечки, лампочки, вазы или ветвистые деревья, другие похожи на ручки в толстых варежках – как будто что-то огромное, спрятанное на дне морском, выпростало наружу свои мягкие лапы.
Нежась на мелководье, представьте себе море, которое гораздо холоднее: на сцену ложится тьма, сверху опускаются редкие мерцающие пылинки. На дне океана, в 1000 метров от поверхности, возвышается бледная башня цилиндрической формы примерно 30 сантиметров высотой. Ее окружает группа таких же башенок; все они крепко держатся за дно и немного расширяются кверху, частично приоткрываясь. При такой нежной наружности внутри у каждой губки жесткий каркас, собранный из крошечных деталек. Самые маленькие из них выглядят как звездочки, крючочки и неровные крестики, сплетающиеся в форме башни. Башни держатся за морское дно хрупкими якорьками. Якорьки и крестики состоят из диоксида кремния, из которого делают стекло. Губка, живущая на рифах умеренного климатического пояса или глубоко на дне океана, кажется пассивной и безжизненной, но, если присмотреться, это совсем не так. Стеклянная губка – тихий насос, прокачивающий воду сквозь свое тело. Она ощущает внешнюю среду и реагирует на нее. Тело глубоководной башни – стеклянной губки – проводит свет и электрический заряд, мерцая словно лампочка («эврика!») на дне морском.
Клетка и шторм
Основа эволюции разума – сама жизнь; не все, что с ней связано, не механизм ДНК, но другие ее свойства. Все началось с клетки.
Первобытная жизнь, до появления животных и растений, была одноклеточной. Растения и животные – это огромные конгломераты клеток. Но и до того, как эти конгломераты сформировались, клетки, скорее всего, не были полностью автономными и жили колониями и группами. Тем не менее каждая клетка была отдельной крошечной сущностью.
Клетка ограничена, у нее есть внутреннее пространство и внешний мир. Граница, отделяющая клетку от внешней среды, называется мембраной; она изолирует клетку не полностью: мембрану пронизывают каналы и отверстия. Через границу в обе стороны без остановки транспортируются различные вещества, а внутри клетки кипит бурная деятельность.
Клетка состоит из материи, из набора молекул. Я точно не знаю, что приходит вам на ум при слове «материя», но зачастую оно вызывает образ чего-то инертного и неповоротливого, а на память приходят всякие тяжелые объекты, которые приходится толкать, чтобы сдвинуть с места. В целом на суше и на соразмерном человеку уровне объектов среднего размера типа столов и стульев дела примерно так и обстоят. Но, когда мы думаем о веществе клеток, нам нужно думать иначе.
Внутри клетки события разворачиваются в наномасштабе, где объекты измеряются в миллионных долях миллиметра, а среда, в которой все происходит, – это вода[26 - Большую часть материала следующих двух страниц я почерпнул в книге Питера Хоффмана «Life's Ratchet: How Molecular Machines Extract Order from Chaos» (New York: Basic Books, 2012), а также в следующих статьях: Peter B. Moore, "How Should We Think About the Ribosome?", Annual Review of Biophysics 41 (2012): 1–19, и Derek J. Skillings, "Mechanistic Explanation of Biological Processes," Philosophy of Science 82, no. 5 (2015): 1139–51.]. Материя в этой среде ведет себя иначе, чем в нашем сухом мире объектов среднего размера. На микроуровне активность возникает спонтанно, и подталкивать события не требуется. Говоря словами биофизика Питера Хоффмана, внутри каждой клетки бушует «молекулярный шторм» – бесконечная сумятица столкновений, притяжений и отталкиваний.
Представляя себе клетку, полную замысловатых механизмов со своими функциями, нужно помнить, что эти механизмы безостановочно бомбардируются молекулами воды. Объект внутри клетки сталкивается со стремительными молекулами воды примерно каждую десятитриллионную долю секунды. Это не опечатка; уровень событий в клетке практически невозможно себе представить. Подобные столкновения отнюдь не безобидны: сила каждого превосходит силу, которую способны приложить органеллы клетки. Все, что может сделать в этой ситуации аппарат клетки, так это подтолкнуть события в одном либо в другом направлении, придавая шторму какую-то когерентность.
Вне водной среды шторм тотчас бы прекратился. На воздухе многие из объектов такого масштаба слипаются в комки, но в воде этого не происходит – там они без остановки двигаются, и активность в клетке возникает как бы сама по себе. Как я уже говорил, мы часто думаем о «материи» как о пассивной и инертной. Однако главная проблема, с которой приходится иметь дело клетке, – не подтолкнуть события, но навести в них порядок, установить некий ритм и смысл в их спонтанном потоке. В подобной ситуации материя вовсе не застывает в безделье, напротив, она рискует сделать слишком много; поэтому задача клетки – упорядочить хаос.
Практически все ассоциации, которые привычно приходят нам на ум, когда мы думаем о материи, – ошибочны, если вопрос касается жизни и того, как она могла появиться. Если бы жизни пришлось эволюционировать на суше из составляющих таких габаритов, как стол или стул, то она никогда бы и не возникла. Но ей этого делать не пришлось: жизнь зародилась в воде – скорее всего, в тонкой пленке на ее поверхности, но тем не менее в воде – в попытках укротить молекулярный шторм.
В истории Земли жизнь появилась сравнительно рано; вероятно, это случилось около 3,8 миллиарда лет назад, тогда как сейчас нашей планете уже 4,5 миллиарда лет от роду[27 - Доступный разбор новейших научных взглядов в этой сфере представлен в книге Ника Лейна «The Vital Question: Why Is Life the Way It Is?» (London: Profile, 2015).]. Скорее всего, изначально жизнь была не клеточной, однако все равно должен был найтись какой-то способ удержать, обособить и не дать рассеяться в пространстве некоторой цепи химических превращений. Затем на каком-то этапе появились клетки, поначалу, вероятно, проницаемые и слабо оформленные; со временем, однако, они превратились в нечто вроде бактерий – клеток, которые способны сохранять свою структуру и размножаться.
На этом фоне батибиус казался невероятно многообещающим. Это же чистый образец материи жизни, материи, которая, возможно, возникает спонтанно и непрерывно, образуя постоянно обновляющийся органический ковер, покрывающий морское дно. Были исследованы и другие образцы. Сообщалось, например, что батибиус, взятый со дна Бискайского залива, умел самостоятельно передвигаться. Тем не менее другие биологи скептически отнеслись к этой якобы изначальной форме жизни, вокруг которой сгущался туман предположений и догадок. «Как батибиус выживает на глубине и чем он там питается?» – размышляли они.
В 1870-х годах был дан старт экспедиции «Челленджер» – проекту, организованному Лондонским королевским обществом[12 - На некоторых из наилучших иллюстраций Геккеля изображены представители биологических видов, обнаруженных этой экспедицией; см.: «Art Forms from the Abyss: Ernst Haeckel's Images from the Challenger Expedition», ed. Peter J. le B. Williams et al. (Munich: Prestel, 2015). Эми Райс предполагает, что батибиус все-таки мог быть органическим веществом, скорее всего остатками планктона, но, конечно, не особой формой жизни ("Thomas Henry Huxley and the Strange Case of Bathybius haeckelii; A Possible Alternative Explanation," Archives of Natural History 2 (1983): 169–80).]. За четыре года экспедиция собрала массу проб в сотнях точек океанского дна по всему миру. Перед учеными стояла задача составить первую развернутую опись живых существ, обитающих в глубоких водах. Возглавлявший экспедицию Чарльз Уайвилл Томсон стремился разрешить загадку батибиуса, хотя и относился к нему с недоверием. Несмотря на все усилия, участникам экспедиции не удалось раздобыть никаких новых образцов, и двое ученых на борту судна по зрелом размышлении начали подозревать, что ничего общего с живыми организмами батибиус не имеет. Проведя серию экспериментов, они показали, что нашумевший батибиус, не исключая и самого первого образца, полученного Гексли с фрегата «Циклоп», не что иное, как продукт химической реакции между морской водой и спиртом, который использовался для консервации проб.
Таким образом, батибиус испустил дух. Гексли немедленно признал свою ошибку. К несчастью, Геккель, сильнее увлеченный идеей батибиуса как недостающего звена, упирался еще как минимум десяток лет[13 - См. труд Геккеля "Bathybius and the Moners," Popular Science Monthly 11 (October 1877): 641–52. Здесь он практически слово в слово повторяет за Гексли: «Следовательно, не жизнь есть результат организации – верно обратное».]. И все же этот мостик провалился.
Некоторые ученые какое-то время еще лелеяли надежду отыскать связующее звено подобного типа – особую субстанцию (substance), которая соединит жизнь и материю, но с годами такие идеи теряли популярность. Их заменил постепенный процесс открытий, который со временем разрешил загадку жизнедеятельности организмов. В конце концов объяснение жизни было найдено именно там, где Гексли и Геккель отказались его искать, – в невидимой глазу организации обычной материи.
Как мы увидим далее, упомянутую материю отнюдь не во всех отношениях можно назвать «обычной», но по базовой композиции она действительно самая обыкновенная. Живые организмы состоят из тех же химических элементов, что и все остальное во Вселенной, и ведут себя в соответствии с теми же законами физики, которым подчиняется и царство неживого. Нам до сих пор неизвестно, как зародилась жизнь на Земле, но ее происхождение перестало быть загадкой такого рода, что заставляет нас верить, будто живой мир породила некая особая субстанция.
Это был триумф материалистического взгляда на жизнь – мировоззрения, не допускающего никаких сверхъестественных вмешательств. Столь же триумфально утвердилось и представление о том, что мироздание целиком построено из одних и тех же основных компонентов. Жизнедеятельность организмов теперь следует объяснять не в терминах некоего мистического ингредиента, но в терминах сложной организации на микроскопическом уровне – таком крошечном, что его практически невозможно себе представить. Взять хотя бы рибосомы – это важные для клетки органы, станции, где собираются белковые молекулы. Рибосомы и сами по себе имеют довольно сложное строение, однако на поверхности точки, которая стоит в конце этого предложения, может уместиться больше 100 миллионов рибосом[14 - В заметке "How You Consist of Trillions of Tiny Machines," The New York Review of Books, July 9, 2015, Тим Фланнери пишет: "Не менее 400 миллионов рибосом может уместиться в одной-единственной точке в конце предложения, напечатанного в The New York Review." Четыреста миллионов? Я не мог не попытаться пересчитать заново. Вот результаты моих вычислений. Если сравнивать площадь (проигнорировав наложения и пустое пространство), то диаметр рибосомы эукариотической клетки составляет примерно 25 нанометров – 25 миллионных миллиметра. Круг такого же диаметра имеет площадь примерно 500 нм2. Диаметр точки равен примерно трети миллиметра, а отсюда ее площадь равна примерно 85 миллиардам нм2. Исходя из величины площади, на одну точку придется примерно 170 миллионов рибосом. Учитывая, что точки могут немного отличаться по размеру, а рибосомы могут принимать разные формы, можно утверждать, что наши вычисления в целом верны.].
Жизнь, в общем, нашла свое место в структуре нашего знания. Но если говорить о разуме, тут еще далеко не все понятно.
Разрыв
С конца XIX века и далее, по мере того как революция Дарвина набирала обороты, становилось все сложнее придерживаться дуалистического взгляда на разум, сформулированного Декартом. Дуализм имеет некоторый смысл в рамках общей картины, определяющей человека как уникальную, особенную часть природы, в каком-то смысле приближенную к Богу. При таком подходе все остальное, живое и мертвое, предстает чисто материальным, а вот в нас обнаруживается некий добавочный ингредиент. Придерживаясь эволюционного представления о человечестве, утверждающего неразрывную связь между нами и другими животными, отстаивать дуализм непросто, хотя все-таки возможно. Это, в свою очередь, мотивирует к формированию материалистического представления о разуме, которое могло бы объяснить мышление, память и чувства в терминах физических и химических процессов. Впрочем, несмотря на то что сам факт рассмотрения жизни в материалистических терминах вдохновляет, это отнюдь не означает, что от него будет какой-то толк и в нашем случае, поскольку далеко не ясно, какое отношение успехи материализма в биологии имеют к разгадке тайны разума.
Вновь обратившись к истории, мы можем отыскать два альтернативных подхода, здравствующих и по сей день. Аристотель, как уже было показано, выделял несколько уровней души, присущих растениям, животным и людям. То, что мы называем «разумом», он считал естественным продолжением или разновидностью жизнедеятельности организма. И хотя Аристотель не был эволюционистом, его взгляды довольно легко переформулировать в эволюционных терминах. Эволюция сложных форм жизни естественным образом порождает разум, стимулируя развитие целенаправленных действий и поощряя чувствительность к окружающей среде.
Декарт, напротив, считал, что жизнь – это одно, а разум – совершенно другое. Руководствуясь этим вторым подходом, нет оснований думать, будто прогресс в понимании жизни внесет хоть какой-то вклад в разрешение загадки разума.
На протяжении последнего столетия или около того в этой области преобладали материалистические взгляды, но в одном отношении они все же сдвинулись чуть ближе к представлениям Декарта. С середины ХХ века ученые-теоретики начали отказываться от признания неразрывной связи между жизнью и разумом. Не в последнюю очередь это происходило благодаря появлению компьютеров. Компьютерные технологии, активно развивавшиеся с середины прошлого столетия, сулили навести новый мост между психическим и физическим – мост, построенный из логики, а не из живой материи. Автоматизация мышления и памяти – вычисление – казалась более перспективным путем. По мере развития систем искусственного интеллекта (ИИ) некоторые из них стали казаться в какой-то степени разумными, но не было никаких оснований считать их живыми. Физические тела, как представлялось, не так уж и нужны разуму, более того, они стали выглядеть вовсе не обязательными. Душой материи стало программное обеспечение: мозг запускает программу, которая в свою очередь запускает другие механизмы (или, напротив, не-механизмы).
В эти же годы обострилась проблема физического и ментального, тела и разума. На смену былой «загадке разума» пришла более специфичная головоломка. В рамках сложившегося недавно нового подхода считается, что какую-то часть разума можно довольно убедительно объяснить с материалистической точки зрения, но зато ряд других его аспектов подобной трактовке не поддается. Прежде всего в этот разряд попадает субъективный опыт, или сознание. Возьмем, к примеру, память. Мы без труда обнаруживаем, что памятью обладают самые разные животные; их мозг регистрирует прошлый опыт и использует его в дальнейшем для выбора подходящего варианта поведения. Не так уж сложно вообразить, как это может быть устроено. Эта проблема еще далеко не решена, но выглядит она абсолютно решаемой; со временем наверняка удастся выяснить, как работает эта сторона памяти. Но люди, однако, не только запоминают свой опыт, но еще и некоторым образом переживают его. Как сказал Томас Нагель в 1974 году, обладать разумом – это на что-то похоже; это как-то ощущается[15 - См. статью Нагеля «What Is It Like to Be a Bat?», The Philosophical Review 83, no. 4 (1974): 435–50. [Русский перевод: Нагель Т. Каково быть летучей мышью? // Глаз разума / Сост.д. Хофштадтер, Д. Деннетт. – Самара: Бахрах-М, 2003. C. 349–360. – Прим. ред.]]. Приятное воспоминание как-то ощущается, и неприятное – тоже. «Обрабатывающая информацию» сторона памяти – способность хранить и извлекать полезное знание – может либо сопровождаться этой добавочной характеристикой, либо нет. Сложная часть проблемы тела-разума – объяснить эту черту нашей психики, растолковать в биологических, физических или же в компьютерных понятиях, каким образом в материальном мире может существовать субъективный опыт.
Эту проблему по-прежнему нередко изучают под одним из привычных углов зрения. Это либо материализм («физикализм»), либо дуализм. Существуют, однако, и более радикальные подходы. Например, панпсихизм утверждает, что психическая сторона присуща любой материи, включая ту, из которой состоят объекты вроде столов[16 - Взгляды Нагеля изложены в эссе «Панпсихизм», опубликованном в его книге «Mortal Questions», (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1979), 181–95. Гален Стросон также горячий приверженец этого подхода; см.: "Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism," Journal of Consciousness Studies 13, no. 10–11 (2006): 3–31. Дэвид Чалмерс больше склоняется к родственному течению, которое он называет «панпротопсихизм»; см.: "Panpsychism and Panprotopsychism," в Consciousness in the Physical World: Perspectives on Russellian Monism, ed. Torin Alter and Yujin Nagasawa (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015). Простое и понятное толкование понятия предложено в интервью Филипа Гоффа Гарету Куку в журнале Scientific American, January 14, 2020, scientificamerican.com/article/does-consciousness-pervade-the-universe (https://scientificamerican.com/article/does-consciousness-pervade-the-universe).]. Не путайте панпсихизм с идеализмом – представлением, согласно которому вся вселенная состоит из субъективного опыта. Панпсихисты принимают физическое существование мира как данность, но добавляют, что материи, из которой мир состоит, неизменно свойственна некая невообразимо простая форма сознания. Именно это свойство материи дает начало субъективному опыту и самосознанию, при условии что некоторая часть этой материи организуется в виде мозга. Несмотря на явную экстравагантность, у панпсихизма есть авторитетные последователи. По мнению Томаса Нагеля, которого я упоминал выше, панпсихизм не стоит сбрасывать со счетов, потому что у каждого подхода к проблеме есть свои собственные недостатки, и недостатки панпсихизма ничем не хуже прочих. Эрнст Геккель, расставшись с батибиусом, тоже склонялся к панпсихизму. Гексли же выбрал другой нетрадиционный подход[17 - Он называется «эпифеноменализм». Гексли изложил свои аргументы в его защиту (которые не всегда легко понять) в заметке 1874 года «О гипотезе, что животные – это автоматы, и о ее истории», см: "On the Hypothesis that Animals Are Automata, and Its History," Collected Essays, vol. 1 (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011), 199–250.]. Он предполагал, что сознательный опыт может возникать как продукт материального процесса, но не может выступать его причиной. Это оригинальный подвид дуализма, у которого есть сторонники и в наши дни.
Из приведенной подборки альтернативных взглядов на вселенную, как и из традиционных дискуссий, ясно одно: существует невероятное разнообразие представлений о том, где следует искать разум. Для одних разум повсюду – ну или почти повсюду. Другие считают, что им наделены только люди – и, возможно, кое-какие животные, похожие на нас. Кто-то, глядя на одноклеточную инфузорию, энергично барахтающуюся в пленке воды, скажет: «То, что происходит внутри этого создания, наделяет его чувствами. Инфузория реагирует и стремится к цели. У нее есть опыт, пусть и крайне незначительный». Но другой не просто с ходу откажет инфузории в чувствах, но и, увидев сложно устроенное животное вроде рыбы, произнесет: «Рыба, вероятно, вообще ничего не чувствует. У нее есть рефлексы и инстинкты и какая-то достаточно сложная психическая активность, но большая часть этой активности происходит как бы "в потемках" и не осознается». Если этот второй человек не прав, то почему? И если ни одна песчинка не испытывает ни намека на чувства, а панпсихисты тоже ошибаются, то в чем именно их ошибка? Разве этого не может быть? Часто кажется, что таким рассуждениям не хватает обоснованности, какой-то твердой базы. Люди могут говорить, что им заблагорассудится. Но если бы меня попросили угадать, как мои современники ответят на вопрос, какие живые существа обладают чувственным опытом, то я бы сказал, что самым распространенным ответом будет «да» для млекопитающих и птиц, «может быть» для рыб и рептилий и «нет» для всех прочих. Но вот если кто-то захочет вдруг раздвинуть эти границы (включить, например, муравьев, растения и инфузорий) или сузить их (только до млекопитающих), то дискутирующие быстро потеряют почву под ногами. Как мы вообще можем определить, кто прав?
Это чувство необоснованности сродни тому, что философ Джозеф Левин назвал разрывом в объяснении[18 - См.: "Materialism and Qualia: The Explanatory Gap," Pacific Philosophical Quarterly 64 (1983): 354–61. Гексли иногда приписывают первое обращение к этой проблеме, но я думаю, что он имел в виду нечто менее конкретное: «Почему нечто столь удивительное, как состояние сознания, возникающее в результате раздражения нервной ткани, так же непостижимо, как явление джинна из лампы Аладдина» (Lessons in Elementary Physiology (London: Macmillan, 1866), 193).]. Даже если мы окончательно удостоверимся, что разум должен иметь чисто материальную основу, и ничего больше, мы все равно захотим узнать, почему такое физическое устройство порождает именно такой, а не какой-то другой вид опыта. Почему обладание разумом, которым мы наделены и в котором происходят все те процессы, что происходят в данный конкретный момент, ощущается именно так, а не иначе? Даже если трудности, с которыми сталкиваются другие подходы, убеждают нас в правоте материализма, трудно понять, почему конкретно он прав и почему все устроено именно так, а не как-то по-другому.
К этому-то комплексу проблем я и хочу обратиться в своей книге. Моя цель не предполагает ответа на вопрос Левина о конкретном опыте и выяснения того, какие процессы в мозгу отвечают за различение цветов или ощущение боли. Это задача нейронауки. Я же хочу попытаться понять, почему мы переживаем свое существование, осознаем его, будучи физическими существами, какими мы и являемся. Причем это «мы» следует значительно расширить: меня интересуют не столько особенности человеческого самосознания, сколько опыт в широком смысле, нечто, свойственное и многим другим животным. Я хочу исследовать вопросы переживания опыта так, чтобы приглушить ощущение необоснованности, о котором я писал выше, – чувство, будто можно приписать разум бактерии или отказать в нем птице в зависимости от того, что вам больше нравится.
Исследуя проблему тела-разума, я буду придерживаться биологического подхода, который не противоречит материалистической картине мира. Многие считают, что «материализм» предполагает узко практический и негибкий подход: мир меньше, чем вы думаете, он не настолько удивителен и не так свят; это просто атомы, бьющиеся друг о друга. Сталкивающиеся атомы – это, конечно, важно, но я не собираюсь рассказывать свою историю под гнетом запретов и ограничений. «Физический» или «материальный» мир есть нечто большее, чем соударение частиц и сухие формулы. Это мир энергий, полей и скрытых взаимодействий. Я уверен, он нас еще не раз удивит.
Позиция, которой я придерживаюсь в этой книге, называется биологическим материализмом, но в основе моих убеждений – более широкий подход, который иногда называют монизмом. Монизм утверждает фундаментальное единство в природе[19 - Термин применяется для описания целого ряда родственных философских течений. Геккель тоже называл себя монистом; его панпсихизм был скорее разновидностью монизма. См.: "Our Monism: The Principles of a Consistent, Unitary World-View," The Monist 2, no. 4 (1892): 481–86.]. Материализм же лишь одна из разновидностей монизма, поскольку он ставит во главу угла мысль о том, что все психические феномены, включая субъективный опыт, суть проявление фундаментальных процессов, описанных в биологии, химии и физике. Идеализм – представление, что все сущее вокруг есть идеи, являет еще один вид монизма – он лишь иначе постулирует единство. (Идеалисту нужно как-то объяснить, почему то, что кажется нам физическими объектами и явлениями, на самом деле остается проявлением духа или разума.) Еще один способ быть монистом – считать, что и «физическое», и «психическое» – проявления одной и той же лежащей в их основе реальности; такой подход называется нейтральным монизмом. Вместо того чтобы объяснять психику в терминах физики или физику в терминах психики, мы объясняем и то и другое в терминах чего-то еще. Это «что-то еще» по-прежнему сохраняет налет таинственности. Если бы я не был материалистом, то стал бы нейтральным монистом, хотя это все-таки не моё[20 - Этот вопрос подробнее обсуждается в моей работе «Материализм в прошлом и в настоящем», планирующейся к изданию в сборнике статей, посвященных теории разума Дэвида Армстронга и развитию материализма в XX веке.]. Путь, на который я ступаю, начнется с самих основ жизни – понятой в материалистическом ключе; дальше я попытаюсь показать, как в процессе эволюции живых систем может зародиться разум. Мне хотелось сократить, хотя бы отчасти, разрыв в объяснении физического и психического.
Но, прежде чем начать, давайте присмотримся к психической стороне этой головоломки и к словам, которыми мы ее описываем. Свойство разума, которое пытался определить Нагель, сказав: «Это на что-то похоже…», сегодня обычно называют сознанием. (Сам Нагель тоже так его называл.) В указанном смысле вы обладаете сознанием, если ощущаете, что значит «быть вами». Но термин «сознание» часто сбивает с толку, потому что может показаться, будто он предполагает нечто более сложное. Фраза «нечто, на что похоже…» предполагает наличие неких ощущений. Быть вами – или рыбой, или мотыльком – на что-то похоже, если смутные, едва уловимые волны ощущений являются частью вашей жизни. Тот факт, что в слово «сознание» часто вкладывают более широкий смысл, может нам помешать.
Нейробиологи, например, часто говорят, что сознание возникает в коре больших полушарий, складчатом верхнем отделе головного мозга, который имеется только у млекопитающих и у ряда других позвоночных. В одной из своих статей врач и писатель Оливер Сакс рассказывает о пациенте, который перенес инфекцию мозга, в результате чего потерял всякую способность удерживать в памяти новые события[21 - См.: "The Abyss," The New Yorker, September 24, 2007.]. Сакс спрашивает: «Какая связь существует между, с одной стороны, моделями поведения и процедурной памятью, которые ассоциируются со сравнительно примитивными частями нервной системы, а с другой стороны – сознанием и чувствительностью, которые связаны с корой больших полушарий?» Сакс здесь не только задает вопрос, он еще и делает допущение: сознание и чувствительность связаны с корой больших полушарий. Подразумевает ли Сакс, что если некто или нечто не имеет коры больших полушарий, то у него не будет и сознания во всем его «вот-он-я» богатстве, но при этом такое существо все же сможет иметь какие-то чувства? Или же Сакс думает, что в отсутствие коры свет гаснет полностью и любое лишенное ее создание будет вовсе лишено всякого опыта, даже если оно обладает какими-то моделями поведения? У большинства животных, особенно животных, описанных в этой книге, нет коры больших полушарий. Вопрос стоит следующим образом: их опыт в корне отличается от нашего или же они вообще никакого опыта не имеют?
Некоторые люди действительно думают, что в отсутствие коры больших полушарий невозможен и опыт. Что ж, может, в итоге мы все придем к такому выводу, однако я в этом сомневаюсь[22 - Если не принимать в расчет животных и сосредоточиться исключительно на людях, интересные данные приводит нейроученый Бьёрн Меркер. Он изучал детей, которым приходится жить с тяжелым диагнозом гидранэнцефалии. В этом состоянии кора больших полушарий и многие другие области мозга практически полностью отсутствуют, часто из-за пережитого во внутриутробном периоде инсульта. Эти дети – глубокие инвалиды во многих отношениях, и, скорее всего, им не свойственна психическая жизнь, знакомая большинству из нас. Но неужели у них вообще нет никакого опыта? Меркер считает, что это маловероятно, и доказательство тому – их улыбки и смех, неустойчивая, но очевидная способность взаимодействовать с близкими людьми. Меркер считает, у нас нет оснований полагать, что отсутствие у этих детей коры мозга начисто лишает их переживания опыта. Аргументы Меркера кажутся мне убедительными. С ними можно подробнее ознакомиться в его статье "Consciousness Without a Cerebral Cortex: A Challenge for Neuroscience and Medicine," Behavioral and Brain Sciences 30, no. 1 (2007): 63–81. Антонио Дамасио также утверждает, что переживание опыта не обязательно связано с корой мозга; см.: Damasio and Gil B. Carvalho, "The Nature of Feelings: Evolutionary and Neurobiological Origins," Nature Reviews Neuroscience 14 (2013): 143–52.]. Нам нужно целенаправленно избегать привычки думать, будто все формы опыта должны быть во всех отношениях похожи на человеческий. Когда слово «сознание» используют для описания крайне широкого понятия чувственного опыта, запутаться очень легко. Однако термин «сознание» или какую-нибудь его модификацию («феноменальное сознание») сегодня чаще всего используют именно в этом широком смысле. Ладно, не буду привередничать, тем более что идеальной терминологии не существует. Хотя, наверное, «чувствительность» была бы хорошим термином для отсылки к этой более широкой концепции. Мы могли бы спросить: «Какие животные обладают чувствительностью?» – и это было бы не то же самое, что поинтересоваться, какие из них обладают сознанием. Но «чувствительность» часто употребляют в отношении отдельных видов опыта: удовольствия, боли и близких к ним ощущений, которые могут оцениваться как приятные или неприятные. Этот опыт, безусловно, важен, и, вероятно, есть смысл предполагать, что он может иметь место и в отсутствие высших уровней сознания. Однако не исключено, что это не единственная разновидность элементарного, простого опыта. В последующих главах я рассмотрю вероятность того, что чувственная и оценочная сторона опыта в некотором роде разные вещи: фиксировать то, что происходит, вовсе не то же самое, что оценивать, плохо это или хорошо. Слово «чувствительность» не всегда обозначает чувственный аспект опыта.
Есть еще один, причем довольно неуклюжий, термин – «субъективный опыт». Определение кажется избыточным (разве есть какой-то другой вид опыта?), и от него не произведешь удобного прилагательного вроде «сознающий» или «чувствующий». Но само понятие «субъективный опыт» указывает в верном направлении, обращая к идее субъекта. В каком-то смысле эта книга посвящена эволюции субъективности – что это такое и откуда взялось. Субъект – то место, где размещается опыт.
Иногда я буду говорить исключительно о разуме; думаю, именно это нам предстоит осмыслить в процессе повествования – эволюцию разума и его место во вселенной. Я буду переключаться между терминами без какой-то особой системы. Существующее сегодня понимание еще не позволяет настаивать на выборе конкретного языка.
Теорию, которую я пытаюсь развить, можно описать по-разному, но это непросто, с какой стороны ни посмотри. Своей работой я намереваюсь показать, что совокупность процессов – не психических и не сознательных в своей основе – каким-то образом способна организоваться так, что из нее начинает произрастать чувственный опыт. Иначе говоря, часть бессмысленной активности, которой кишит наша вселенная, как-то складывается в разум.
Дуализм, панпсихизм и многие другие философские течения считают это невозможным: нельзя создать разум – и, уж конечно, разум во всей его полноте – из чего-то другого, из элементов, которые вообще не имеют никакого отношения к психике. Либо разум у нас пронизывает все сущее, либо же его нужно добавить «сверху» – не в буквальном смысле сверху, но приплюсовать к физической системе, которая, в принципе, и без него была бы законченной. Однако я уверен, что создать разум из чего-то иного возможно – такое вполне под силу эволюции. Из слияния и соединения объектов, которые сами по себе неразумны, может появиться разум. Разум – продукт эволюции, порожденный организацией других, неразумных природных элементов. Тема этой книги – зарождение разума.
Я сказал, что разум – продукт эволюции и нечто созданное (something built), но я хочу с самого начала предостеречь от распространенной ошибки. Материалистическое мировоззрение отнюдь не подразумевает, что разум – результат физических процессов, которые происходят в мозге, их следствие или их продукт. (А вот Гексли, кажется, именно так и думал.) Напротив, смысл в том, что опыт и другие психические проявления – по сути своей биологические, то есть физические, процессы определенного рода. Наш мозг есть особая конфигурация материи, а также происходящей в ней энергетической активности. Такое устройство – продукт эволюции; формировалось оно постепенно. Но это устройство и эти процессы не основа разума – именно они и есть разум. Процессы, которые происходят в мозге, не порождают мышление и опыт; они сами – мышление и опыт.
Мне предстоит осуществить проект биологический и материалистический – показать, что описанная выше точка зрения имеет право на существование, и вполне вероятно, что все устроено именно так. Цель моей книги – продвинуться по этому пути как можно дальше. Конечно же, я не надеюсь, что загадка разрешится одним лишь росчерком пера или ответ на нее появится, как кролик из шляпы фокусника. По ходу повествования я хочу наметить перспективный путь, набросать решение, которое в первом приближении сложит три детали головоломки в картину, по моему мнению, имеющую смысл. Однако не на все вопросы найдется ответ, и не все загадки будут решены. А что будет дальше, образно описывает цитата, которая вдохновляла меня все годы моего писательства и которая послужила бы прекрасным эпиграфом к этой книге. Она вышла из-под пера Александра Гротендика, математика:
Море наступает незаметно и тихо; кажется, что ничего не происходит и ничего не меняется. … Но в конце концов оно окружает упрямый объект, который постепенно становится полуостровом, потом островом, затем островком и в итоге полностью уходит под воду, словно растворившись в океане, простирающемся вдаль насколько хватает глаз[23 - Высказывание Гротендика см. в его работе Rеcoltes et Semailles, p. 553, написанной на французском языке. Французский текст выложен на веб-сайте ncatlab.org/nlab/show/Rеcoltes+et+semailles. В дискуссиях чаще всего ссылаются на английский перевод этого отрывка, приведенный в статье Colin McLarty, "The Rising Sea: Grothendieck on Simplicity and Generality," в сборнике Episodes in the History of Recent Algebra (1800–1950), ed. Jeremy J. Gray and Karen Hunger Parshall (Providence, RI: American Mathematical Society, 2007). Перевод, который даю я, несколько отличается (с ним мне помогала Джейн Шелдон). Я не математик и не претендую на развитие математической мысли Гротендика.].
Гротендик работал над крайне абстрактной проблемой – абстрактной даже по стандартам чистой математики. Приведенный выше абзац описывает подход, которого он придерживался в своей области исследований. Кажется, что задачу, стоящую перед нами, не решить обычными методами. Но тогда мы будем решать ее, накапливая знания в смежных областях, надеясь, что в итоге загадка трансформируется и растворится. Задача будет переформулирована и со временем станет постижимой. Образ, который Гротендик выбрал для описания этого процесса, – погружение объекта в воду.
Я держал его в голове довольно долго. Я не считаю, подобно некоторым из философов, что загадки, с которыми мы сталкиваемся, исследуя разум, – чистые иллюзии, разрешить которые можно, всего лишь думая о них иначе. Нам необходимы новые знания. И пока мы их накапливаем, сама проблема меняет форму и исчезает.
Найденный Гротендиком образ кажется таким удачным, что поначалу я даже хотел взять его в качестве эпиграфа. Но сейчас, во времена, когда тающие полярные льды быстро нагревающейся Земли крадут у нас драгоценные тихоокеанские острова, он обрел новые, малоприятные коннотации[24 - Расскажу чуть больше об отрывке из книги Мелвилла, который в итоге послужил эпиграфом к этой книге. Джон Уиклиф, английский богослов XIV века, был одним из первых критиков католической церкви. Он скончался от естественных причин и был похоронен, но тридцать лет спустя папа римский приказал выкопать его прах и сжечь, а пепел выбросить в реку. В первом американском издании «Моби Дика» Мелвилл упоминал на месте Уиклифа (Томаса) Крэнмера. Крэнмер – еще один английский реформатор, живший почти на столетие позже, как раз в эпоху Реформации; его сожгли на костре. Критики считают, что Мелвилл, во исправление ошибки, сам заменил Крэнмера на Уиклифа, который появляется в английской редакции. В английской редакции также отсутствует слово «пантеистический», но в некоторых поздних редакциях оно появляется снова, по сути объединяя английскую и американскую версии. Я благодарен Джону Брайанту за помощь в этом вопросе.]. Теперь мне уже не хочется начинать им книгу. Тем не менее метафора Гротендика по-прежнему направляет ход моих мыслей, а перспектива, описанная в ней, подсказывает, как наилучшим образом выстроить повествование. «Метазоа» подходит к проблеме тела-разума, изучая природу жизни, историю животного мира и образ жизни животных, которые сегодня сосуществуют с нами бок о бок. Изучая животный мир, мы наращиваем знания вокруг центральной проблемы и наблюдаем, как она трансформируется и оседает.
Эта книга – продолжение проекта, начатого в другой моей книге, которая называется «Чужой разум». В ней я изучал эволюционный путь и разум конкретной группы животных – головоногих, в сообщество которых входят и осьминоги. «Чужой разум» начинается с описания встреч с этими животными в воде, во время погружений с аквалангом и маской. Знакомство с осьминогами в их естественной среде обитания, во всей их изменчивой и текучей сложности, пробудило во мне желание понять, что происходит у них в голове. Я принялся изучать их эволюционный путь, который уходит вглубь веков к ключевому событию в истории животных, давнему разветвлению генеалогического древа жизни. Эта развилка, наметившаяся более полумиллиарда лет назад, направила одну ветвь к осьминогу (и не только), а другую – к нам.
Некоторые идеи касательно разума, тела и опыта были очерчены уже в книге «Чужой разум», вдохновленной наблюдениями за осьминогами. Здесь эти идеи будут развиты и дополнены. Это стало возможно благодаря более пристальному вниманию к философским граням проблемы, изучению отдаленных ветвей древа жизни, а также часам погружений и наблюдений за другими нашими меньшими братьями. В «Чужом разуме» я все время возвращался к осьминогам, но в этой книге буду продвигаться вперед в компании других видов; одни находятся ближе к нам на эволюционном древе, а другие – дальше. Для некоторых из них я тоже был существом, за которым они могли наблюдать и узнавать его, для других мое присутствие было лишь смутным сном. К концу книги мы перейдем к изучению наших ближайших родичей, чьи тела и разумы напоминают наши собственные. Но все-таки в моем историческом повествовании основное внимание будет уделено ранним стадиям эволюции, и цель его – понять, как на Земле появился опыт – сначала в воде, а затем на суше.
Таким и будет наше путешествие. Мы пойдем – поползем, полетим, поплывем – сквозь историю животного мира с самого ее начала, следуя по стопам ряда ныне живущих созданий. Мы будем учиться у них, постигая, что ощущают и как функционируют их тела, как они взаимодействуют с миром. С их помощью мы попытаемся понять не только происхождение, но и различные формы субъективности, существующие в наши дни. Я не претендую на то, чтобы объять необъятное и описать все разнообразие животного мира. Я сфокусируюсь на тех его представителях, которые отмечают собой ступени эволюции разума, прежде всего те, на которых он впервые появился. Большая часть этих животных – обитатели морей. Так давайте же спустимся по этим ступеням.
2. Стеклянная губка
Башни
Сад губок обычно начинается на небольшой глубине[25 - Я дал некоторым главам названия, повторяющие названия музыкальных композиций, которые вдохновляли меня в процессе работы над книгой. Название второй главы отсылает к альбому Лорена Шасса и Джима Хейнса (группа «Coelacanth»), вышедшему в 2003 году.], куда легко проникают солнечные лучи, особенно в местах, где ощущается течение. Здесь, где тают краски, открывается вид на заросли неподвижных живых организмов. Одни напоминают чашечки, лампочки, вазы или ветвистые деревья, другие похожи на ручки в толстых варежках – как будто что-то огромное, спрятанное на дне морском, выпростало наружу свои мягкие лапы.
Нежась на мелководье, представьте себе море, которое гораздо холоднее: на сцену ложится тьма, сверху опускаются редкие мерцающие пылинки. На дне океана, в 1000 метров от поверхности, возвышается бледная башня цилиндрической формы примерно 30 сантиметров высотой. Ее окружает группа таких же башенок; все они крепко держатся за дно и немного расширяются кверху, частично приоткрываясь. При такой нежной наружности внутри у каждой губки жесткий каркас, собранный из крошечных деталек. Самые маленькие из них выглядят как звездочки, крючочки и неровные крестики, сплетающиеся в форме башни. Башни держатся за морское дно хрупкими якорьками. Якорьки и крестики состоят из диоксида кремния, из которого делают стекло. Губка, живущая на рифах умеренного климатического пояса или глубоко на дне океана, кажется пассивной и безжизненной, но, если присмотреться, это совсем не так. Стеклянная губка – тихий насос, прокачивающий воду сквозь свое тело. Она ощущает внешнюю среду и реагирует на нее. Тело глубоководной башни – стеклянной губки – проводит свет и электрический заряд, мерцая словно лампочка («эврика!») на дне морском.
Клетка и шторм
Основа эволюции разума – сама жизнь; не все, что с ней связано, не механизм ДНК, но другие ее свойства. Все началось с клетки.
Первобытная жизнь, до появления животных и растений, была одноклеточной. Растения и животные – это огромные конгломераты клеток. Но и до того, как эти конгломераты сформировались, клетки, скорее всего, не были полностью автономными и жили колониями и группами. Тем не менее каждая клетка была отдельной крошечной сущностью.
Клетка ограничена, у нее есть внутреннее пространство и внешний мир. Граница, отделяющая клетку от внешней среды, называется мембраной; она изолирует клетку не полностью: мембрану пронизывают каналы и отверстия. Через границу в обе стороны без остановки транспортируются различные вещества, а внутри клетки кипит бурная деятельность.
Клетка состоит из материи, из набора молекул. Я точно не знаю, что приходит вам на ум при слове «материя», но зачастую оно вызывает образ чего-то инертного и неповоротливого, а на память приходят всякие тяжелые объекты, которые приходится толкать, чтобы сдвинуть с места. В целом на суше и на соразмерном человеку уровне объектов среднего размера типа столов и стульев дела примерно так и обстоят. Но, когда мы думаем о веществе клеток, нам нужно думать иначе.
Внутри клетки события разворачиваются в наномасштабе, где объекты измеряются в миллионных долях миллиметра, а среда, в которой все происходит, – это вода[26 - Большую часть материала следующих двух страниц я почерпнул в книге Питера Хоффмана «Life's Ratchet: How Molecular Machines Extract Order from Chaos» (New York: Basic Books, 2012), а также в следующих статьях: Peter B. Moore, "How Should We Think About the Ribosome?", Annual Review of Biophysics 41 (2012): 1–19, и Derek J. Skillings, "Mechanistic Explanation of Biological Processes," Philosophy of Science 82, no. 5 (2015): 1139–51.]. Материя в этой среде ведет себя иначе, чем в нашем сухом мире объектов среднего размера. На микроуровне активность возникает спонтанно, и подталкивать события не требуется. Говоря словами биофизика Питера Хоффмана, внутри каждой клетки бушует «молекулярный шторм» – бесконечная сумятица столкновений, притяжений и отталкиваний.
Представляя себе клетку, полную замысловатых механизмов со своими функциями, нужно помнить, что эти механизмы безостановочно бомбардируются молекулами воды. Объект внутри клетки сталкивается со стремительными молекулами воды примерно каждую десятитриллионную долю секунды. Это не опечатка; уровень событий в клетке практически невозможно себе представить. Подобные столкновения отнюдь не безобидны: сила каждого превосходит силу, которую способны приложить органеллы клетки. Все, что может сделать в этой ситуации аппарат клетки, так это подтолкнуть события в одном либо в другом направлении, придавая шторму какую-то когерентность.
Вне водной среды шторм тотчас бы прекратился. На воздухе многие из объектов такого масштаба слипаются в комки, но в воде этого не происходит – там они без остановки двигаются, и активность в клетке возникает как бы сама по себе. Как я уже говорил, мы часто думаем о «материи» как о пассивной и инертной. Однако главная проблема, с которой приходится иметь дело клетке, – не подтолкнуть события, но навести в них порядок, установить некий ритм и смысл в их спонтанном потоке. В подобной ситуации материя вовсе не застывает в безделье, напротив, она рискует сделать слишком много; поэтому задача клетки – упорядочить хаос.
Практически все ассоциации, которые привычно приходят нам на ум, когда мы думаем о материи, – ошибочны, если вопрос касается жизни и того, как она могла появиться. Если бы жизни пришлось эволюционировать на суше из составляющих таких габаритов, как стол или стул, то она никогда бы и не возникла. Но ей этого делать не пришлось: жизнь зародилась в воде – скорее всего, в тонкой пленке на ее поверхности, но тем не менее в воде – в попытках укротить молекулярный шторм.
В истории Земли жизнь появилась сравнительно рано; вероятно, это случилось около 3,8 миллиарда лет назад, тогда как сейчас нашей планете уже 4,5 миллиарда лет от роду[27 - Доступный разбор новейших научных взглядов в этой сфере представлен в книге Ника Лейна «The Vital Question: Why Is Life the Way It Is?» (London: Profile, 2015).]. Скорее всего, изначально жизнь была не клеточной, однако все равно должен был найтись какой-то способ удержать, обособить и не дать рассеяться в пространстве некоторой цепи химических превращений. Затем на каком-то этапе появились клетки, поначалу, вероятно, проницаемые и слабо оформленные; со временем, однако, они превратились в нечто вроде бактерий – клеток, которые способны сохранять свою структуру и размножаться.