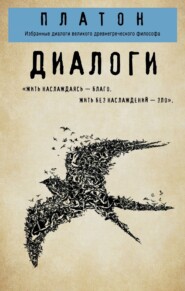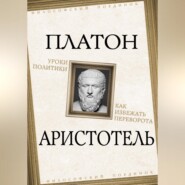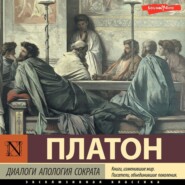По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Федр
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И еще, влюбленных по необходимости замечают, видя, как они и с какою заботливостью следуют за любимцами; так что, когда им случится разговаривать между собой на виду у людей, все думают, что разговор у них либо о прошедшей, либо о будущей страсти; напротив, невлюбленных никто не станет винить за беседу, зная, что нужно же говорить о дружбе или о каком ином удовольствии.
Притом если страшит тебя мысль, что нашей дружбе трудно быть постоянной и что в случае нашего разлада, хотя бы и от другой причины, мы оба подвергнемся неприятностям, то еще более, конечно, должен ты страшиться влюбленных, представляя, что потеря всего для тебя драгоценного нанесет величайший вред тебе одному. Ведь они огорчаются всякой безделицей и думают, что все направлено к их вреду, а потому удаляют своих любимцев от обращения с другими, боясь, что они найдут в ком-нибудь либо богача, который превосходит их своими деньгами, либо ученого, который выше их по уму, – вообще опасаются силы каждого, кто приобрел какое-нибудь благо. Внушая тебе держаться вдали от подобных людей, они ставят тебя вне дружеского общества; а когда ты, имея в виду свое, станешь размышлять лучше их – выйдет размолвка. Напротив, те, которые выиграли желаемое дело не любовью, а добродетелью, не будут завидовать общающимся с тобой людям, а возненавидят не желающих этого в той мысли, что последние оказывают тебе презрение, а первые – услужливость. Следовательно, есть надежда, что отсюда произойдет гораздо более дружеских, чем враждебных чувств.
Сверх того, многие из влюбленных обретают страсть к телу, прежде чем узнали нрав и разведали о других свойствах, так что им еще не известно, захотят ли они остаться друзьями и тогда, когда страсть умолкнет. Что же касается до невлюбленных, то и прежде, будучи дружны, они делали это; а потому невероятно, чтобы их дружбу уменьшило такое дело, из которого для них проистекает удовольствие, скорее она останется памятником для будущего.
К тому ж, вверившись мне, ты, должно быть, сделаешься лучше, чем вверившись влюбленному; потому что влюбленные кроме истинно хорошего хвалят всякое слово и дело, частично из боязни быть отвергнутыми, а частично оттого, что под влиянием страсти и сами-то хуже понимают.
Ведь любовь показывает вещи так: несчастным она представляет в мрачном виде и то, что в других не возбуждает никакой скорби, а счастливых заставляет хвалить и не достойное удовольствия. Посему о любимых гораздо приличнее жалеть, чем завидовать им.
Если же ты вверишься мне, то я буду обращаться с тобой не служа только настоящему удовольствию, но думая и о будущей пользе, не подчиняясь любви, но владея собой, не ссорясь особо из-за безделицы но гневаясь легко и лениво даже за проступки важные прощая невольные преступления и стараясь отклонить от произвольных. Все это будет ручаться за долговременность нашей дружбы.
Если же тебе кажется, что дружба не может быть прочна без любви, то заметь, что мы не дорожили бы, следовательно, ни сыновьями, ни отцами, ни матерями и не имели бы верных друзей, с которыми соединяемся не этою страстью, а иными отношениями.
Притом если должно быть благосклонным особенно к людям, имеющим нужду, то из прочих приличнее делать добро не самым лучшим, а тем, которые более нуждаются, потому что за избавление себя от величайшего зла они воздадут и величайшую благодарность. Стало быть, на частный праздник надобно приглашать не друзей, а просителей и людей, имеющих нужду в утолении голода: они будут и ласкать тебя, и ухаживать за тобой, и провожать тебя до дверей, и обнаруживать тебе свое удовольствие, и выражать немалую благодарность, и желать всех благ.
Впрочем, следует быть благосклонным к людям, может быть, не слишком нуждающимся, а к тем, которые имеют более возможности благодарить тебя, не к любящим только, а к стоящим дела, и не к тем, которые будут наслаждаться твоей красотою, а к тем, которые поделятся с тобой своим имуществом, когда ты постареешь. Это не те, что, сделавши дело, будут хвастаться перед другими, а те, что, удерживаясь стыдом, постараются перед всеми хранить молчание. Это не кратковременные твои угодники, а друзья – неизменные и на всю жизнь. Оставив страсть, они не будут искать предлога к ссоре, но станут проявлять свою добродетель и тогда, когда красота увянет.
Помня все доселе сказанное, заметь и то, что влюбленных друзья вразумляют, так как они позволяют себе действительно злое дело; а невлюбленных никто из домашних и никогда не бранит, что будто бы этим они делают себе зло.
Может быть, ты спросишь меня, всем ли невлюбленным я тебе советую оказывать благосклонность; но ведь и влюбленный, думаю, не приказывает тебе быть одинаково расположенным ко всем влюбленным, потому что и здравое размышление не позволяет почитать каждого достойным равной благосклонности, да и невозможно тебе успеть в своем желании скрыться от других. Надобно, чтобы из этого дела не вытекало никакого вреда и чтобы польза была обоюдная.
Теперь я сказал все, что, по моему мнению, сказать надлежало; если же ты желаешь еще чего, что почитаешь пропущенным, то спрашивай.
Что, Сократ, как тебе кажется речь? Не правда ли, что чрезвычайная по всему, а особенно со стороны языка?
Сократ. Чудесная, друг мой, я поражен, и притом глядя на тебя, Федр, смотря, как ты во время чтения будто бы таял от чтения. Будучи уверен, что такие вещи известнее тебе, чем мне, я следовал за тобой; а следуя за твоей восторженной головой, и сам приходил в восторг.
Федр. Ну, ты, уж кажется, шутишь?
Сократ. Как думаешь, я шучу, а не серьезно говорю?
Федр. Вовсе нет, Сократ. Но, ради Зевса, покровителя дружбы, скажи по правде, кажется ли тебе, что ктонибудь другой из греков может рассуждать о том же предмете более и лучше?
Сократ. Что? Значит, я и ты должны теперь хвалить эту речь уже не за одну ясность, круглоту и точность выражений, но и за то, что писатель сказал в ней все нужное? Если надобно, доставим тебе это удовольствие, хотя последнего свойства в ней я, по своему тупоумию, не заметил. Ведь мое внимание, действительно, было обращено на одну ораторскую ее сторону, а в этом-то отношении и сам Лисий, думаю, не признал бы себя достаточным. Да и действительно, мне показалось, Федр, если ты не иначе понимаешь дело, что Лисий об одном и том же говорит два-три раза, значит, он не слишком способен рассуждать об одном и том же много или, быть может, он просто не заботился об этом. По-видимому, он забавлялся, стараясь показать, что умеет об одном и том же говорить и так, и иначе, и в обоих случаях отлично.
Федр. Пустяки, Сократ; это-то особенно и следует взять в расчет. Лисий в своем предмете не упустил из виду ничего, о чем стоило сказать; так что к сказанному им невозможно прибавить что-либо иное, достойное большей и длиннейшей речи.
Сократ. Все еще не могу поверить тебе. Если я соглашусь с тобой, то меня обличат мудрые мужчины и женщины древности, говорившие и писавшие о том же предмете.
Федр. Кто же это? Где ты слышал что-нибудь лучше этого?
Сократ. Вдруг теперь сказать не могу; но явно, что от кого-то слышал – либо от прекрасной Сапфо, либо от мудрого Анакреонта[1 - Греческие поэты.], либо от какого-нибудь повествователя. Но к чему догадки? Грудь моя как-то полна, почтеннейший, и я чувствую, что сам, кроме сказанного, могу сказать иное и не хуже. А так как самому мне никогда бы не придумать подобных мыслей – это дело известное, сознаюсь в своем невежестве, – то остается, думаю, заключить, что я почерпнул их из каких-то чужих источников и через слух влил их в себя, как в сосуд, а потом, по тупости памяти, и забыл, как и от кого слышал их.
Федр. Прекрасно сказано, благороднейший человек. Но если, несмотря на мою просьбу, ты не можешь припомнить, от кого и как слышал свои мысли, то сделай же, что говоришь: обещай, не повторяя написанного в этом свитке, сказать о том же предмете иное, что было бы лучше и не менее; а я обещаю, по примеру девяти архонтов, поставить в Дельфах золотое, во весь рост изображение не только самого себя, но и тебя.
Сократ. Ты прелюбезный и как будто в самом деле золотой Федр, когда понимаешь мои слова так, что Лисий во всем ошибся и что вместо всего этого можно сказать другое. Такой неудачи не случается, думаю, и с самым плохим писателем. Пример тут же, в самом содержании речи. Кто говорит, что лучше быть благосклонным к нелюбящему, нежели к любящему, тот упустит ли, думаешь, из виду хвалить благоразумие одного и порицать безумие другого? Ведь это необходимо, и неужели тут можно высказать нечто иное? Нет, я полагаю, что это-то надобно допустить и простить говорящему. В подобных речах должно хвалить не изобретение, а расположение; напротив, где такой необходимости не представляется и где изобретение было трудно, там кроме расположения ценится и изобретение.
Федр. Соглашаюсь с твоим мнением, потому что ты говоришь последовательно. Скажу же и я так: даю тебе предложение, что любящий страдает более нелюбящего, и если ты скажешь об этом что-нибудь иное, большее и достойное большего развития, чем сказал Лисий, то стоять тебе вычеканенным в Олимпии, близ священного приношения Кипселидов.
Сократ. Ты серьезничаешь, Федр, полагая, что я, по поводу твоей любви, решился шутить над тобой; ты таки думаешь, что я и в самом деле намерен сказать нечто другое, более разнообразное, чем сказал мудрый Лисий.
Федр. Что касается до этого, друг мой, то ты попал в свою же ловушку: тебе не остается ничего более, как говорить сколько можешь. А чтобы избавиться от необходимости вымышлять грубые остроты комиков и обмениваться ими, то поберегись и не заставляй меня повторить собственные твои слова: Если я, Сократ, не знаю Сократа, то забыл и себя, также: Хотел бы говорить, да жеманится. Подумай-ка, ведь мы не уйдем отсюда, пока ты не выскажешь всего, чем, как признался, полна твоя грудь. Здесь мы одни в пустом месте; я сильнее и моложе тебя – так из всего этого ты поймешь смысл моих слов. Не дожидайся же принуждения, лучше говори по собственной охоте.
Сократ. Ох, почтеннейший Федр! Ведь я покажусь смешным, когда со своим простоумием и без приготовления буду состязаться с отличным писателем.
Федр. Знаешь ли что? Перестань притворяться передо мной, ведь у меня есть нечто, что заставит тебя говорить.
Сократ. Ты не скажешь такого.
Федр. Так скажу же, вот тебе честное слово! Даже клянусь тебе кем? Которым богом? Ну хочешь – этим платаном, а? Не произнеси ты речи в сравнение с Лисиевой – никогда никакой другой и ничьей не покажу тебе и не прочитаю.
Сократ. Ах злодей! Умел же найти средство заставить любителя речей исполнять свою волю!
Федр. Ну как еще увернешься?
Сократ. Как более, если уж ты так поклялся? Могу ли удержаться от такого лакомства?
Федр. Говори же.
Сократ. Знаешь ли, что я сделаю?
Федр. Что такое?
Сократ. Буду говорить закрыв глаза, чтобы как можно скорее закончить и чтобы, не смотря на тебя, не заикаться от стыда.
Федр. Только говори, а там делай что хочешь.
Сократ. Придите же, о музы Лигурии, получившие это прозвание либо от вида своих песнопений, либо от музыкального поколения лигуров, придите и помогите мне начать свое слово, к произнесению которого принуждает меня этот превосходный человек. Пусть друг его, и прежде казавшийся ему мудрым, теперь покажется еще мудрее.
Итак, был себе мальчик или, лучше, изнеженный ребенок, очень красивый. Его окружало великое число друзей, из которых один отличался особенной хитростью. Любя мальчика, как и другие, он уверял, что не любит его, и однажды начал доказывать, что к нелюбящему надо иметь больше благосклонности, чем к любящему. Вот что говорил он:
Людям, приступающим с размышлением к какомунибудь совещанию, мальчик мой, всегда необходимо для начала узнать, о чем будет совещание, а иначе погрешности неизбежны. Между тем многие и не замечают, что им неизвестно существо каждого из предметов. Почитая себя знатоками, они не хотят при самом начале понять силу вопроса и оттого впоследствии расплачиваются, то есть бывают не согласны ни с самими собой, ни с другими. Итак, я и ты не должны подвергаться тому, в чем упрекаем прочих, но, когда предложен нам вопрос, кого лучше избрать себе другом – любящего или нелюбящего, мы обязаны наперед условиться в понятии, что такое любовь и в чем состоит она, а потом, приняв это понятие за основание, смотря и ссылаясь на него, исследовать, полезна ли она или вредна.
Всякий знает, что любовь есть некоторая страсть; известно также, что страсть к прекрасному свойственна и нелюбящему; итак, чем отличить любящего от нелюбящего? Надобно заметить, что в каждом из нас есть господствующие и руководительные идеи, вождению которых мы повинуемся: одна – врожденная страсть к удовольствиям, другая – приобретенное мнение, влекущее к наилучшему. Эти идеи у нас бывают то согласны, то враждебны между собой, и иногда одна из них берет перевес, иногда другая. Если пересиливает мнение и разумно ведет человека к наилучшему, то такому перевесу мы даем имя рассудительности, а когда овладевает им страсть и бессмысленно влечет его к удовольствиям, управляющую им силу называем необузданностью. Впрочем, необузданность имеет много названий, потому что она многочисленна и разновидна; и какой из ее видов в человеке особенно проявляется, такое получает он и имя, а названия хорошего и почтенного не удостаивается. Например, страсть к еде, получая перевес над расположением к наилучшему и над всеми другими страстями, называется обжорством и сообщает свое имя тому, кто ее имеет. Явно также, какое название дает человеку господствующая страсть к пьянству, когда она управляет им. Вообще очевидно, каковы должны быть имена родственных с этими страстей, когда какая-нибудь из них становится владычествующей.
Причина, почему предварительно говорится обо всем этом, явствует почти сама собой: сказанное как-то яснее того, что не сказано. Страсть, чуждая ума и получившая перевес над мнением, стремящимся к правому; страсть, влекущаяся к удовольствию красоты и сильно укрепляющаяся от течения в нее других, сродных с нею страстей, направленных к красоте телесной; страсть, побеждающая вождением и заимствовавшая свое имя от самой силы, – эта страсть есть любовь.
Не замечаешь ли и ты, любезный Федр, как я, что во мне действует божественное вдохновение?
Федр. В самом деле, Сократ, ты, против обыкновения, так и увлекаешься каким-то потоком речи.
Сократ. Слушай же меня и молчи. Видимо, это место действительно священное, а потому не удивляйся, если во время своей речи и я часто буду пленником нимфы. Ведь и теперь-то сказанное почти уже звучит дифирамбом.
Федр. Весьма справедливо.
Сократ. А все ты причиной. Однако ж слушай далее, иначе наитие, пожалуй, и оставит меня. Да об этом пусть печется бог, а мое дело – продолжать беседу с мальчиком:
Хорошо, мой милый; теперь предмет нашего совещания высказан и определен. Будем же, смотря на него, говорить о прочем, то есть что полезного или вредного получит от любящего и от нелюбящего тот, кто им уступает?
Притом если страшит тебя мысль, что нашей дружбе трудно быть постоянной и что в случае нашего разлада, хотя бы и от другой причины, мы оба подвергнемся неприятностям, то еще более, конечно, должен ты страшиться влюбленных, представляя, что потеря всего для тебя драгоценного нанесет величайший вред тебе одному. Ведь они огорчаются всякой безделицей и думают, что все направлено к их вреду, а потому удаляют своих любимцев от обращения с другими, боясь, что они найдут в ком-нибудь либо богача, который превосходит их своими деньгами, либо ученого, который выше их по уму, – вообще опасаются силы каждого, кто приобрел какое-нибудь благо. Внушая тебе держаться вдали от подобных людей, они ставят тебя вне дружеского общества; а когда ты, имея в виду свое, станешь размышлять лучше их – выйдет размолвка. Напротив, те, которые выиграли желаемое дело не любовью, а добродетелью, не будут завидовать общающимся с тобой людям, а возненавидят не желающих этого в той мысли, что последние оказывают тебе презрение, а первые – услужливость. Следовательно, есть надежда, что отсюда произойдет гораздо более дружеских, чем враждебных чувств.
Сверх того, многие из влюбленных обретают страсть к телу, прежде чем узнали нрав и разведали о других свойствах, так что им еще не известно, захотят ли они остаться друзьями и тогда, когда страсть умолкнет. Что же касается до невлюбленных, то и прежде, будучи дружны, они делали это; а потому невероятно, чтобы их дружбу уменьшило такое дело, из которого для них проистекает удовольствие, скорее она останется памятником для будущего.
К тому ж, вверившись мне, ты, должно быть, сделаешься лучше, чем вверившись влюбленному; потому что влюбленные кроме истинно хорошего хвалят всякое слово и дело, частично из боязни быть отвергнутыми, а частично оттого, что под влиянием страсти и сами-то хуже понимают.
Ведь любовь показывает вещи так: несчастным она представляет в мрачном виде и то, что в других не возбуждает никакой скорби, а счастливых заставляет хвалить и не достойное удовольствия. Посему о любимых гораздо приличнее жалеть, чем завидовать им.
Если же ты вверишься мне, то я буду обращаться с тобой не служа только настоящему удовольствию, но думая и о будущей пользе, не подчиняясь любви, но владея собой, не ссорясь особо из-за безделицы но гневаясь легко и лениво даже за проступки важные прощая невольные преступления и стараясь отклонить от произвольных. Все это будет ручаться за долговременность нашей дружбы.
Если же тебе кажется, что дружба не может быть прочна без любви, то заметь, что мы не дорожили бы, следовательно, ни сыновьями, ни отцами, ни матерями и не имели бы верных друзей, с которыми соединяемся не этою страстью, а иными отношениями.
Притом если должно быть благосклонным особенно к людям, имеющим нужду, то из прочих приличнее делать добро не самым лучшим, а тем, которые более нуждаются, потому что за избавление себя от величайшего зла они воздадут и величайшую благодарность. Стало быть, на частный праздник надобно приглашать не друзей, а просителей и людей, имеющих нужду в утолении голода: они будут и ласкать тебя, и ухаживать за тобой, и провожать тебя до дверей, и обнаруживать тебе свое удовольствие, и выражать немалую благодарность, и желать всех благ.
Впрочем, следует быть благосклонным к людям, может быть, не слишком нуждающимся, а к тем, которые имеют более возможности благодарить тебя, не к любящим только, а к стоящим дела, и не к тем, которые будут наслаждаться твоей красотою, а к тем, которые поделятся с тобой своим имуществом, когда ты постареешь. Это не те, что, сделавши дело, будут хвастаться перед другими, а те, что, удерживаясь стыдом, постараются перед всеми хранить молчание. Это не кратковременные твои угодники, а друзья – неизменные и на всю жизнь. Оставив страсть, они не будут искать предлога к ссоре, но станут проявлять свою добродетель и тогда, когда красота увянет.
Помня все доселе сказанное, заметь и то, что влюбленных друзья вразумляют, так как они позволяют себе действительно злое дело; а невлюбленных никто из домашних и никогда не бранит, что будто бы этим они делают себе зло.
Может быть, ты спросишь меня, всем ли невлюбленным я тебе советую оказывать благосклонность; но ведь и влюбленный, думаю, не приказывает тебе быть одинаково расположенным ко всем влюбленным, потому что и здравое размышление не позволяет почитать каждого достойным равной благосклонности, да и невозможно тебе успеть в своем желании скрыться от других. Надобно, чтобы из этого дела не вытекало никакого вреда и чтобы польза была обоюдная.
Теперь я сказал все, что, по моему мнению, сказать надлежало; если же ты желаешь еще чего, что почитаешь пропущенным, то спрашивай.
Что, Сократ, как тебе кажется речь? Не правда ли, что чрезвычайная по всему, а особенно со стороны языка?
Сократ. Чудесная, друг мой, я поражен, и притом глядя на тебя, Федр, смотря, как ты во время чтения будто бы таял от чтения. Будучи уверен, что такие вещи известнее тебе, чем мне, я следовал за тобой; а следуя за твоей восторженной головой, и сам приходил в восторг.
Федр. Ну, ты, уж кажется, шутишь?
Сократ. Как думаешь, я шучу, а не серьезно говорю?
Федр. Вовсе нет, Сократ. Но, ради Зевса, покровителя дружбы, скажи по правде, кажется ли тебе, что ктонибудь другой из греков может рассуждать о том же предмете более и лучше?
Сократ. Что? Значит, я и ты должны теперь хвалить эту речь уже не за одну ясность, круглоту и точность выражений, но и за то, что писатель сказал в ней все нужное? Если надобно, доставим тебе это удовольствие, хотя последнего свойства в ней я, по своему тупоумию, не заметил. Ведь мое внимание, действительно, было обращено на одну ораторскую ее сторону, а в этом-то отношении и сам Лисий, думаю, не признал бы себя достаточным. Да и действительно, мне показалось, Федр, если ты не иначе понимаешь дело, что Лисий об одном и том же говорит два-три раза, значит, он не слишком способен рассуждать об одном и том же много или, быть может, он просто не заботился об этом. По-видимому, он забавлялся, стараясь показать, что умеет об одном и том же говорить и так, и иначе, и в обоих случаях отлично.
Федр. Пустяки, Сократ; это-то особенно и следует взять в расчет. Лисий в своем предмете не упустил из виду ничего, о чем стоило сказать; так что к сказанному им невозможно прибавить что-либо иное, достойное большей и длиннейшей речи.
Сократ. Все еще не могу поверить тебе. Если я соглашусь с тобой, то меня обличат мудрые мужчины и женщины древности, говорившие и писавшие о том же предмете.
Федр. Кто же это? Где ты слышал что-нибудь лучше этого?
Сократ. Вдруг теперь сказать не могу; но явно, что от кого-то слышал – либо от прекрасной Сапфо, либо от мудрого Анакреонта[1 - Греческие поэты.], либо от какого-нибудь повествователя. Но к чему догадки? Грудь моя как-то полна, почтеннейший, и я чувствую, что сам, кроме сказанного, могу сказать иное и не хуже. А так как самому мне никогда бы не придумать подобных мыслей – это дело известное, сознаюсь в своем невежестве, – то остается, думаю, заключить, что я почерпнул их из каких-то чужих источников и через слух влил их в себя, как в сосуд, а потом, по тупости памяти, и забыл, как и от кого слышал их.
Федр. Прекрасно сказано, благороднейший человек. Но если, несмотря на мою просьбу, ты не можешь припомнить, от кого и как слышал свои мысли, то сделай же, что говоришь: обещай, не повторяя написанного в этом свитке, сказать о том же предмете иное, что было бы лучше и не менее; а я обещаю, по примеру девяти архонтов, поставить в Дельфах золотое, во весь рост изображение не только самого себя, но и тебя.
Сократ. Ты прелюбезный и как будто в самом деле золотой Федр, когда понимаешь мои слова так, что Лисий во всем ошибся и что вместо всего этого можно сказать другое. Такой неудачи не случается, думаю, и с самым плохим писателем. Пример тут же, в самом содержании речи. Кто говорит, что лучше быть благосклонным к нелюбящему, нежели к любящему, тот упустит ли, думаешь, из виду хвалить благоразумие одного и порицать безумие другого? Ведь это необходимо, и неужели тут можно высказать нечто иное? Нет, я полагаю, что это-то надобно допустить и простить говорящему. В подобных речах должно хвалить не изобретение, а расположение; напротив, где такой необходимости не представляется и где изобретение было трудно, там кроме расположения ценится и изобретение.
Федр. Соглашаюсь с твоим мнением, потому что ты говоришь последовательно. Скажу же и я так: даю тебе предложение, что любящий страдает более нелюбящего, и если ты скажешь об этом что-нибудь иное, большее и достойное большего развития, чем сказал Лисий, то стоять тебе вычеканенным в Олимпии, близ священного приношения Кипселидов.
Сократ. Ты серьезничаешь, Федр, полагая, что я, по поводу твоей любви, решился шутить над тобой; ты таки думаешь, что я и в самом деле намерен сказать нечто другое, более разнообразное, чем сказал мудрый Лисий.
Федр. Что касается до этого, друг мой, то ты попал в свою же ловушку: тебе не остается ничего более, как говорить сколько можешь. А чтобы избавиться от необходимости вымышлять грубые остроты комиков и обмениваться ими, то поберегись и не заставляй меня повторить собственные твои слова: Если я, Сократ, не знаю Сократа, то забыл и себя, также: Хотел бы говорить, да жеманится. Подумай-ка, ведь мы не уйдем отсюда, пока ты не выскажешь всего, чем, как признался, полна твоя грудь. Здесь мы одни в пустом месте; я сильнее и моложе тебя – так из всего этого ты поймешь смысл моих слов. Не дожидайся же принуждения, лучше говори по собственной охоте.
Сократ. Ох, почтеннейший Федр! Ведь я покажусь смешным, когда со своим простоумием и без приготовления буду состязаться с отличным писателем.
Федр. Знаешь ли что? Перестань притворяться передо мной, ведь у меня есть нечто, что заставит тебя говорить.
Сократ. Ты не скажешь такого.
Федр. Так скажу же, вот тебе честное слово! Даже клянусь тебе кем? Которым богом? Ну хочешь – этим платаном, а? Не произнеси ты речи в сравнение с Лисиевой – никогда никакой другой и ничьей не покажу тебе и не прочитаю.
Сократ. Ах злодей! Умел же найти средство заставить любителя речей исполнять свою волю!
Федр. Ну как еще увернешься?
Сократ. Как более, если уж ты так поклялся? Могу ли удержаться от такого лакомства?
Федр. Говори же.
Сократ. Знаешь ли, что я сделаю?
Федр. Что такое?
Сократ. Буду говорить закрыв глаза, чтобы как можно скорее закончить и чтобы, не смотря на тебя, не заикаться от стыда.
Федр. Только говори, а там делай что хочешь.
Сократ. Придите же, о музы Лигурии, получившие это прозвание либо от вида своих песнопений, либо от музыкального поколения лигуров, придите и помогите мне начать свое слово, к произнесению которого принуждает меня этот превосходный человек. Пусть друг его, и прежде казавшийся ему мудрым, теперь покажется еще мудрее.
Итак, был себе мальчик или, лучше, изнеженный ребенок, очень красивый. Его окружало великое число друзей, из которых один отличался особенной хитростью. Любя мальчика, как и другие, он уверял, что не любит его, и однажды начал доказывать, что к нелюбящему надо иметь больше благосклонности, чем к любящему. Вот что говорил он:
Людям, приступающим с размышлением к какомунибудь совещанию, мальчик мой, всегда необходимо для начала узнать, о чем будет совещание, а иначе погрешности неизбежны. Между тем многие и не замечают, что им неизвестно существо каждого из предметов. Почитая себя знатоками, они не хотят при самом начале понять силу вопроса и оттого впоследствии расплачиваются, то есть бывают не согласны ни с самими собой, ни с другими. Итак, я и ты не должны подвергаться тому, в чем упрекаем прочих, но, когда предложен нам вопрос, кого лучше избрать себе другом – любящего или нелюбящего, мы обязаны наперед условиться в понятии, что такое любовь и в чем состоит она, а потом, приняв это понятие за основание, смотря и ссылаясь на него, исследовать, полезна ли она или вредна.
Всякий знает, что любовь есть некоторая страсть; известно также, что страсть к прекрасному свойственна и нелюбящему; итак, чем отличить любящего от нелюбящего? Надобно заметить, что в каждом из нас есть господствующие и руководительные идеи, вождению которых мы повинуемся: одна – врожденная страсть к удовольствиям, другая – приобретенное мнение, влекущее к наилучшему. Эти идеи у нас бывают то согласны, то враждебны между собой, и иногда одна из них берет перевес, иногда другая. Если пересиливает мнение и разумно ведет человека к наилучшему, то такому перевесу мы даем имя рассудительности, а когда овладевает им страсть и бессмысленно влечет его к удовольствиям, управляющую им силу называем необузданностью. Впрочем, необузданность имеет много названий, потому что она многочисленна и разновидна; и какой из ее видов в человеке особенно проявляется, такое получает он и имя, а названия хорошего и почтенного не удостаивается. Например, страсть к еде, получая перевес над расположением к наилучшему и над всеми другими страстями, называется обжорством и сообщает свое имя тому, кто ее имеет. Явно также, какое название дает человеку господствующая страсть к пьянству, когда она управляет им. Вообще очевидно, каковы должны быть имена родственных с этими страстей, когда какая-нибудь из них становится владычествующей.
Причина, почему предварительно говорится обо всем этом, явствует почти сама собой: сказанное как-то яснее того, что не сказано. Страсть, чуждая ума и получившая перевес над мнением, стремящимся к правому; страсть, влекущаяся к удовольствию красоты и сильно укрепляющаяся от течения в нее других, сродных с нею страстей, направленных к красоте телесной; страсть, побеждающая вождением и заимствовавшая свое имя от самой силы, – эта страсть есть любовь.
Не замечаешь ли и ты, любезный Федр, как я, что во мне действует божественное вдохновение?
Федр. В самом деле, Сократ, ты, против обыкновения, так и увлекаешься каким-то потоком речи.
Сократ. Слушай же меня и молчи. Видимо, это место действительно священное, а потому не удивляйся, если во время своей речи и я часто буду пленником нимфы. Ведь и теперь-то сказанное почти уже звучит дифирамбом.
Федр. Весьма справедливо.
Сократ. А все ты причиной. Однако ж слушай далее, иначе наитие, пожалуй, и оставит меня. Да об этом пусть печется бог, а мое дело – продолжать беседу с мальчиком:
Хорошо, мой милый; теперь предмет нашего совещания высказан и определен. Будем же, смотря на него, говорить о прочем, то есть что полезного или вредного получит от любящего и от нелюбящего тот, кто им уступает?