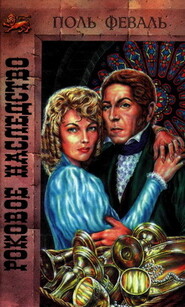По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карнавальная ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В руках ничего, в карманах пусто! Мне не страшно, пускай ревностный глаз властей копается в моем прошлом, а что до хранимых мною секретов, то я сумею их не разболтать и под самой страшной пыткой!
Господин Барюк уже отвернулся и затерялся среди других групп.
В наступившем молчании были слышны выкрики подмастерий вокруг поэта:
– Ну, давай, Вояка, расскажите-ка про рождение Господина Сердце!
А чуть дальше ласковый басок бедняги Эшалота твердил с невозмутимым терпением:
– Саладен, будь умничкой. Большой парень – и соску все сосет, засмеют ведь! Ты мне потом спасибо скажешь!
– Смирно! – приказал Вояка Гонрекен. – Вот вам байка, которую каждый год рассказывают на празднике Господина Сердце для новичков. Называется «рождество Господина Сердце», но это неудачное название, ведь Господин Сердце имеет на вид от роду лет двадцать восемь – тридцать, а дело было в тысячу восемьсот тридцать втором году, в средопостную ночь. Просто он родился в эту ночь для нас, и того довольно. Готовы? Ага, славно. Каскадену приказываю помолчать. Это было в годы правления супругов Лампион, сменивших Тамерлана, царство ему небесное. Господин Лампион был не без таланту, но его мадам чересчур любила покушать. Дела мастерской шли неважно. Господин Барюк искал, где б ему заняться торговлей, я что-то такое ни шатко ни валко малевал. А что вы думали! Чтобы развернуться во всю мочь, нужен успех! Ну так мы бесчинствовали в «Возрождении Венеры» у Итальянской заставы, у Обрубка: проедали его вывеску. Цыц! А то не буду рассказывать! Ну, возвращаемся с гулянки под утро в мастерскую, пешком, хозяин с хозяйкой в фиакре, круглые как мячики: фиакр подъезжал вон там, с улицы, и вдруг лошади стали как вкопанные. Дикобраз орет: «Живо вперед!» Я говорю: «Время летит как на крыльях!» Кучер нахлестывает, проку ни малейшего. Потом иду я к передку повозки посмотреть, что там так не понравилось лошадям.
– Это был я! – прервал его господин Барюк.
– Чудно! – насмешливо ответил Вояка. – Это были вы. Но кто из нас двоих крикнул: «Господи! Женщина! Не может быть!»
– Так то была женщина? – спросил удивленный Каскаден.
– Именно, щенок, вся в черном и в полнейшем беспамятстве. Лошади отказались ее давить. Это у них такой научный инстинкт.
– И мы ее подняли и принесли сюда, и, придя в чувство, бедный молодой человек прошептал: «О матушка моя!»
– Как?! Молодой человек?! – раздалось со всех сторон. – Что еще за молодой человек?!
– Господин Гонрекен! – провозгласил Барюк. – Вы обмишулились с вашей «эффектой»! Придется исправлять!
– Это был он! – буркнул Вояка. – Уже и так все угадали! Ведь вы угадали, братцы? И все же добавлю для ясности, что женщина в черном – это был маскарад, под которым неизвестный прятал свой пол и свои невзгоды, теперь ясно? Его тайна так и осталась для всех тайной. Если господин Барюк ее знает, пусть расскажет: буду весьма рад услышать. Несколько месяцев он пролежал больной; хозяева, умилившись его добродетелями, предложили ему руку мадемуазель, которой давно домогался присутствующий здесь господин Барюк. Получай!
– Да и сами вы домогались, – поправил Дикобраз. – Кстати!
Вояка испустил протяжный вздох.
– Она плохо кончила, – пробормотал он, – но была в ней некая изюмина! Я ее каждый год вспоминаю, как наступает праздник Господина Сердца. Чужак не захотел жениться на барышне, и был прав: уж больно воспитание разное. Но хозяева все равно поселили его в дальнем павильоне писать портреты, и виды, и всякие безделицы – красивые, кому нравится, но на которых ни гроша не заработаешь.
– Господин Сердце настоящий живописец, вот и все! – торжественно проронил господин Барюк.
– Ничего на потребу не делает! – подтвердил Гонрекен Вояка. – И доказательством тому то, что когда его единодушно избрали главой и патриархом мастерской после смерти господина и госпожи Лампион, постигшей их согласно законам естества, вследствие обычных излишеств и нескончаемых кутежей, Господин Сердце любезно согласился делать там и сям правку рукой мастера на наших полотнах. И зря! Клиенты, как увидели ноги нормальной длины и глаза на месте, стали прямо-таки выходить из себя и говорили: «Вы что, за обывателей нас принимаете?» Вот почему Господин Сердце для нашей мастерской и гордость, и роскошь; но главное, чтобы он ни к чему не прикасался! Пока он не притрагивается к этой кухне, все идет как надо. Так велит рынок; образование здесь не нужно, нужен лишь гений. Но да здравствует Господин Сердце! За его праздник!
Голоса господина Барюка не было слышно в общем хоре восклицаний, заглушивших в конце речь Вояки. Да ведь он боготворил Господина Сердце. Вот уже несколько секунд как он, позабыв о своем друге-сопернике Гонрекене, вновь обратил внимание на кружок, собравшийся послушать разглагольствования Симилора. Пока Вояка Гонрекен, сменив предмет обсуждения, с грустью толковал своим подмалевщикам о Черных Мантиях, о выставленном на продажу доме и нависшей угрозе выселения мастерской, господин Барюк, наполовину скрытый печной трубою, ловил слова Симилора, который, тесно сбившись в кучку с госпожой Вашри, Медведем, Физиком, Альбиносом, Поэтом и исполнителем первых ролей, с таинственным видом говорил:
– Надо быть начеку! На какие-то полчаса. Дела с этим «Будет ли завтра день?» подзахирели, но время от времени еще можно сладить дельце. Я сто франков получил за то, что немножко прогулялся на угол улицы Кассет в тот день, когда они влезли в окно к нотариусу из третьего дома. Если вам подходит работа, вас представят, но ни слова вон тому придурку: это не мужчина! Он опустился до того, что стал как кормилица!
Он тыкал пальцем в Эшалота, который уже на грани отчаяния только что насильно затолкал пальцем кусок колбасы в глотку Саладена. Ребенок давился и орал как резаный. Эшалот, довольный достигнутым, тихонько похлопывал его меж лопаток, приговаривая:
– Видишь, не Бог весть как сложно! Ты и сам не заметил, как перешел на взрослую пищу, и теперь, Саладен, ты мой должник до конца дней!
Несчастное дитя дернулось в последней судороге и затихло.
– Ну вот, – одобрил Эшалот, – теперь баиньки. А я позавтракаю.
В это мгновение Каскаден, последний из последних, распахнул настежь обе створки дверей, и по всей мастерской разнесся его крик:
– Черные Мантии!
И объявил, приподняв свой картуз:
– Имею честь доложить о прибытии Черных Мантий, собирающихся поиграть с нами в «убирайся, здесь буду жить я»! Поприветствуем!
ЧЕРНЫЕ МАНТИИ
Каскаден скрылся, с шутовским почтением размахивая своей бумажной шапкой, и Черные Мантии вошли. Мастерская Каменного Сердца перестала жевать; Вояка Гонрекен только что заклеймил этих, как ему казалось, разорителей домов. Против этих гнусных Черных Мантий настроены все, кого они притесняют, и многие другие; по самой природе своей они из тех, кого ненавидят все. Из гущи дымного облака, подпитываемого множеством горящих трубок, мазилы, натурщики и клиенты неприветливо взирали на прибывших.
Наши Черные Мантии состояли из двух очаровательных девиц в меховых накидках и чистеньких утренних туалетах, и печального, доброго с виду господина, что не вязалось, разумеется, с образом кровопийцы, ненавистным всем людям из мира искусства. Мастерская Каменного Сердца никакого этажа в мире искусства не занимала, а ютилась в глубоком-преглубоком подвале, но в каждом ремесленнике сидит хоть капля рыцаря – даже когда, обмокнув в ведро с краской мочало, малюет базарную вывеску самого страхолюдного вида. Завидев Ниту и Розу, сей непонятливый народец разом переменил свой настрой, расступился и снял шапки.
Одна госпожа Вашри, скорчив рожу, выкрикнула:
– Ишь ты! Две девицы на одного господина! Извиняйте!
Мы знаем, что Нита покинула особняк де Клар с намереньем «как следует позабавиться», а именно посмотреть одну из причудливейших диковин парижского дна.
Однако разговор с Розой переменил ее настроение и обратил к мыслям совсем иного рода. Нита была девушка нрава смелого, открытого и веселого; детство она провела рядом с отцом, блуждая в одиночестве среди почти королевской роскоши. Потом настал год траура, проведенный в Обители Сердца Христова, где все – от наставниц до пансионерок – обращались с ней как с принцессою. Первые слабые признаки того, что называют «утехами», она узнала лишь после возвращения в особняк де Клар, где теперь жили граф и графиня дю Бреу. Там вращалось многочисленное и блестящее общество, и Нита, даже не особенно приглядываясь, отмечала его странную разношерстность.
Она, верно, была еще не готова как следует над этим подумать.
Многие семейства, громкие имена которых ежечасно звучали вокруг со времен ее отца, постоянно навещали этот дом и являлись на званые понедельники госпожи графини; но в этом тесном кругу случались и люди, явно не заслужившие себе гербов в крестовых походах. Сама графиня, дама высокого тона и большого ума, порой впадала в странности, и тогда казалась блестящей комедианткой, утомленной исполнением своей роли.
Эти утром в разговоре с подругой Ниту поразила одна вещь: нотариус Леон де Мальвуа не желал, чтобы его сестра бывала в доме де Клар по той причине, что – именно так выразилась Роза – «Леон де Мальвуа был знаком с графиней в годы ее молодости». Что за странное и тяжкое обвинение?!
В раздумьях над сим предметом Нита поняла, что и в ее душе уже давно живет закравшееся туда недоверие, хотя и не могла объяснить его причин. Жена ее опекуна никогда не внушала ей особых симпатий.
Но что за пропасть между этой детской неприязнью и открытым презрением Леона де Мальвуа!
Нита припомнила: при жизни герцог де Клар выказывал особое уважение к молодому нотариусу, а мать Франсуаза Ассизская сделала его своим душеприказчиком.
С другой стороны, у графини почти не упоминали о Леоне де Мальвуа. Нита не вслушивалась в разговоры о делах, но дружеские чувства к Розе иногда обостряли ее слух, и кое-какие неприятные вести она уловила. Нита знала, что графиня намеревалась передать ее дела в другие руки; знала также, что причиной тому были некие опасения графини: по ее словам, положение молодого нотариуса было весьма шатким.
Следовало бы тотчас добавить, что в этом мнение графини не совпадало с мнением остального общества. В кругу коллег, доверителей и повсюду Леон де Мальвуа, несмотря на молодость, слыл не просто уважаемым, а едва ли не почитаемым человеком.
Чутье Ниты быстро подсказало ей, к которому из этих суждений примкнуть – графининому или общему.
И не случайно мы произнесли здесь слово «чутье»; нам остается объявить, что большинство жителей предместья Сен-Жермен успело заменить его словом «предрассудок». В глазах света графиня де Клар была идеальной дамой, прекрасно сочетавшей непреклонную добродетель с самой модной изысканностью. Она создала себе славу женщины благочестивой; богоугодные дела, устраиваемые под ее покровительством, служили ей надежной защитой; она водила знакомство со многими высокопоставленными особами; поговаривали, что графиня причастна к некоторым политическим комбинациям.
Она была еще молода, хороша собой и отличалась редкой живостью ума. Для страдающего мужа у нее были наготове материнские и дочерние чувства. Конечно, стоило ей захотеть, она могла бы скинуть соперников с капризной колесницы моды, чтобы править ею твердою рукой. Но она этого не желала, – вернее, она желала большего.
В ее отношениях с Нитой, своей подопечной, даже самый придирчивый судья не нашел бы в чем ее упрекнуть. Отношения эти состояли в одном лишь исполнении важного долга. Нита обрела в графине не мать, но благожелательную и спокойную подругу; в ее семье Нита жила в довольстве и пользовалась свободой. Графиня, казалось, равно остерегалась как излишней властности, так и преувеличенного радушия, которое в отношении столь богатой наследницы легко принимает черты заискивания.
Все было просто, честно и достойно. Когда мы упоминали здесь о комедии и о роли, в которой проглядывала усталость, это касалось дел домашних. Пред лицом же света роль исполнялась безупречно, и свет, пораженный этим невиданным родственным чувством, невесть откуда взявшимся так внезапно и в нужный момент, сошелся на том, что все обстоит как нельзя лучше.
Господин Барюк уже отвернулся и затерялся среди других групп.
В наступившем молчании были слышны выкрики подмастерий вокруг поэта:
– Ну, давай, Вояка, расскажите-ка про рождение Господина Сердце!
А чуть дальше ласковый басок бедняги Эшалота твердил с невозмутимым терпением:
– Саладен, будь умничкой. Большой парень – и соску все сосет, засмеют ведь! Ты мне потом спасибо скажешь!
– Смирно! – приказал Вояка Гонрекен. – Вот вам байка, которую каждый год рассказывают на празднике Господина Сердце для новичков. Называется «рождество Господина Сердце», но это неудачное название, ведь Господин Сердце имеет на вид от роду лет двадцать восемь – тридцать, а дело было в тысячу восемьсот тридцать втором году, в средопостную ночь. Просто он родился в эту ночь для нас, и того довольно. Готовы? Ага, славно. Каскадену приказываю помолчать. Это было в годы правления супругов Лампион, сменивших Тамерлана, царство ему небесное. Господин Лампион был не без таланту, но его мадам чересчур любила покушать. Дела мастерской шли неважно. Господин Барюк искал, где б ему заняться торговлей, я что-то такое ни шатко ни валко малевал. А что вы думали! Чтобы развернуться во всю мочь, нужен успех! Ну так мы бесчинствовали в «Возрождении Венеры» у Итальянской заставы, у Обрубка: проедали его вывеску. Цыц! А то не буду рассказывать! Ну, возвращаемся с гулянки под утро в мастерскую, пешком, хозяин с хозяйкой в фиакре, круглые как мячики: фиакр подъезжал вон там, с улицы, и вдруг лошади стали как вкопанные. Дикобраз орет: «Живо вперед!» Я говорю: «Время летит как на крыльях!» Кучер нахлестывает, проку ни малейшего. Потом иду я к передку повозки посмотреть, что там так не понравилось лошадям.
– Это был я! – прервал его господин Барюк.
– Чудно! – насмешливо ответил Вояка. – Это были вы. Но кто из нас двоих крикнул: «Господи! Женщина! Не может быть!»
– Так то была женщина? – спросил удивленный Каскаден.
– Именно, щенок, вся в черном и в полнейшем беспамятстве. Лошади отказались ее давить. Это у них такой научный инстинкт.
– И мы ее подняли и принесли сюда, и, придя в чувство, бедный молодой человек прошептал: «О матушка моя!»
– Как?! Молодой человек?! – раздалось со всех сторон. – Что еще за молодой человек?!
– Господин Гонрекен! – провозгласил Барюк. – Вы обмишулились с вашей «эффектой»! Придется исправлять!
– Это был он! – буркнул Вояка. – Уже и так все угадали! Ведь вы угадали, братцы? И все же добавлю для ясности, что женщина в черном – это был маскарад, под которым неизвестный прятал свой пол и свои невзгоды, теперь ясно? Его тайна так и осталась для всех тайной. Если господин Барюк ее знает, пусть расскажет: буду весьма рад услышать. Несколько месяцев он пролежал больной; хозяева, умилившись его добродетелями, предложили ему руку мадемуазель, которой давно домогался присутствующий здесь господин Барюк. Получай!
– Да и сами вы домогались, – поправил Дикобраз. – Кстати!
Вояка испустил протяжный вздох.
– Она плохо кончила, – пробормотал он, – но была в ней некая изюмина! Я ее каждый год вспоминаю, как наступает праздник Господина Сердца. Чужак не захотел жениться на барышне, и был прав: уж больно воспитание разное. Но хозяева все равно поселили его в дальнем павильоне писать портреты, и виды, и всякие безделицы – красивые, кому нравится, но на которых ни гроша не заработаешь.
– Господин Сердце настоящий живописец, вот и все! – торжественно проронил господин Барюк.
– Ничего на потребу не делает! – подтвердил Гонрекен Вояка. – И доказательством тому то, что когда его единодушно избрали главой и патриархом мастерской после смерти господина и госпожи Лампион, постигшей их согласно законам естества, вследствие обычных излишеств и нескончаемых кутежей, Господин Сердце любезно согласился делать там и сям правку рукой мастера на наших полотнах. И зря! Клиенты, как увидели ноги нормальной длины и глаза на месте, стали прямо-таки выходить из себя и говорили: «Вы что, за обывателей нас принимаете?» Вот почему Господин Сердце для нашей мастерской и гордость, и роскошь; но главное, чтобы он ни к чему не прикасался! Пока он не притрагивается к этой кухне, все идет как надо. Так велит рынок; образование здесь не нужно, нужен лишь гений. Но да здравствует Господин Сердце! За его праздник!
Голоса господина Барюка не было слышно в общем хоре восклицаний, заглушивших в конце речь Вояки. Да ведь он боготворил Господина Сердце. Вот уже несколько секунд как он, позабыв о своем друге-сопернике Гонрекене, вновь обратил внимание на кружок, собравшийся послушать разглагольствования Симилора. Пока Вояка Гонрекен, сменив предмет обсуждения, с грустью толковал своим подмалевщикам о Черных Мантиях, о выставленном на продажу доме и нависшей угрозе выселения мастерской, господин Барюк, наполовину скрытый печной трубою, ловил слова Симилора, который, тесно сбившись в кучку с госпожой Вашри, Медведем, Физиком, Альбиносом, Поэтом и исполнителем первых ролей, с таинственным видом говорил:
– Надо быть начеку! На какие-то полчаса. Дела с этим «Будет ли завтра день?» подзахирели, но время от времени еще можно сладить дельце. Я сто франков получил за то, что немножко прогулялся на угол улицы Кассет в тот день, когда они влезли в окно к нотариусу из третьего дома. Если вам подходит работа, вас представят, но ни слова вон тому придурку: это не мужчина! Он опустился до того, что стал как кормилица!
Он тыкал пальцем в Эшалота, который уже на грани отчаяния только что насильно затолкал пальцем кусок колбасы в глотку Саладена. Ребенок давился и орал как резаный. Эшалот, довольный достигнутым, тихонько похлопывал его меж лопаток, приговаривая:
– Видишь, не Бог весть как сложно! Ты и сам не заметил, как перешел на взрослую пищу, и теперь, Саладен, ты мой должник до конца дней!
Несчастное дитя дернулось в последней судороге и затихло.
– Ну вот, – одобрил Эшалот, – теперь баиньки. А я позавтракаю.
В это мгновение Каскаден, последний из последних, распахнул настежь обе створки дверей, и по всей мастерской разнесся его крик:
– Черные Мантии!
И объявил, приподняв свой картуз:
– Имею честь доложить о прибытии Черных Мантий, собирающихся поиграть с нами в «убирайся, здесь буду жить я»! Поприветствуем!
ЧЕРНЫЕ МАНТИИ
Каскаден скрылся, с шутовским почтением размахивая своей бумажной шапкой, и Черные Мантии вошли. Мастерская Каменного Сердца перестала жевать; Вояка Гонрекен только что заклеймил этих, как ему казалось, разорителей домов. Против этих гнусных Черных Мантий настроены все, кого они притесняют, и многие другие; по самой природе своей они из тех, кого ненавидят все. Из гущи дымного облака, подпитываемого множеством горящих трубок, мазилы, натурщики и клиенты неприветливо взирали на прибывших.
Наши Черные Мантии состояли из двух очаровательных девиц в меховых накидках и чистеньких утренних туалетах, и печального, доброго с виду господина, что не вязалось, разумеется, с образом кровопийцы, ненавистным всем людям из мира искусства. Мастерская Каменного Сердца никакого этажа в мире искусства не занимала, а ютилась в глубоком-преглубоком подвале, но в каждом ремесленнике сидит хоть капля рыцаря – даже когда, обмокнув в ведро с краской мочало, малюет базарную вывеску самого страхолюдного вида. Завидев Ниту и Розу, сей непонятливый народец разом переменил свой настрой, расступился и снял шапки.
Одна госпожа Вашри, скорчив рожу, выкрикнула:
– Ишь ты! Две девицы на одного господина! Извиняйте!
Мы знаем, что Нита покинула особняк де Клар с намереньем «как следует позабавиться», а именно посмотреть одну из причудливейших диковин парижского дна.
Однако разговор с Розой переменил ее настроение и обратил к мыслям совсем иного рода. Нита была девушка нрава смелого, открытого и веселого; детство она провела рядом с отцом, блуждая в одиночестве среди почти королевской роскоши. Потом настал год траура, проведенный в Обители Сердца Христова, где все – от наставниц до пансионерок – обращались с ней как с принцессою. Первые слабые признаки того, что называют «утехами», она узнала лишь после возвращения в особняк де Клар, где теперь жили граф и графиня дю Бреу. Там вращалось многочисленное и блестящее общество, и Нита, даже не особенно приглядываясь, отмечала его странную разношерстность.
Она, верно, была еще не готова как следует над этим подумать.
Многие семейства, громкие имена которых ежечасно звучали вокруг со времен ее отца, постоянно навещали этот дом и являлись на званые понедельники госпожи графини; но в этом тесном кругу случались и люди, явно не заслужившие себе гербов в крестовых походах. Сама графиня, дама высокого тона и большого ума, порой впадала в странности, и тогда казалась блестящей комедианткой, утомленной исполнением своей роли.
Эти утром в разговоре с подругой Ниту поразила одна вещь: нотариус Леон де Мальвуа не желал, чтобы его сестра бывала в доме де Клар по той причине, что – именно так выразилась Роза – «Леон де Мальвуа был знаком с графиней в годы ее молодости». Что за странное и тяжкое обвинение?!
В раздумьях над сим предметом Нита поняла, что и в ее душе уже давно живет закравшееся туда недоверие, хотя и не могла объяснить его причин. Жена ее опекуна никогда не внушала ей особых симпатий.
Но что за пропасть между этой детской неприязнью и открытым презрением Леона де Мальвуа!
Нита припомнила: при жизни герцог де Клар выказывал особое уважение к молодому нотариусу, а мать Франсуаза Ассизская сделала его своим душеприказчиком.
С другой стороны, у графини почти не упоминали о Леоне де Мальвуа. Нита не вслушивалась в разговоры о делах, но дружеские чувства к Розе иногда обостряли ее слух, и кое-какие неприятные вести она уловила. Нита знала, что графиня намеревалась передать ее дела в другие руки; знала также, что причиной тому были некие опасения графини: по ее словам, положение молодого нотариуса было весьма шатким.
Следовало бы тотчас добавить, что в этом мнение графини не совпадало с мнением остального общества. В кругу коллег, доверителей и повсюду Леон де Мальвуа, несмотря на молодость, слыл не просто уважаемым, а едва ли не почитаемым человеком.
Чутье Ниты быстро подсказало ей, к которому из этих суждений примкнуть – графининому или общему.
И не случайно мы произнесли здесь слово «чутье»; нам остается объявить, что большинство жителей предместья Сен-Жермен успело заменить его словом «предрассудок». В глазах света графиня де Клар была идеальной дамой, прекрасно сочетавшей непреклонную добродетель с самой модной изысканностью. Она создала себе славу женщины благочестивой; богоугодные дела, устраиваемые под ее покровительством, служили ей надежной защитой; она водила знакомство со многими высокопоставленными особами; поговаривали, что графиня причастна к некоторым политическим комбинациям.
Она была еще молода, хороша собой и отличалась редкой живостью ума. Для страдающего мужа у нее были наготове материнские и дочерние чувства. Конечно, стоило ей захотеть, она могла бы скинуть соперников с капризной колесницы моды, чтобы править ею твердою рукой. Но она этого не желала, – вернее, она желала большего.
В ее отношениях с Нитой, своей подопечной, даже самый придирчивый судья не нашел бы в чем ее упрекнуть. Отношения эти состояли в одном лишь исполнении важного долга. Нита обрела в графине не мать, но благожелательную и спокойную подругу; в ее семье Нита жила в довольстве и пользовалась свободой. Графиня, казалось, равно остерегалась как излишней властности, так и преувеличенного радушия, которое в отношении столь богатой наследницы легко принимает черты заискивания.
Все было просто, честно и достойно. Когда мы упоминали здесь о комедии и о роли, в которой проглядывала усталость, это касалось дел домашних. Пред лицом же света роль исполнялась безупречно, и свет, пораженный этим невиданным родственным чувством, невесть откуда взявшимся так внезапно и в нужный момент, сошелся на том, что все обстоит как нельзя лучше.