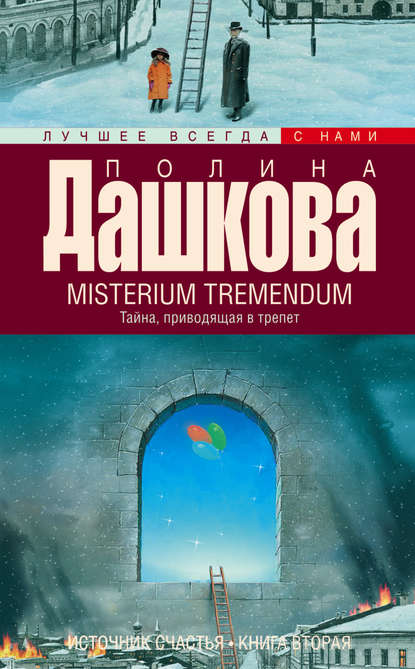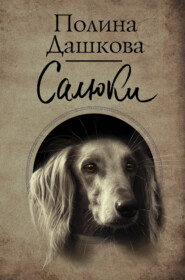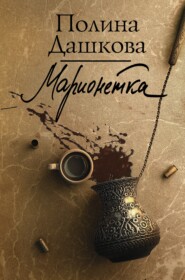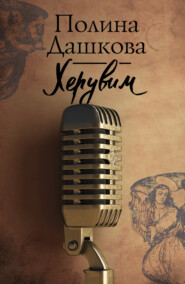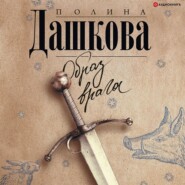По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
Серия
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Москва, 1918
Корреспондент «Правды» не пожалел красок, описывая пышные похороны комиссара по делам печати. До роковых выстрелов Володарский был известен лишь тем, что закрыл все оппозиционные газеты. После смерти он мгновенно преобразился в легендарного героя революции.
«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи, злобы. Ибо плачет сегодня петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и трибуна своего. Беспрерывной чередой проходят мимо гроба сотни и тысячи рабочих, красноармейцев, женщин. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся у гроба на память».
– Похоже, они рады, они торжествуют, – шепотом заметил Агапкин, встретившись с Мастером через пару дней в том же трактире, – они празднуют эту смерть как свою личную победу.
Колбасы в трактире уже не подавали, но картофельные оладьи оказались вполне съедобными. К ним принесли топленое масло в маленьких соусниках. Оно было старым, горчило, пахло плесенью, однако Федор, жмурясь от удовольствия, съел все, до последней крошки.
– Всякая религия нуждается в святых мучениках, – грустно усмехнулся Мастер и чуть слышно добавил: – Нет страшнее греха, чем воровать у своих.
– Володарский воровал? Они сами его устранили? – шепотом спросил Федор, поперхнулся куском и мучительно закашлялся.
– Какая разница? – Мастер сильно хлопнул его ладонью по спине. – Правды все равно никто никогда не узнает. Останутся официальные мифы и невозможная путаница слухов. Будьте осторожны, Дисипль. Это только начало. Молчите, слушайте, мотайте на ус.
Мрачно возвышенный тон большевистских передовиц вполне отражал то общее настроение возбуждения, приподнятости, траурного торжества, которое царило в Кремле.
После убийства Володарского вождь бегал по кабинету, голос его стал сиплым, руки тряслись так сильно, что писать он не мог. Он диктовал приказы, распоряжения, бесконечные записки, выступал на заседаниях, кричал в телефонную трубку, одинаково нервно, шла ли речь об арестах, расстрелах, дипломатических переговорах или о норме отпуска хлеба и хозяйственного мыла железнодорожным рабочим.
Рядом с энергичным вождем Агапкин чувствовал себя вялой бесплотной тенью. Формально его начальником был Дзержинский, но еще ни разу Железный Феликс не отдал ему ни одного приказания, не потребовал отчета, даже вопроса ни одного не задал. После быстрого знакомства, сухого рукопожатия они лишь здоровались, встречаясь в кремлевских коридорах, в зале заседаний, в кабинете или в квартире Ленина.
Польский дворянин, невысокий худой блондин с жидкой бородкой, лицом полинявшего монгольского хана и вкрадчивыми повадками то ли тайного иезуита, то ли карточного шулера, улыбался Агапкину, вежливо раскланивался с ним. Всякий раз при встрече Федора слегка знобило.
Остальные обитатели Кремля и Лубянки старались смотреть мимо Агапкина, редко кто перекидывался с ним парой слов. Чужак, беспартийный, без революционного стажа, но с законченным высшим образованием. По их разумению, он не имел никакого права так легко и стремительно взлететь на самый верх их номенклатурной пирамиды, стать доверенным лицом Ильича.
Послания для Бокия вождь никогда не писал при свидетелях. Никто, кроме Агапкина, не знал об этой переписке. Федор передавал маленькие, сложенные вчетверо, не запечатанные в конверты клочки бумаги Гайду, тот доставлял их в Питер и привозил ответы от Бокия, точно такие же клочки. Ленин быстро читал, потом Агапкин жег бумажки в большой медной пепельнице. Он перестал заглядывать в записки, чтобы больше не бледнеть и не вздрагивать.
Кроме связного, Федор был еще и личным врачом вождя, и это тоже держалось в строжайшей тайне.
Доктор Агапкин многому научился у профессора Свешникова. Он стал неплохим диагностом, но не мог понять, чем именно болен вождь. Приступы головной боли удавалось облегчать специальным массажем. Федор, смазав руки мятным бальзамом, по тридцать – сорок минут разминал ленинские виски, ушные раковины, затылок, заднюю часть шеи. Горячие ножные ванны с отварами трав расширяли сосуды. Истерические припадки удавалось купировать настойкой мелиссы, пустырника и валерианового корня, массажем кистей рук и стоп. Особая дыхательная гимнастика под руководством Федора помогала вождю уснуть.
Иногда перед сном Ленин вдруг брал с полки альбом с семейными фотографиями, долго, молча перелистывал, поглаживал пальцем лица матери, отца, братьев, сестер, вглядывался в кудрявого, ангельски хорошенького мальчика, которым он был когда-то, и по щекам его текли настоящие, крупные слезы. Он шумно сморкался, мягкий курносый нос краснел, он поднимал лицо, глядел в стену, и глаза его, обычно узкие, сощуренные, становились огромными, как блюдца.
Такими же огромными стали эти глаза, когда однажды Ленин развернул очередное послание от Бокия. Клочок бумаги выпал из толстых пальцев, подхваченный легким сквозняком, пролетел в другой конец кабинета.
– Проститутка! Сволочь! Предатель! – выкрикнул вождь, побагровел и стал заваливаться на бок.
Федор едва успел подхватить его, не дал грохнуться со стула. Припадок был таким мощным, что у Федора мелькнула мысль: один не справлюсь, надо звать на помощь.
На руках он дотащил бьющееся в судорогах державное тело до дивана, влил в рычащую мокрую пасть успокоительную настойку, принялся за массаж, мял горячие ушные раковины, натирал виски бальзамом, ловил дергающиеся маленькие ступни, массировал, бормотал, как заклинание:
– Владимир Ильич, тихо, тихо, сейчас все пройдет, все будет хорошо.
Наконец судороги ослабли, дыхание стало частым, хриплым. Федор посчитал пульс, припал ухом к груди. Сердце вождя билось быстро, но ровно. Он постепенно приходил в себя. Федор приподнял ему голову, дал воды.
– Как вы, Владимир Ильич?
Вождь хрипло дышал ртом, глаза прикрыты, лицо багровое, мокрое от пота. Тело несколько раз дернулось и тяжело, расслаблено обмякло. Припадок закончился.
– Дзержинского ко мне, – пробормотал он, едва шевеля вялыми губами.
Записка валялась на полу, возле телефонного столика. Прежде чем снять трубку, Федор нагнулся, поднял. Вождь отдыхал после припадка, глаза его были плотно закрыты. Повернувшись спиной к дивану, Федор взглянул на мелкие косые строчки и неожиданно для себя прочитал все, от первой до последней буквы.
«Мирбах – рейхсканцлеру Гертлингу. Лично, сов. секретно.
Ввиду возрастающей неустойчивости большевиков мы должны подготовиться к перегруппировке сил. Монархисты и кадеты, возможно, составят ядро будущего нового порядка. С должными мерами предосторожности и, соответственно, замаскированно мы начали бы с предоставления этим кругам желательных им денежных средств. Большевистская система находится в агонии.
При сильной конкуренции Антанты требуется около трех миллионов марок в месяц. В случае неизбежного в скором времени изменения нашей политической линии следует считаться с более высокими потребностями».
«Ф. Кюльман (статс-секретарь Имперского казначейства) – Мирбаху, лично, сов. секретно.
Запрошенная Вами ежемесячная сумма предоставляется впредь до особого распоряжения. Прошу в особенности противодействовать влиянию Антанты в означенных Вами кругах всеми способами».
– Записку спрятали, не забыли? – послышался спокойный голос с дивана.
– Да, Владимир Ильич.
– Ну и славно. Феликс видеть не должен. Мне уже лучше. Звоните, наконец!
Дзержинский явился скоро, через четверть часа. Ленин сидел в кресле, за столом. Он быстро оправился, словно не было никакого припадка. Губы сжались, глаза сузились до щелочек.
Принесли чай, тарелку с бутербродами.
– Вы абсолютно уверены в надежности ваших людей в германском посольстве? – спросил вождь.
– Да, Владимир Ильич, – кивнул Дзержинский, – а что случилось?
– Случилась мерзость, – вождь перегнулся через стол. – Я получил перехваченную шифровку. Посол подробно докладывает своему правительству обо всех наших тайных подготовительных операциях.
«Что он говорит? Там ведь речь вовсе не об этом», – испуганно подумал Агапкин и вытер вспотевший лоб.
– Владимир Ильич, такая информация просто не могла миновать посла, – мягко заметил Дзержинский, – нас заранее предупредили, что придется поставить его в известность.
– Да! – резко выкрикнул Ленин. – Да! О паспортах и визах посол не может не знать. Но о наших личных зарубежных счетах он знать не должен! Разве его собачье дело, сколько и в какие банки положили вы, я, товарищ Свердлов, товарищ Троцкий? Какого черта?! Именно за это и было заплачено вашим верным людям! И вот, оказывается, послу все известно! Теперь их поганые газетенки начнут вопить, что мы наложили в штаны и готовимся бежать из России!
Федор сидел в углу, у окна. «Хитрит, бес. Реальное содержание шифровки подменяет вымышленным. Врет даже своему железному псу», – пронеслось у него в голове.
Он не видел лица Дзержинского, но заметил, как натянулась кожа на узком бритом затылке.
– Это ложь, грязная провокация. Господина посла нарочно ввели в заблуждение. Мы найдем виновных и накажем их.
– Феликс Эдмундович, не будьте младенцем! – вождь покачал головой и оскалился в злой усмешке. – Ну, расстреляете вы десять, сто, тысячу провокаторов и предателей. Все равно буржуазная пресса подхватит и разнесет этот скандал. Чем активней мы будем опровергать их грязную клевету, тем больше людей на Западе в нее поверит. Да и эта сволочь, господин посол, вряд ли согласится встать на нашу сторону в таком щекотливом вопросе.
– Что же делать?
– Единственный способ погасить скандал – устроить другой, еще более громкий. Как поживает ваш новый сотрудник, отчаянный юноша, друг поэтов и артистов? – Ленин подмигнул и хихикнул.
Москва, 1918
Корреспондент «Правды» не пожалел красок, описывая пышные похороны комиссара по делам печати. До роковых выстрелов Володарский был известен лишь тем, что закрыл все оппозиционные газеты. После смерти он мгновенно преобразился в легендарного героя революции.
«Еще с утра над городом повисли мрачные свинцовые тучи и льет непрекращающийся проливной дождь. Льет дождь и сливается со слезами горечи, злобы. Ибо плачет сегодня петроградский рабочий, провожая останки убитого вождя и трибуна своего. Беспрерывной чередой проходят мимо гроба сотни и тысячи рабочих, красноармейцев, женщин. Слышатся рыдания, клятвы. Цветы и венки берутся у гроба на память».
– Похоже, они рады, они торжествуют, – шепотом заметил Агапкин, встретившись с Мастером через пару дней в том же трактире, – они празднуют эту смерть как свою личную победу.
Колбасы в трактире уже не подавали, но картофельные оладьи оказались вполне съедобными. К ним принесли топленое масло в маленьких соусниках. Оно было старым, горчило, пахло плесенью, однако Федор, жмурясь от удовольствия, съел все, до последней крошки.
– Всякая религия нуждается в святых мучениках, – грустно усмехнулся Мастер и чуть слышно добавил: – Нет страшнее греха, чем воровать у своих.
– Володарский воровал? Они сами его устранили? – шепотом спросил Федор, поперхнулся куском и мучительно закашлялся.
– Какая разница? – Мастер сильно хлопнул его ладонью по спине. – Правды все равно никто никогда не узнает. Останутся официальные мифы и невозможная путаница слухов. Будьте осторожны, Дисипль. Это только начало. Молчите, слушайте, мотайте на ус.
Мрачно возвышенный тон большевистских передовиц вполне отражал то общее настроение возбуждения, приподнятости, траурного торжества, которое царило в Кремле.
После убийства Володарского вождь бегал по кабинету, голос его стал сиплым, руки тряслись так сильно, что писать он не мог. Он диктовал приказы, распоряжения, бесконечные записки, выступал на заседаниях, кричал в телефонную трубку, одинаково нервно, шла ли речь об арестах, расстрелах, дипломатических переговорах или о норме отпуска хлеба и хозяйственного мыла железнодорожным рабочим.
Рядом с энергичным вождем Агапкин чувствовал себя вялой бесплотной тенью. Формально его начальником был Дзержинский, но еще ни разу Железный Феликс не отдал ему ни одного приказания, не потребовал отчета, даже вопроса ни одного не задал. После быстрого знакомства, сухого рукопожатия они лишь здоровались, встречаясь в кремлевских коридорах, в зале заседаний, в кабинете или в квартире Ленина.
Польский дворянин, невысокий худой блондин с жидкой бородкой, лицом полинявшего монгольского хана и вкрадчивыми повадками то ли тайного иезуита, то ли карточного шулера, улыбался Агапкину, вежливо раскланивался с ним. Всякий раз при встрече Федора слегка знобило.
Остальные обитатели Кремля и Лубянки старались смотреть мимо Агапкина, редко кто перекидывался с ним парой слов. Чужак, беспартийный, без революционного стажа, но с законченным высшим образованием. По их разумению, он не имел никакого права так легко и стремительно взлететь на самый верх их номенклатурной пирамиды, стать доверенным лицом Ильича.
Послания для Бокия вождь никогда не писал при свидетелях. Никто, кроме Агапкина, не знал об этой переписке. Федор передавал маленькие, сложенные вчетверо, не запечатанные в конверты клочки бумаги Гайду, тот доставлял их в Питер и привозил ответы от Бокия, точно такие же клочки. Ленин быстро читал, потом Агапкин жег бумажки в большой медной пепельнице. Он перестал заглядывать в записки, чтобы больше не бледнеть и не вздрагивать.
Кроме связного, Федор был еще и личным врачом вождя, и это тоже держалось в строжайшей тайне.
Доктор Агапкин многому научился у профессора Свешникова. Он стал неплохим диагностом, но не мог понять, чем именно болен вождь. Приступы головной боли удавалось облегчать специальным массажем. Федор, смазав руки мятным бальзамом, по тридцать – сорок минут разминал ленинские виски, ушные раковины, затылок, заднюю часть шеи. Горячие ножные ванны с отварами трав расширяли сосуды. Истерические припадки удавалось купировать настойкой мелиссы, пустырника и валерианового корня, массажем кистей рук и стоп. Особая дыхательная гимнастика под руководством Федора помогала вождю уснуть.
Иногда перед сном Ленин вдруг брал с полки альбом с семейными фотографиями, долго, молча перелистывал, поглаживал пальцем лица матери, отца, братьев, сестер, вглядывался в кудрявого, ангельски хорошенького мальчика, которым он был когда-то, и по щекам его текли настоящие, крупные слезы. Он шумно сморкался, мягкий курносый нос краснел, он поднимал лицо, глядел в стену, и глаза его, обычно узкие, сощуренные, становились огромными, как блюдца.
Такими же огромными стали эти глаза, когда однажды Ленин развернул очередное послание от Бокия. Клочок бумаги выпал из толстых пальцев, подхваченный легким сквозняком, пролетел в другой конец кабинета.
– Проститутка! Сволочь! Предатель! – выкрикнул вождь, побагровел и стал заваливаться на бок.
Федор едва успел подхватить его, не дал грохнуться со стула. Припадок был таким мощным, что у Федора мелькнула мысль: один не справлюсь, надо звать на помощь.
На руках он дотащил бьющееся в судорогах державное тело до дивана, влил в рычащую мокрую пасть успокоительную настойку, принялся за массаж, мял горячие ушные раковины, натирал виски бальзамом, ловил дергающиеся маленькие ступни, массировал, бормотал, как заклинание:
– Владимир Ильич, тихо, тихо, сейчас все пройдет, все будет хорошо.
Наконец судороги ослабли, дыхание стало частым, хриплым. Федор посчитал пульс, припал ухом к груди. Сердце вождя билось быстро, но ровно. Он постепенно приходил в себя. Федор приподнял ему голову, дал воды.
– Как вы, Владимир Ильич?
Вождь хрипло дышал ртом, глаза прикрыты, лицо багровое, мокрое от пота. Тело несколько раз дернулось и тяжело, расслаблено обмякло. Припадок закончился.
– Дзержинского ко мне, – пробормотал он, едва шевеля вялыми губами.
Записка валялась на полу, возле телефонного столика. Прежде чем снять трубку, Федор нагнулся, поднял. Вождь отдыхал после припадка, глаза его были плотно закрыты. Повернувшись спиной к дивану, Федор взглянул на мелкие косые строчки и неожиданно для себя прочитал все, от первой до последней буквы.
«Мирбах – рейхсканцлеру Гертлингу. Лично, сов. секретно.
Ввиду возрастающей неустойчивости большевиков мы должны подготовиться к перегруппировке сил. Монархисты и кадеты, возможно, составят ядро будущего нового порядка. С должными мерами предосторожности и, соответственно, замаскированно мы начали бы с предоставления этим кругам желательных им денежных средств. Большевистская система находится в агонии.
При сильной конкуренции Антанты требуется около трех миллионов марок в месяц. В случае неизбежного в скором времени изменения нашей политической линии следует считаться с более высокими потребностями».
«Ф. Кюльман (статс-секретарь Имперского казначейства) – Мирбаху, лично, сов. секретно.
Запрошенная Вами ежемесячная сумма предоставляется впредь до особого распоряжения. Прошу в особенности противодействовать влиянию Антанты в означенных Вами кругах всеми способами».
– Записку спрятали, не забыли? – послышался спокойный голос с дивана.
– Да, Владимир Ильич.
– Ну и славно. Феликс видеть не должен. Мне уже лучше. Звоните, наконец!
Дзержинский явился скоро, через четверть часа. Ленин сидел в кресле, за столом. Он быстро оправился, словно не было никакого припадка. Губы сжались, глаза сузились до щелочек.
Принесли чай, тарелку с бутербродами.
– Вы абсолютно уверены в надежности ваших людей в германском посольстве? – спросил вождь.
– Да, Владимир Ильич, – кивнул Дзержинский, – а что случилось?
– Случилась мерзость, – вождь перегнулся через стол. – Я получил перехваченную шифровку. Посол подробно докладывает своему правительству обо всех наших тайных подготовительных операциях.
«Что он говорит? Там ведь речь вовсе не об этом», – испуганно подумал Агапкин и вытер вспотевший лоб.
– Владимир Ильич, такая информация просто не могла миновать посла, – мягко заметил Дзержинский, – нас заранее предупредили, что придется поставить его в известность.
– Да! – резко выкрикнул Ленин. – Да! О паспортах и визах посол не может не знать. Но о наших личных зарубежных счетах он знать не должен! Разве его собачье дело, сколько и в какие банки положили вы, я, товарищ Свердлов, товарищ Троцкий? Какого черта?! Именно за это и было заплачено вашим верным людям! И вот, оказывается, послу все известно! Теперь их поганые газетенки начнут вопить, что мы наложили в штаны и готовимся бежать из России!
Федор сидел в углу, у окна. «Хитрит, бес. Реальное содержание шифровки подменяет вымышленным. Врет даже своему железному псу», – пронеслось у него в голове.
Он не видел лица Дзержинского, но заметил, как натянулась кожа на узком бритом затылке.
– Это ложь, грязная провокация. Господина посла нарочно ввели в заблуждение. Мы найдем виновных и накажем их.
– Феликс Эдмундович, не будьте младенцем! – вождь покачал головой и оскалился в злой усмешке. – Ну, расстреляете вы десять, сто, тысячу провокаторов и предателей. Все равно буржуазная пресса подхватит и разнесет этот скандал. Чем активней мы будем опровергать их грязную клевету, тем больше людей на Западе в нее поверит. Да и эта сволочь, господин посол, вряд ли согласится встать на нашу сторону в таком щекотливом вопросе.
– Что же делать?
– Единственный способ погасить скандал – устроить другой, еще более громкий. Как поживает ваш новый сотрудник, отчаянный юноша, друг поэтов и артистов? – Ленин подмигнул и хихикнул.